Текст книги "Что-то случилось"
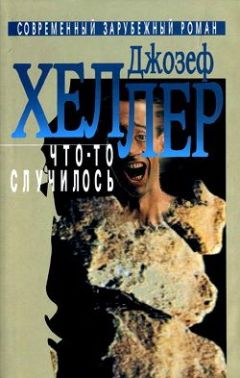
Автор книги: Джозеф Хеллер
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)
– Они только получили по заслугам, – заявила она. – Можно сказать, сами на это напрашивались.
Жена моя жалела их детей.
Надо не забывать, что не стоит слишком часто улыбаться. Надо соблюдать видимость. Надо не забывать и дальше держаться подобострастно и выставлять напоказ признательность по отношению к тем в Фирме, в университетском и загородных клубах, кто ждет, что я теперь буду смиренный, ретивый, осчастливленный и робкий. Я теперь меньше разъезжаю, больше бываю дома. (Держусь поближе к основной базе, но это, разумеется, не мой дом, а Фирма.) Жена довольна, когда я при ней, несмотря даже на то, что мы ссоримся. Дочь подозревает, что я за ней слежу. Мы подозреваем, что, когда нас нет дома, она пользуется одной из наших машин – кое у кого из ее друзей постарше есть юношеские водительские права, – а моего мальчика запугивает: мол, если он проболтается, его искалечат, выколют ему глаза. (Наверно, узнай я, что она запугивает моего мальчика, грозя смертью или увечьем, я мог бы ее убить.) Дерек сказать ничего не может. Хотел бы я понять, какие образы маячат у него в мозгу (приходится напомнить себе, что мозг-то у него есть, и уши, и глаза, которые видят и слышат) и как он способен их истолковать. Я бы не прочь подслушать, что там делается, у него в голове. Наверно, там стоит сплошной треск. Мне представляется, Дерек – вроде приемника, беспорядочные потоки картин и звуков врываются в его голову с одной стороны и выплескиваются в воздух с другой, точно радиосигналы через кочан капусты или через некий хорошо настроенный, замысловатый и высокочувствительный инструмент из керамики, вольфрама и стекла, который всем хорош, да вот только не работает. Назвать его некоей конечной станцией я не могу – ведь там ничто не завершается. Собственные мои мысли кажутся мне круговыми, шарообразными, сферическими, колесом, вертящимся, точно целый мир, в отстойнике, куда погружается все то, о чем я забываю подумать, выпадает в осадок, в вязкую тьму придонных слоев. (Я забываю даже то, что хотел бы запомнить.) Точно электронная лампа, он может вдруг раскалиться. Точно транзистор, он незаметно отзывается на диссонирующие звуки и на изменения влажности и температуры. У меня есть сын с головой как кочан капусты. Должно быть, и там существуют атмосферные и иные помехи, и, вероятно, отсюда внезапные вспышки его капризов. (У меня в голове тоже есть помехи, из-за них дома я взрываюсь и капризничаю – и готов раскроить себе череп, выпустить бы оттуда все, что давит, и от чего трещит голова.) У Дерека вправду славная мордочка. И, у других моих детей тоже, и жена для своих лет куда привлекательней всех прочих знакомых мне своих сверстниц. Хотел бы я знать, что недостроенно у него в мозгу, какие не закончены соединения. Неужто он вовсе ничего не смыслит и ему даже невдомек, что он слабоумный и вырастет кретином? Знает ли он, что ему положено желать мне смерти и бояться, что за это я его убью или кастрирую? Пусть уж держит при себе свои грязные намерения насчет моей жены. Он безупречен. Мне снится, он тоже мертв, и, проснувшись, я безутешен: мне жаль его, да притом я знаю, сон этот про меня, и я еще не окончательно хочу, чтобы он умер.
– Что тебе снилось? – спрашивает наутро жена, готовя завтрак.
– Дерек.
– Ты смеялся.
– И ты снилась. Ты валялась с чужим дядей.
– Ты смеялся.
– Ты схватила меня за член. Мне нравится, когда меня хватают за член.
– Хочешь, схвачу прямо сейчас?
– Мне ж на работу. Приготовь сегодня ужин. Ты была забавная. С огромным чернущим негром.
– Мне снился чудовищный сон.
– Ты плакала.
– Это тебе снилось?
– Ты плакала во сне.
– Что ж ты меня не разбудил? Мне снилось, я плачу и никак не могу перестать.
– Я был занят собственным сном. Может, нам приснился один и тот же сон. Тебе не снилось, что ты валяешься с дылдой – черномазым?
– Мне это ни к чему. Мне хватает тебя.
– По-моему, наша сучка все-таки гоняет без спросу либо в твоей, либо в моей машине. Он вчера за ужином начал было что-то говорить, и она уж такими злющими глазами на него уставилась.
– Спрошу у нее.
– Я ее на этом поймаю. Приготовь сегодня ужин. С удовольствием ее поймаю.
– Ты последнее время много бываешь дома.
– Ну и что?
– Да ничего. Я рада.
– И я ничего.
– И незачем кричать.
– А я не кричу. Не понимаю, почему стоит мне изредка повысить голос, и сразу упреки – мол, кричу. Все люди повышают голос. И ты тоже. Не понимаю, что тебя так раздражает.
– Это ты сегодня с утра раздражаешься. Я рада, когда ты дома. Ты даже стал посвистывать. Может, тебе стало приятно проводить время дома, с нами?
– Конечно, приятно.
– У тебя все в порядке?
– Все прекрасно. И было бы еще лучше, если б ты перестала спрашивать, все ли у меня в порядке.
– Так я и знала, этого настроения надолго не хватит.
– А еще удивляешься, что я спешу сбежать на службу.
– Если у тебя что-нибудь стряслось на службе, я бы хотела знать.
– Все прекрасно.
– У вас что-нибудь стряслось? – резко спрашивает Грин, едва я переступаю порог.
– Стряслось?
– Я спросил достаточно громко.
(О черт, он тоже сегодня бешеный и застал меня врасплох.)
– Ничего не стряслось.
– Не врите.
Он свирепо, с садистской злобой глядит на меня выпуклыми своими влажными глазами, на его разгоряченном чувственном лице, на лбу и верхней губе проступили капли пота. Обычно Грин не позволяет себе потеть на людях. (Интересно, что его сегодня утром беспокоит больше – недостаточность щитовидной железы или увеличенная предстательная.) На нем просторный мягкий костюм верблюжьей шерсти – на сером фоне тоненькая лиловая полоска, – с большими и острыми лацканами, и ему это сходит с рук. Мы, остальные, можем себе позволить надеть подобный костюм только на праздник или на выставку, хотя такие широкие мешковатые брюки годятся и для воскресных пикников, водных прогулок или в загородных клубах. Грин слишком роскошная личность среди нас, у него богатейший словарь, и оттого начальство его чуждается и при нем чувствует себя стесненно. Гораций Уайт боится его как чумы. Грин ищет расположения Горация Уайта, Уайт бежит от него к Блэку – тот презирает Грина и открыто его поносит, – Грин удаляется зализывать раны.
– Блэк – животное, – жаловался мне Грин. – Горилла. Разговаривать с ним бессмысленно.
Блэк – антисемит. Грин ждет и зло смотрит на меня из-за стола, словно это с меня надо спрашивать за его щитовидку, предстательную железу, колит или за Блэка.
– Не понимаю, о чем вы.
– Нечего мне врать, да еще так неубедительно, – начинает он, буквально не дав мне кончить, словно ему заранее известно, что я отвечу. – Можно врать, когда я вас не подозреваю. Я ваше начальство. Если не хотите лишиться места, не смейте никому тут врать неубедительно. Не желаю, чтоб моих подчиненных презирал кто-нибудь, кроме меня.
– Жена у меня дерьмо – вот что стряслось.
– Нельзя ли полегче?
– Вы же сами спросили, так?
– Я вам не Энди Кейгл.
– Энди Кейглу я бы этого не сказал.
– Мне нравится ваша жена.
– Нет, Джек, не нравится. И мне тоже. Что стряслось?
– У меня было четыре жены, и вы никогда ни об одной не слыхали от меня дурного слова, хотя я всех их терпеть не мог.
– Она от вас вовсе не в восторге.
– Нечего сплетничать.
– Она говорит, вы негодяй – не дадите мне выступить на конференции.
– Хватит прикрываться женой.
– Да бросьте, Джек. Не так уж она вам нравится.
– Вовсе она мне не нравится, если желаете продолжать о том же. Сказать почему?
– Не надо.
– На иных наших сборищах она пьет слишком много, а на других слишком мало. Она скована, и связана, и заражает этим других. От нее исходит дух неловкости, как от других – разные запахи.
– Я ж сказал, не надо.
– Она не подарок. Не богата. Ничем не знаменита, не компанейская, и она вам не помощница, и мне тоже.
– Вы ведь, кажется, спросили, не стряслось ли у меня что-нибудь, верно?
– А вы прикрываетесь женой, чтоб не отвечать.
– Нет, не прикрываюсь. Отчего вы в таком плохом настроении?
– А вы отчего в хорошем?
– Сейчас не в хорошем.
– Сейчас вы дуетесь, – кривясь, эхом отзывается он – похоже, ему тоже присуща мальчишеская склонность вдруг злобно передразнить того, кто донельзя его Раздражает.
Это называется эхолалия.
Это называется эхолалия (невольное мгновенное повторение слов, сказанных другим человеком. Я посмотрел в словаре. Ха-ха).
Ха-ха.
Ха-ха.
(Так можно без конца.)
Так можно без конца.
– А мне уж и дуться нельзя? – спрашиваю я.
– А вам уж и дуться нельзя? – спрашивает он.
– В чем дело, Джек?
– В чем дело, Джек! – жду я, что он повторит моим голосом, точно в дурном сне (как я, бывает, непроизвольно облаиваю жену или дочь их же голосами, когда слишком взвинчен, совсем обалдел и уже не в силах придумать менее ребяческий способ ударить их побольней).
– Вы что, подыскивали где-нибудь работу получше? – слышу я вместо того.
– Работу получше?
– Без моей помощи вам ничего не найти.
– А надо искать?
– Вы бы даже не знали, куда обратиться.
– А что стряслось – мое положение в Фирме пошатнулось?
Чувствую – начинаю покрываться испариной.
– Вас уже прошиб пот, – говорит он.
– Нет.
– Видно же, и лицо взмокло, и рубашка. Что за ослиное упрямство, лишь бы отрицать. Сами знаете, когда я спросил, что у вас стряслось, я вовсе не то имел в виду. Я подразумевал другое. Я спрашивал, что у вас хорошего. Это я язвил. Последнее время вы ведете себя забавно. И, говоря «забавно», я имею в виду совсем другое. Я подразумеваю – странно. И даже не странно, нет… Я подразумеваю, вы ликуете. Последнее время вы знай посвистываете.
– Не замечал этого за собой.
– Да еще фальшивите. Воображаете, наверно, что, кроме вас, никто во всей Фирме и не слыхал про Моцарта. Вы любезны со многими людьми, которые мне не по вкусу. С Кейглом, Горацием Уайтом, Артуром Бароном. С Лестером Блэком. Даже с Джонни Брауном, а ведь вы зарабатываете больше, чем он.
– Такая у меня должность. Я выполняю для них разную работу.
– Прислуживаетесь? За наш отдел предоставьте прислуживаться мне. Я это лучше умею. Когда я прислуживаюсь, им от этого удовольствие. А до вас никому и дела нет.
– А Кейглу?
– Кейгл – конченый человек, – нетерпеливо, не без злорадства обрывает Грин. – Он, когда разговаривает, брызжет слюной, и притом хромает. Я бы мог получить его место. Наверно, мог бы. Но мне оно ни к чему. Не хочу торговать. Торговать по мелочи унизительно. Торговать по мелочи собой – и того унизительней. Я-то знаю. Я пытался запродать себя в вице-президенты. – и не вышло, а пытаться запродать себя и не суметь – ничего унизительней не придумаешь. Если передадите кому-нибудь эти мои слова, я отопрусь, а вас уволю. Не Фирма, а я. Уволю, так и знайте. Рэд Паркер.
– При чем тут Рэд Паркер?
– Держитесь от него подальше. С тех пор как его жена погибла в автомобильной катастрофе, он катится по наклонной.
– Мне его жаль.
– А мне – нет. Пока она была жива, не так уж он ее и любил. Он слишком закладывает и совсем не работает. Держитесь подальше от людей, которые катятся по наклонной. Фирма это ценит. Фирма ценит крыс, которые знают, когда бежать с тонущего корабля. Вы пользуетесь его квартирой.
– Скоро перестану. Бываю там и со своей женой.
– С этой девчонкой из Группы оформления вы ведете себя, как слюнявый дурак-студентик.
– Ничего подобного, – защищаюсь я. (Теперь гордость моя уязвлена.) – Это только игра, Джек. – (Прямо чувствую, как глаза мои наполняются слезами. Должно быть, они сейчас влажные, как и у него.)
– Она недостаточно хороша. И получает гроши.
– Вы же заигрываете.
– Меня защищает моя репутация, считается, что я заносчив и с причудами. Про вас ничего такого не думают. Судят вас только по вашим поступкам. У меня весенняя сенная лихорадка. Если кажется, будто я плачу, – это аллергия. Что вас забавляет?
– Вот бы мне иной раз ввернуть такое словцо.
– Где вам. Пока я тут, поблизости, я всегда вас за пояс заткну. И соображаю я быстрей вашего. Вам не хватает стиля, чтобы быть таким речистым, как я, так что и не пытайтесь. Эта девчонка вам не поможет. Лучше займитесь богатыми разведенками, чужими женами да соблазнительными вдовушками.
– Заполучить вдовушку не просто: их не так-то много.
– Читайте в газетах некрологи. Опять вы улыбаетесь.
– Забавный вы человек.
– Вам должно быть сейчас не до смеха, Слокум, вы попали в переделку, и, похоже, вы этого не понимаете. Мне это не нравится.
– В какую такую переделку?
– Вы ведь работаете у меня, и ваше дерьмовое веселье мне не по вкусу.
– Вы вроде не любитель этого слова.
– Похоже, вы боитесь меня меньше, чем прежде.
– Сию минуту не меньше.
– Я говорю не про сию минуту.
– А с чего бы мне бояться?
– И мне это не нравится. Я сам начинаю бояться. Джеку Грину совсем ни к чему, чтоб его подчиненный набрался этакой уверенности в себе – ходит, видите ли, и насвистывает моцартовскую Большую мессу до минор, я нашел в справочнике. Нечего усмехаться. Вас так же легко удивить, как всех прочих. Вы-то откуда ее знаете, ума не прилежу.
– Я знаю одну девушку, которая…
– Вот я могу себе позволить здесь оригинальничать. А вы – нет. Мне свистуны не нужны. Мне нужны подчиненные пьяницы, язвенники, с мигренями и гипертонией. Такие, чтоб боялись. Я здесь главный, и у меня будет то, что мне нужно. А известно вам, что мне нужно?
– Хорошая работа.
– Мне нужны служащие, у которых спастический колит и нервное переутомление. А вы еще решили худеть, верно? У меня у самого спастический колит. А у вас почему его нет? Я принимаю вот эти таблетки. Мне нужно, чтобы и вы их принимали. Ну, примете одну?
– Нет.
– Если хотите и дальше у меня работать и выступить когда-нибудь с речью на конференции, так примете. Мне нужно, черт подери, чтобы моим подчиненным было хуже, чем мне, а не лучше. Потому я и плачу вам такие большие деньги. Мне нужно, чтоб вы все время находились на грани. Мне нужно, чтобы это было ясно и открыто. Мне нужно слышать это в вашей запинающейся, испуганной, косноязычной речи. Больше всего вы мне нравитесь, Боб, когда не можете вымолвить ни слова, потому что не знаете, что мне от вас нужно. Я и в этом году вам не дам выступить на конференции. Но вы не будете этого знать, хоть я сейчас так и говорю. У вас не будет уверенности. Потому что я могу передумать и велю вам подготовить и отрепетировать еще одно трехминутное выступление, на случай если опять не передумаю. Но я передумаю, Нe доверяйте мне. Я не доверяю лести, преданности и общительности. Не доверяю почтительности, уважению и сотрудничеству. Я доверяю страху. Вот вам беглая демонстрация красноречия, не так ли? Вам такое не по плечу, верно я говорю?
– Что стряслось, Джек? – запинаясь, чуть не хныча, повторяю я, и слабость эта делает меня жалким. – За что вы со мной так?
– В моем отделе самые высокие в Фирме ставки. Вы прочно засели у меня в отделе.
– Я знаю.
– Меня ругают за то, что я плачу такие большие деньги.
– Я знаю.
– Но это все, пока я не решил вас уволить. Я тоже тут прочно засел. Вы и это знаете? Мне нужны подчиненные, чтоб соображали не хуже начальников и чтоб у них сидело в голове, что, если я их выгоню из отдела, им крышка. И мне нужно, чтоб так оно и было. Вот теперь все ясно и понятно. Теперь все вышло наружу, что и требовалось. Теперь-то вы боитесь. Да. Хватит, Боб, передохните… спрячьте руки в карманы. Руки у вас трясутся.
(Если б я посмел, я бы его убил.)
– Зачем вам надо, чтоб я боялся?
– Вы у меня под началом! Я могу вас уволить, болван несчастный. И вас могут уволить еще двести человек, о которых ни вы, ни я понятия не имеем. Вы сомневаетесь?
– Нет, черт возьми.
– Так какие вам еще основания? Я могу изводить и унижать вас, когда захочу.
А, черт возьми, так оно и есть… он все еще мой злой гений. Не может он меня уволить; но всем своим существом, каждой клеткой я чувствую: может, и я не в силах одолеть ужас. (Мозг мой разумен, а железы – нет.)
И я боюсь заговорить, вдруг стану постыдно, недостойно запинаться – как баба, как плакса. Я не решаюсь разжать губы, развязать язык и изготовить лицевые мышцы, чтоб можно было вымолвить хоть слово, пока не переберу все мыслимые звуки и не выберу наконец то слово, с которого начну. И еще по крайней мере одно, идущее за ним, которое благополучно приведет меня к cледующему. (Если фраза будет короткая, мне, пожалуй, удастся ее закончить. Начать надо с односложного слова. Все мыслимые звуки сбились в кучу в голове.) Не то у меня вырвется только нечленораздельное бормотанье или истерический вопль. Чувствую себя ломтем хлеба, подгорающим в тостере, и вдруг меня прошибает жаркий пот, я даже не успеваю вспомнить, что это совсем лишнее, покрываться испариной незачем. Джека Грина мне теперь опасаться нечего. Надо только делать вид, будто опасаюсь.
Но я и вправду опасаюсь.
(И боюсь, так будет всегда.)
Я терпеть его не могу и, как и Энди Кейглу, желаю ему смерти. Пусть бы он заболел раком щитовидной железы, или предстательной, или толстой кишки. Но его и рак не берет. Вот его я, пожалуй, навестил бы в больнице, послушал бы, как он слова не может вымолвить, поглядел бы, как чахнет. Пожалуй, я загремлю в больницу прежде него, и уж он-то не снизойдет до того, чтобы меня навестить. (А может, навестит – как раз потому, что поймет, я этого никак не жду.) Быть бы мне таким. Я завидую ему и смотрю на него снизу вверх, даже когда он с наигранным безразличием, чуть ли не со скукой глядит в сторону. И не злорадствует победно – даже этого удовлетворения мне не доставит. (Так мало я для него значу. Ну и ну.) Вот бы мне так. Может, если постоянно упражняться (когда его нет поблизости и он не поглядит с уничтожающим презрением, сообразив, что это ему я пытаюсь подражать), когда-нибудь и сумею вот так же невозмутимо, свысока измываться над людьми.
Увольнять меня Грин сейчас не собирается, просто хочет оскорбить. Он не в духе – очередной приступ злости. (У него в голове атмосферные помехи.) Но меня от страха бросает то в жар, то в холод. И иной раз мне кажется, я теряю рассудок. Страх и рассудок, который я теряю, словно бы даже и не мои (словно бы его), они то опаляют мне нутро, словно пламя в доменной печи, то леденят кожу, словно мглистый зимний ветер, и, неподвластные мне, поочередно налетают на меня изнутри и снаружи моей крахмальной, сшитой на заказ зеленовато-голубой рубашки швейцарского батиста, лучшей, по словам Грина, рубашечной ткани. Прямо курам на смех. Что бы мне сегодня прийти в рубашке темного в рубчик поплина или еще более плотной ткани – на ней не проступили бы пятна, выдавая, что пот течет у меня под мышками и струится по груди и по животу.
– В следующий раз наденьте свитер, – чудится мне голос Грина, уж верно, он читает мои мысли. – Шерстяной. Или кардиган. Вроде моего. Вот для чего я его надеваю», – прибавляет он; это уже я читаю его мысли.
Прямо жуть берет: ведь он по-прежнему мой злой гений. Хоть бы он сдох. Тут я со временем могу взять над ним верх, для этого есть кое-какие основания. На моей стороне возраст, Артур Бэрон и спастический колит.
Но одолеть его не так легко, как мне хотелось бы.
Я бы рад прострелить ему башку.
Хорошо бы скорчить ему рожу и показать язык. (Хорошо бы опять съесть душистую горячую картофелину или хороший початок кукурузы.)
– Вы хотите меня уволить? – вместо этого неловко спрашиваю я.
– Я могу вас унизить.
– Уже унижаете.
– Я могу быть сукиным сыном.
– Зачем вам это нужно – меня увольнять?
– Могу даже не объяснять причин.
– Вам придется кем-то меня заменить.
– Чтоб помнили, что я это могу. Пока вы работаете у меня, вы не свободный гражданин. Похоже, вы иногда это забываете.
– Теперь уже не забуду.
– И я не забуду. Чтобы дать вам почувствовать, что значит быть в подчинении. Без моей помощи вам не найти работы получше, а и найдете – не захотите переходить. Придется ведь распрощаться и со здешней пенсией, и с долей в прибылях и начать ломать себе голову, так ли вас там ценят, как ценили мы. Вы и за три года на этот счет не успокоитесь. Вы от меня зависите.
– Понимаю.
– Не уверен, что всегда понимаете. А мне всегда надо знать, что понимаете. Мне всегда надо знать: вы понимаете, что должны пресмыкаться всякий раз, как я этого захочу. Вы взрослый, зрелый, одаренный администратор, верно? Вы не должны бы стоять вот так передо мной, и потеть, и выслушивать все это, верно? И все-таки приходится стоять, верно? Так как же.
– Не ждите от меня ответа.
– А еще я могу опять здорово повысить вам ставку и таким способом тоже вас унизить.
– От денег не откажусь.
– Могу заставить вас ходить в солидных костюмах, сорочках и полосатых галстуках.
– Я и хожу.
– Заметил, – ядовито говорит он. – И в гольф стали играть.
– Всегда играл.
– Не всегда.
– Во время конференции каждый год участвую в состязаниях.
– И только здорово мешаете. Делаете из себя посмешище, вместе с пьяными шарлатанами из Торгового отдела. И это мне тоже не нравится. Вы-то не из Торгового отдела.
– Мне приходится для них работать.
– Вы бы предпочли работать у Кейгла?
– У вас.
– Почему?
– Вы лучше.
– Чем?
– Чего вы от меня хотите?
– У кого вы работаете – у меня или у Кейгла?
– У вас.
– Кто вам приятнее?
– Он.
– Кто лучше как человек?
– Он.
– Кто вам больше правится?
– Вы.
– Вот теперь мы разговариваем разумно. Теперь вам не надо искать место получше, Боб. – Он говорит медленнее, мягче. Почти дружески, не без раскаяния. – Право же, вы вряд ли найдете что-нибудь лучше вне Фирмы.
– Я и не ищу, Джек. Чего ради я стал бы искать?
– Из-за меня.
– Вы не так уж плохи.
– Даже сейчас? – Он опять поднимает на меня глаза и слегка улыбается.
– Вы здорово все делаете.
– Всегда?
– Не всегда. Кое-что вы делаете чудовищно. Мне даже нравится, как вы сейчас со мной разговаривали. Мне бы вашу грубость.
– Это легко… с такими, как вы. Видите, как легко? С такими, как вы. – Он вздыхает чуть огорченно и насмешливо. – Я не собираюсь вас увольнять. Сам не знаю, зачем я это затеял. Иной раз подумаю, что бы со мной было, если бы пришлось уйти из Фирмы, – и страх берег. Вам известно, что происходит с ценами на мясо?
– Оно, кажется, дорогое?
– Я тоже не знаю. Но меня тревожит, что со мной будет, если я вынужден буду это знать. Мне урезали бюджет.
– На сколько?
– Пока это еще не ваше дело.
– Кейгл говорил, что собираются урезать.
– У вас хорошие отношения с Кейглом.
– Это может оказаться на пользу.
– Лучше, чем со мной?
– Он больше во мне нуждается.
– Я в вас совсем не нуждаюсь.
– Вы бы предпочли меня заменить, да?
– Нет. Если говорить с точки зрения Фирмы, никто ни в ком не нуждается. Она существует сама по себе. Она в нас не нуждается. Это мы нуждаемся в ней.
– Поговорить с Кейглом?
– Кейгл – болван. От того, что он нас топчет, он ничего не выигрывает. Если я получу прибавку, то и вы получите.
– Я с ним поговорю.
– Я вас совсем не прошу.
– Я ему подрежу ногу.
– Не смешно, – обрывает меня Грин.
– Знаю.
Губы у меня как чужие, будто кто-то посторонний наклеил мне на лицо эту ухмылку.
– А еще считаетесь его другом.
– Это у меня нечаянно вырвалось, – смущенно оправдываюсь я. – Даже не знаю, как сорвалось с языка. Пойду поговорю с ним.
– Я вас не просил. Сам не знаю, чего я, собственно, беспокоюсь. Все равно никто из нас далеко не пойдет. Кейгл хромает. Я – еврей. А что такое вы, никто толком не знает.
– Я никто. Моя жена – верующая, исправно посещает конгрегационалистскую церковь.
– Одной веры мало. Вот будь она знаменитость или очень богата, другое дело. У вас, кажется, ребенок калека, вы не очень-то о нем распространяетесь, верно?
– Умственно неполноценный.
– Это серьезно?
– Безнадежно.
– Ну, тут нельзя быть уверенным. Я слышал…
– Я тоже.
– Я знаю врача, он…
– Я у него был.
– Но…
– Хватит, Джек. Довольно об этом.
– Я все думал, можно ли вас вывести из себя, – отзывается Грин. – Оказывается, можно. – Лицо у него огорченное, задумчивое. У него у самого не просто с детьми, но ничего похожего на Дерека, тут у меня преимущество перед ним, которым я, быть может, воспользуюсь и в другой раз. (Выходит, есть и от малыша толк, а?) – Вы получите прибавку, – говорит наконец Грин, – и, возможно, я тоже. Может, даже дам вам в этом году выступить на конференции.
– Не верю.
– Вы и не должны верить.
– Не поверю, пока не выступлю.
– Это входит в мою стратегию. Если меня решат перевести на место Кейгла, вам с моей работой не справиться. Я способен на большее. На большее, чем он. Таким путем я еще, может, стану вице-президентом.
– Кейгл не станет.
– Кейгл хромает, и у него в носу и в ушах растут волосы. Тому, кто хромает или у кого умственно отсталый ребенок, президентом не быть.
– Рузвельт хромал.
– Я имею в виду – президентом Фирмы. Наша Фирма разборчивей нашей страны. Мне урезали бюджет. Вот что меня бесит. И я вам не доверяю. Я его восстановлю. Придется мне за него повоевать. Надо будет попресмыкаться. Терпеть это не могу, но другого пути нет. Потому и не советую вам занимать мое место. Не годитесь вы на эту должность. Не умеете пресмыкаться.
– Я пресмыкаюсь.
– Пресмыкаетесь, но без изящества. Так же как льстите.
– Я мог бы и научиться.
– А я уже ученый. Берите пример с Грина, это говорю я, Грин. Учитесь у Грина пресмыкаться, острю я, Грин. Потому мне и урезают бюджет. Им нравится, как я пресмыкаюсь. Каждый год урезают. Чтоб полюбоваться, как я пресмыкаюсь.
Я урежу его и того больше: я-то знаю, как много дорогостоящих и спешных работ мы выполняем зря – они не нужны или не идут в дело. Не забыть бы, надо казаться приниженным, незаинтересованным и достойным доверия. Грин прав. Что бы кто из нас ни делал, это мало вредит фирме. (Мы можем только повредить друг другу.) Фирма – медовый сот, мы – трутни, живем за чужой счет. Руководители умирают, на их место приходят другие. Я отправлю на пенсию Эда Фелпса. Надо прикидываться простаком и держать себя в руках. Если придет охота лягаться, лягайся на здоровье у себя дома в кабинете или на квартире у Рэда Паркера. Хватит мне пользоваться квартирой Рэда Паркера. Этого не утаишь. Что мне делать с Рэдом Паркером? Он моложе Эда Фелпса. Надо со всеми обходиться тактично. (Надо прикидываться тупицей.)
– А вы-то, черт возьми, чего ходите последнее время такой веселенький? – накинулся на меня Джонни Браун и по привычке легонько ткнул кулачищем в плечо.
(Нетрудно представить, как бы он двинул этим кулачищем мне в физиономию.)
– Из-за вас, – отшучиваюсь я. – Вы же мне теперь представляете телефонные отчеты.
– С данными сбыта сверили?
– Вот они действительно могут служить показателем.
– Все эти отчеты – дерьмо.
– Неважно, лишь бы звучали хорошо.
– Не полагайтесь на них, – говорит Джонни Браун. – Агенты могли бы и потолковее тратить время, нечего им сидеть и сочинять враки. Я-то знал бы, как с ними управиться. Уж я бы позаботился, чтоб они, стервецы, весь день гоняли по делам. Вытащил бы у них из-под задниц стулья. Они сами терпеть не могут писать отчеты.
– Отчетов требует Артур Бэрон для Горация Уайта и Лестера Блэка.
– Спросите, для чего это нужно.
– Если ЭВМ не получает добрых вестей, она не выдерживает и плачет в голос.
– Ну и тип же вы.
Я изящно пресмыкаюсь перед Джонни Брауном и добиваюсь нужных для Артура Бэрона телефонных отчетов. Я получу прибавку. (У моей жены и детей будет больше Денег.) А что со мной станет, если Артура Бэрона скоро хватит удар? (Он и вправду слишком толстый и курит, и я понятия не имею, какое у него давление и сколько у него в крови липидов и холестерина. Я даже не знаю, что это еще за липиды и на что они нужны.) Кто обо мне позаботится, если Артур Бэрон умрет? (Кому достанется его место?) Гораций Уайт? Не дай Бог иметь единственным защитником эту осу без жала, когда вкрадчивый, завистливый семит Грин с его быстрым умом и шикарным запасом слов будет подкапываться под меня снизу, а у Джонни Брауна всегда будет наготове кулак, – чтобы дать мне в зубы. Надеюсь все же, до этого не дойдет. Ведь тогда мне крышка: он погубит не только мою физиономию, но и мою репутацию как человека сноровистого и авторитетного. Это было бы для меня куда хуже, чем если бы я лягнул Кейгла. Можно было бы, правда, лягнуть его и прикинуться, будто пошутил, или сделать это, оставшись с ним наедине в его кабинете, тогда об этом мало кто узнает. Но если Джонни Браун даст мне в зубы, это станет известно всем и каждому. (Хорошо бы сильным и храбрым был я, а малосильным и малодушным – он. При нем я чувствую себя импотентом и на два фута ниже ростом, чем я есть.) Как бы отнеслась наша высшая администрация к одному из своих рядовых администраторов, если бы ему дали в зубы да еще он чувствует себя импотентом? Думаю, неважно бы отнеслась. Жена перестала бы меня уважать. Не хотел бы я, чтобы это стало известно моим детям, соседям или даже няньке Дерека. Если кто хромает, или у него умственно отсталый ребенок, или ему дали в зубы – такому вовек не стать ни президентом Фирмы, ни президентом Соединенных Штатов. Если б кто-нибудь дал в зубы Ричарду Никсону, ему бы нипочем не выйти в президенты. Кому нужен человек, которому дали в зубы? Если тебе дали в зубы, трудно поверить, что ты так уж умен. Пусть бы Брауна за это уволили, мне-то что толку – в зубы-то все равно уже дали, этого не изменишь. Что ж я буду делать, если он и вправду даст мне в зубы? (Как я с этим управлюсь?) Знаю, что я сделаю. Я упаду. Ну, а если, как ни странно, устою на ногах? Придется попробовать дать ему сдачи. Что хуже? Я знаю, что хуже.
И то и другое.
Порой я вдруг теряю уверенность в себе, и это лишает меня энергии, воли и надежды. Так случается, когда я остаюсь один или возвращаюсь откуда-нибудь с женой и она за рулем. (Тогда мне хочется со всем покончить, и пропади оно все пропадом.) Нередко это бывает после очередного душевного подъема. Силы покидают меня, я равнодушно гляжу в будущее и вижу, что достиг своего потолка и он весьма невысок. В иные полосы мой член не желает вести себя как должно. Ему не хватает твердости, не то, что в прежние времена. Я тревожусь. А иногда все налаживается, я вновь обретаю твердость и чувствую себя чемпионом в тяжелом весе. Это приятное ощущение. Бывают полосы, когда я готов переспать с кем угодно, когда мне, кажется, сам черт не брат, когда нет у меня ни тени сомнения, сразу могу приняться за работу. Да и не работа это вовсе. Одно удовольствие. И уж я заставлю Эда Фелпса уйти на пенсию.
– Ох, милый. – Жена ошеломлена. – Откуда что берется? Ты опять совсем как молоденький.
– А ты-то откуда знаешь, какие они, молоденькие? – подтруниваю я, ощутив от этого сравнения легкий укол зависти.
– Я знаю больше, чем ты думаешь. Давай, давай.
– Ясно, знаешь.
– Ты сейчас даже моложе, чем когда был молодой. – И она счастливо смеется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































