Текст книги "Что-то случилось"
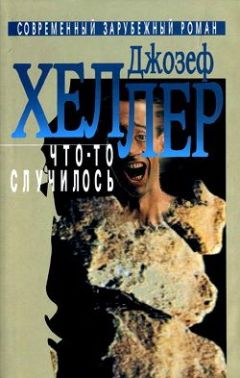
Автор книги: Джозеф Хеллер
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
Никуда от этого не денешься
Надо от него избавиться. Никуда от этого не денешься. (Он такой милый. Кто его ни увидит, все говорят, какой он милый. С их стороны очень мило, что они так говорят.)
Надо от него избавиться, а я не знаю как. И спросить некого. Никому я не могу сказать, что хочу этого, даже собственной жене, которая тоже хочет от него избавиться (но не смеет сказать мне об этом). Особенно жене. В том, что он такой, мы виним друг друга, если не считать часов, когда каждый винит себя, и об этом тоже мы пока не в силах друг другу сказать.
– Это твоя вина, а не моя.
И волей-неволей притворяемся, что тут никто не виноват и он такой по несчастной случайности, это нечаянный промах самой природы, ее ляпсус. Все мы хотим от него избавиться, но только у дочери хватает честности говорить об этом прямо (и за это кто-нибудь из нас всегда на нее набрасывается).
– Неужели нам до скончания века надо его тут терпеть? – сердито жалуется она.
– А тебе что? – огрызаюсь я, как будто она просто хотела меня уязвить. – Ты уедешь в колледж.
(Пожалуй, она останется дома просто мне назло. Иногда мне кажется, если бы не Дерек, мы все никогда бы не ссорились. Но это, конечно, неправда.)
Наследственность у него как будто не по моей линии. Может быть, по линии жены. В моей семье, насколько я знаю, слабоумных не было (и в ее семье тоже). Жена всегда умоляет меня не говорить этого слова (наверно, потому-то я его и употребляю. И ее каждый раз передергивает).
– А как прикажешь это определять? – изображая ангельское терпение, высокомерно спрашиваю я. – По-твоему, если я стану называть его гением, он поумнеет?
– Это жестоко. – Жена вздрагивает, бледнеет, чуть не плачет. – Это низко. Когда ты такой бессердечный, мне становится страшно.
Просто безобразие, как я умудряюсь подолгу о нем забывать, даже когда он тут же, рядом. (Выкидываю его из головы и уж стараюсь не вспоминать.) Считаю, что у меня только двое детей. Одна говорит:
– Что ты будешь делать, если я приведу в дом черного дружка? И захочу выйти за него замуж?
Другой спрашивает:
– Что бы ты со мной сделал, если б я не умел говорить?
– Но ты же умеешь, – отвечаю.
– А вдруг я на гимнастике не сумею взобраться по канату, и упаду, и расшибу голову, и мистеру Форджоне придется отнести меня домой, и я больше не смогу говорить, тогда как?
– Когда-то я тоже боялся лазать по канату, боялся упасть, – говорю я, пытаясь его подбодрить. – А в старших классах боялся плавать в бассейне нагишом.
– Ни про какой бассейн и про плавание нагишом я не говорил, – возмущается он (похоже, этот страх еще не укоренился в нем, и я только сейчас заронил первое зерно). – Не говорил, верно?
Я смущен.
– Вот я получу водительские права, закажу себе ключи и, когда тебя нет дома, стану брать машину, – говорит дочь. – Ты же не сможешь мне помешать, верно? Что ты тогда сделаешь, добьешься, чтоб меня арестовали?
Третий совсем со мной не говорит.
Приходится вести разговоры, как будто мне вовсе не свойственные.
Чувство такое, словно нет твердой почвы под ногами. Хожу, не ощущая почвы под ногами, болит голова, как будто не моя, – головные боли мне несвойственны (а вот ноги очень даже мои. Ступни так болят, будто разламываются, на одной пятке у меня «шпора», средние пальцы сплющены, остальные искривлены, мне то и дело нужен мозольный пластырь; если постоянно не менять носки и обувь, мякоть пальцев снизу воспаляется; в холодную погоду ступни зудят; кожа между изуродованными кривыми пальцами трескается и лупится, и надо присыпать ее тальком. Счету нет моим бедам). Подчас мне кажется, я разъединен с собственными ногами и собственным прошлым. Связь с прошлым – точно не слишком надежный кабель; она недостаточно прочна и крепка, она неустойчива, обрывается, тускнеет, кое-где она истерта до тонких, хрупких нитей, они легко рвутся. Многое из того, что я помню, словно бы уже мне несвойственно. Похоже, в моей истории недостает громадных кусков. Разверзаются провалы, наверно, в них рухнули немалые доли моего «я». Далеко не всегда я знаю, где же я в эту минуту нахожусь. Сижу на работе, а воображаю, будто я дома. Сижу дома у себя в кабинете, а воображаю, будто я на работе – увольняю Джонни Брауна или отправляю на пенсию Эда Фелпса, – либо в банке, в гостиничном вестибюле или в полицейском участке – тщетно шарю по карманам и не могу найти нужные документы. Может быть, я уже разговариваю сам с собой вслух и даже не замечаю этого. Как унизительно. Никто мне ничего такого не говорил, но, наверно, я ничего такого и не делаю при тех, кто мог бы мне об этом сказать. Наверно, это бывает только тогда, когда мне кажется, что я один. Может быть, я уже выживаю из ума, но все так добры, что ничего мне не говорят. Нет, люди совсем не добры и, конечно, сказали бы. (А может быть, мне уже говорили, но я настолько выжил из ума, что не помню об этом. Ха-ха.)
– Что? Ты что-то сказал? – спросит вдруг кто-нибудь из моих домашних, когда я задумаюсь, бывало, считая, что я у себя в кабинете или в другой комнате один и никто меня не видит.
– Что? Ничего, – испуганно и пристыженно отвечаю в таких случаях. – Просто задумался.
Или:
– Просто читаю газету.
(Наверно, я замечтался, сочиняя в воображении сложные, хитроумные ответы на выпады Грина – отвечая ему как по нотам, без единой запинки.)
– Опять ты ночью смеялся во сне, – скажет жена.
И я не знаю, правда это или она меня разыгрывает. Я и сам мог бы так ей соврать, если бы первым до этого додумался. Ни разу я не мог вспомнить, что снилось смешное, когда жена говорила, что я смеялся во сне. Хорошо, если б было над чем всласть посмеяться в дни, когда мучают головные боли, вроде бы вовсе мне не свойственные.
В свободное время у меня поджилки трясутся; обычно я плохо сплю (жена уверяет, что сплю прекрасно); на меня нападает хандра, и я не могу ее прогнать; она сама проходит, когда ей вздумается (я разговариваю сам с собой, во всяком случае верю, что это может со мной случиться); впадаю в уныние, сам не знаю отчего; горюю о чем-то, не знаю о чем; хожу (не ощущая твердой почвы под ногами) и ношу в себе дрожь, и головную боль, и тоску, все это вспухает внутри, заполняет меня, перепутывается, и все это словно бы творится не со мной и вовсе мне не свойственно. Так что же это – шизофрения или всего-навсего нормальное, естественное, типичное, здоровое, логичное состояние, присущее всем людям шизоидного склада? (Я могу сослаться в суде на временное помешательство. Могли бы счесть это убийством из милосердия. Показали бы под присягой, что это сделано, чтобы избавить его от страданий. Но он не страдает.)
Я веду тщательно обдуманные разговоры с Артуром Бэроном об Энди Кейгле и с Энди Кейглом об Артуре Бароне – и в эти самые минуты спрашиваю себя: кой черт, при чем тут я? (Я ли говорю все это и я ли слушаю?) Отплываю по воздуху на несколько шагов, подслушиваю эти разговоры, подсматриваю, и мне кажется: я смотрю какое-то похабное представление в кукольном театре, в одной из этих набитых опилками кукол есть смутное сходство со мной, и мне так же непонятно, при чем тут я, даже в роли стороннего зрителя, как непонятно – с чего нападают на меня в мои свободные часы странная тоска, и тревога, и глухое отчаяние.
И притом в свободные часы я хнычу:
– Мне нечем заняться.
У меня слишком много свободного времени. То же самое нередко случается и во время занятий сексом. Я хотел бы отделиться от наших тел и поглядеть на себя со стороны. Я слепну. Позволяю себе уничтожиться и воскресаю так медленно, что очень не сразу удается вспомнить, кто же я такой, и вновь войти в эту роль. (До того все глупо, не может быть, что это и вправду настоящий я.) Прежде мне удавалось смотреть на себя со стороны все время, с начала и до конца. Было очень мило. Может быть, я уже сошел с ума – и это в самом расцвете лет? Или, может, я – не я, а совсем другой человек, как уверяет Бен Зак?
Странное у меня чувство.
– Какой-то ты сегодня странный, – говорит жена, осторожно пытаясь вызвать меня на откровенность.
– Ничего подобного.
– Не поймешь тебя.
– Это тебя не поймешь.
– Не разберу, какое-то у тебя чудное выражение лица.
– Почему же ты не смеешься?
– Какой-то ты унылый.
– Ничего я не унылый.
– Что-нибудь неладно?
– Все ладно.
– Хотела бы я знать, о чем ты на самом деле думаешь, – решается сказать жена и улыбается, хмуря брови.
Совсем бы ты этого не хотела.
(Я думаю о смерти и о разводе.)
Сегодня в обеденный перерыв, в вестибюле здания, где я работаю, какой-то человек шел мне навстречу и вдруг упал мертвый. Рослый, осанистый немолодой человек, седой, кудрявый; на нем был серый костюм в тонкую полоску, в одной руке изящный черный зонтик, в другой – коричневый портфель. Весьма солидно и приятно он выглядел, такую величественную персону вполне можно было принять за председателя компании «Дженерал моторс» до той самой минуты, когда он с размаху ударился лицом об пол. Он был слишком стар, чтобы оказаться мною.
Едва ли я чувствую себя теперь иначе, чем всегда. Похоже, это жена меняется: она явно больше беспокоится, когда я молчу, и думает, будто я сердит или чем-то недоволен. (Разве я теперь молчу чаще прежнего? Она меня боится.) Когда я слишком хорошо настроен, она совсем пугается. (Думает, я от нее что-то скрываю. Верно, скрываю.) Я рад, что играю в гольф – это для меня теперь тоже прибежище. Вот бы разок загнать мяч в лунку, потом я бы до скончания века рассказывал про это. Меня не тянет ходить в театр и кино, и жене кажется, что я ее разлюбил. Даже ходить в гости у меня нет желания. Вечно мы видим одних и тех же людей. Вот если бы у меня был друг, интересный человек. Жене тоже скучно. Ей нравится разнообразие, нравится куда-то ездить, она предпочла бы переходить от одной скуки к другой. А мне хватает и одного сорта скуки. (Если я убью жену, кто станет заботиться о наших детях? А если убью детей, жена и сама о себе позаботится. Благоразумный отец семейства должен предусмотреть подобные возможности, надо же обеспечить тех, кто дорог твоему сердцу.) Пожалуй, я бы не прочь, чтобы жена мне изменила, тогда бы я получил развод.
(Без этого мне, наверно, его не получить.)
Моей жене, я думаю, пора уже мне изменить – да она бы и изменила, будь у нее характер потверже. Возможно, это было бы для нее очень хорошо. Помню, как я первый раз ей изменил. (Хорошего в этом было мало.)
«Вот я и изменяю жене», – думал я тогда.
Почти с тем же чувством после свадьбы я впервые повалил жену.
«Вот я и повалил свою жену», – думал я тогда.
Для нее это будет значить больше (так я думаю), ведь я женился, зная, что изменю жене при первом же удобном случае (ставил себе и такую цель; в сущности, это одна из причин, почему женишься: чтобы потом изменять жене), а она, выходя замуж, не знала, что будет изменять (пожалуй, она и сейчас еще всерьез об этом не думает. Возможно, я все это обдумываю за нее). Я даже еще несколько месяцев довольно регулярно продолжал развлекаться с девчонкой, с которой спал до женитьбы. И еще с четырьмя или пятью переспал хотя бы по разу в те первые два года, просто чтобы убедиться, что я это могу.
И однако, я, пожалуй, готов был бы убить жену, сойдись она с кем-нибудь из моих сослуживцев. Когда она раздевается, у нее на талии и на груди видны красные следы от пояса и лифчика, а на боках и на ягодицах заметны дряблые складки жира, и я не желаю, чтобы кто-либо в нашей Фирме, с кем я имею дело, это обнаружил. (Пускай она перед ними предстает только в самом лучшем виде. Без всяких красных рубцов.)
Моя жена не так распущена и развратна, как почти все девчонки и молодые женщины, с которыми мы теперь проводим время (и чтобы это про нее узнал кто-либо из моих сослуживцев, я тоже не желаю. Не желаю, чтобы кто-нибудь из тех, с кем я работаю, рассказывал еще кому-то из моих знакомых, какие там у моей жены красные рубцы и что в постели она не самая искусная и ловкая бабенка на свете), мне это в ней нравится, не хотел бы я, чтобы она была другая, – и за добродетель и сдержанность нередко вознаграждаю ее порывами нежности и уважения и добрыми поступками (вожу ее в церковь).
В трезвом виде моя жена всегда на высоте (и я ею горжусь). Особенно когда у нас гости. Она мастерица принимать гостей. (В прошлом году у нас однажды ужинал Артур Бэрон с женой, и моя жена была великолепна в роли хозяйки. Все остались очень довольны тем вечером.) Теперь мы не часто приглашаем к себе знакомых – из-за Дерека. (Из-за него возникает натянутость. Мы притворяемся, будто никакой натянутости нет.) Пока я думал, что он нормальный ребенок, я его любил. Он вызывал во мне нежность и забавлял меня. Я с ним шутил. Давал ему всякие смешные прозвища, он у меня назывался дружок и крепыш-дубок, пыхтелка-паровозик, дудка-певунчик и плясун-дергунчик. А потом обнаружилось, какой он. И теперь я его всегда называю официально: Дерек. (Дерьмо ты эдакое.)
(Хоть бы нам от тебя избавиться!)
Жена чувствует себя лучше всего, когда я просто отдыхаю, когда я добр и спокоен, и на каждый знак внимания отвечает живейшей благодарностью, удивляется и радуется. Мою жену очень легко порадовать и осчастливить, безобразие, что мы делаем это так редко. (Когда у нее легко на душе, она хорошеет, лицо так и сияет. Она не скрывает свою радость.) Я стараюсь ее порадовать. Когда могу. (Не всегда легко этого захотеть.) Когда уж иду в церковь, велю и детям идти с нами, и обычно мы превесело проводим время. (Не всегда легко быть добрым и радовать жену, если думаешь о смерти, убийстве, измене и разводе.)
У меня натянуты нервы, я жалок, угрюм, рассеян, подавлен (а жена говорит – я странный). Куда бы мы ни пошли, кроме церкви, внутри у меня разноголосица, разлад, будто какие-то тупые инструменты из кости, камня, стекла и ржавого железа режут, пилят, строгают, сверлят, изничтожают сами себя, неподатливые и неистребимые, и то же самое творится в душе жены (но она в этом ни за что не признается) – наверно, потому жену так и тянет в церковь. (Наш мир никуда не годится. Совершенно отжившая идея.)
Моя жена теперь пылкая конгрегационалистка и с увлечением ходит в церковь (когда не напивается в гостях и не становится вульгарной и шумной и когда не притискивает меня к кухонному столу, не валится со мной среди дня на пол тут же, в кухне, или по вечерам на скамейку в нашем саду). Моя жена стала пылкой, преданной конгрегационалисткой, потому что в этой церкви не так душно и прихожане – народ более приветливый, чем методисты, баптисты, пресвитериане и последователи англиканской церкви, с которыми ей пришлось столкнуться, когда мы переехали из Нью-Йорка в штат Коннектикут.
– Кто англиканской веры, те шикают в кино, – сказала она мне.
И я засмеялся.
(Жена часто меня смешит.) Она печет печенье для благотворительных базаров. В этих случаях она даже загодя перестает пить среди дня и становится сдержанней в постели. (Если в приходе предстоит какое-нибудь грандиозное мероприятие, я почти всегда заранее узнаю об этом по тому, что жена становится в постели куда менее предприимчивой.)
Я республиканец (но втихомолку почти всегда голосую за демократов) и уверен, что к Богу я много ближе, чем моя жена.
«Господь – пастырь мой, и ничего больше я не желаю», – сказал наш новый священник, пробыл он у нас всего около года, и, похоже, он желает обладать куда большим весом и влиянием в нашей общине. (Я уверен, он присматривает себе место повыгоднее.)
Ни один республиканец не зашел бы так далеко. Пожалуйста, пускай Господь Бог будет нашим пастырем, но, сколько бы уже у нас всего ни было, мы желаем еще очень многого. А если ничего больше нам не достанется, мы и Господа Бога уволим, выставим на пенсию или отодвинем в сторонку.
Иногда по воскресеньям, когда я настроен особенно благодушно и снисходительно, я предоставляю жене сесть за руль и отвезти нас в церковь (во время службы дети исподтишка обмениваются какими-то загадочными знаками, но стараются делать это незаметно, чтобы не смущать мою жену), а потом нередко готов придушить ее за то, что она заставила меня поехать и загубила мне весь день. (Я мог бы поспать попозже или позвонить знакомым, и меня пригласили бы поиграть в гольф. В конце концов, сколько еще воскресений у меня осталось? Лет на тридцать? А может, на два года?)
– Зануда твой новый священник, – провозглашаю я в полный голос на обратном пути и выдерживаю паузу, пускай дети, сидящие позади нас в открытой машине, будут моими сообщниками в этом разговоре. – У меня от его проповеди задница заболела.
Дети в восторге наклоняются вперед, чтобы лучше слышать.
Жена поджимает губы, уклончиво улыбается и вместо ответа с притворной рассеянностью что-то насвистывает. В такое прекрасное солнечное утро одним только обычным поддразниваньем не испортишь ей настроение, она блаженствует: приятно было появиться в церкви с мужем и детьми. В такие минуты мы вдруг чувствуем, что очень близки друг другу. (Эти минуты быстро проходят.) Не так давно жена даже надеялась однажды без стеснения явиться в церковь, прихватив с собою и Дерека. Эту затею я прикончил в зародыше.
– Что ты говоришь, пап? – спрашивает дочь: раз жена готова промолчать, она спешит подлить масла в огонь.
Жена решает вступить в игру против нас обоих.
– Право, по-моему, ты напрасно говоришь такие слова при детях, – мягко упрекает она, будто бы просто рассуждая вслух.
– А какое я слово сказал? – самым простодушным тоном переспрашиваю я.
– Будто сам не знаешь.
– Священник?
– Нет.
– А что же?
– Сам знаешь.
– Понятия не имею.
– А какое слово? – спрашивает мой мальчик, он даже подпрыгивает на месте от нетерпения, теперь нас трое против нее одной.
– Дурень! – с торжеством восклицает жена, ловко избегая расставленной сыном ловушки.
– Неправда! Он не говорил «дурень».
– Я знаю, милый.
– Он сказал «задница», – вставляет дочь.
– Я знаю, детка. И по-моему, это разврат.
– Да, пожалуй, – мигом подхватываю я. – И речь у него ужасная. И по-моему, очень вредно водить детей в церковь слушать проповеди развратного священника.
– Я совсем не про него говорю!
– Он слишком напыщенно выражается, а фразу часто строит неправильно.
– Я говорю о тебе. Вовсе не о том, как выражается священник. А о том, как выражаешься ты.
– Все равно у него язык ужасный.
– А у тебя?
– Ладно, переменим тему, – говорю я с величайшей кротостью и смирением. – А что ты думаешь о прямой кишке как таковой?
– Час от часу не легче!
– Не понимаю.
– Не понимаешь?
– Теперь понимаю. Дерьмо, а?
– Мы, кажется, условились, что постараемся больше не спорить при детях, – говорит жена с преувеличенной вежливостью, которая подчас меня бесит.
– Аминь! – ехидничает дочь и хлопает в ладоши.
– Подобные замечания как раз могут привести к спору, но я уступаю, – говорю я добродушно, потому что мне совсем не хочется всерьез огорчать жену. – Уступаю. Сдаюсь. От проповеди твоего нового священника у меня ни капельки не болит задница.
Дети покатываются со смеху.
Когда хохот немного утихает и голос жены уже можно расслышать, она говорит:
– Покажи мне хоть одного врача, который сказал бы, что это полезно – говорить такие слова при сыне и дочери.
– Покажи мне хоть одного врача из наших знакомых, который сказал бы, что это вредно.
– Вы, кажется, условились больше при нас не ссориться, – язвительно вставляет дочь.
– Мы не ссоримся, – машинально возражает жена.
– Знаю, знаю, – глумливо фыркает дочь. – Вы просто рассуждаете.
– С чувством! – дружески посмеивается сын.
Все мы улыбаемся, только жена рассеянно, хмуро покусывает губу. Ей очень не по себе.
– Что-нибудь не так? – тихо спрашиваю я.
Минуту она молчит, подавленная какой-то тайной, которую ей не под силу высказать. Потом смущенно выпаливает:
– Он к нам придет.
– Кто?
– Он.
– Когда?
Мы, остальные, потрясены.
– Сегодня.
– Сегодня?
– Я пригласила его к обеду.
– Ты с ума сошла!
– Я уйду из дому!
– Я не хочу его видеть.
– А вы и поверили! – смеясь, кричит жена, очень довольная собой, и победоносно смотрит на всех нас по очереди. И продолжает в восторге, что с ней бывает не часто: – Неужели вы думаете, что я отдам почтенного священнослужителя на растерзание вашей безмозглой шайке?
– Ай да мама! – Дочь сзади порывисто обнимает ее за шею. – Вот так мама! До чего я ее люблю, когда она веселая!
– И я тоже.
Но веселья хватает ненадолго, во всяком случае по субботам, воскресеньям и в праздники, разве что мы уже заранее придумали, куда сбежать. Ведь дома нас ждет Дерек.
Он все еще там. И с каждым днем становится старше.
– Хоть бы она его куда-нибудь сводила, – ворчит дочь. – Вечно он тут, на глазах.
И вечно тут, на глазах, его болтливая грузная нянька со злобной рожей и чисто вымытыми седыми волосами, от которой так и несет мылом, а ведь я велел жене от нее избавиться, пусть даже мы должны будем какое-то время смотреть за ним сами. (Может быть, нам это отчасти пойдет на пользу.) Я и прислугу не прочь уволить. (Неуютно мне, когда она всюду шмыгает на цыпочках.)
– Найди ты какую-нибудь немку, ради Бога! – кричу я на жену. – Выпиши няньку из Дании.
– Где я их найду?
– А я почем знаю? Люди же находят.
– Когда приходят мои друзья, мне перед ними стыдно. (И нам тоже.)
– Тут стыдиться нечего, – мягко говорю я дочери.
– Так и знала, что ты это скажешь, – угрюмо, недовольно отвечает она. – Так и знала, ничего ты не понимаешь.
– И не совестно тебе, – упрекает ее жена, – что ты такое говоришь?
– Оставь ее в покое.
– Ей бы надо радоваться, что она сама не такая.
– Она и радуется.
– Ты всегда за нее заступаешься, – обвиняет меня жена. – Врачи говорят, это не годится.
– А она считает, что я всегда заступаюсь за тебя.
– Зачем она всегда его вытаскивает на люди? – возмущается дочь. – Держала бы его в его комнате, когда ко мне приходят друзья.
(Мы тоже хотим, чтоб нянька убирала его с глаз долой, когда к нам приходят друзья, и говорили ей об этом. Но она все равно проводит его через все комнаты и громко что-то болтает, обращаясь к нему, – то ли чтоб выставить его напоказ перед гостями, то ли нам в наказание.)
– Ты бы поменьше из-за него расстраивалась, – советую я.
– Ты и сам расстраиваешься.
– Не так уж он ужасен.
– Нам за него неловко.
(Мне тоже за него неловко.)
– Напрасно тебе неловко, – говорю я дочери. – Никто из нас тут не виноват. Такое может случиться в каждой семье.
Но случилось в моей семье.
– У нас есть еще один ребенок, – время от времени вынужден я пояснять в самых обычных разговорах с едва знакомыми людьми. – Он умственно немного недоразвит. Это врожденное, – прибавляю я. – Он несколько отстает в развитии.
– Наш ребенок тоже немного отстает (или – эмоционально очень неуравновешенный), – признавались мне иные супружеские пары, прослышав о нас; нарочно отыскивали меня, чтобы сделать это признание (как будто у нас есть нечто общее).
А я вовсе не хочу вступать в этот клуб, противно мне сообщество обиженных судьбой родителей. (У меня мороз по коже от их попыток влезть в душу, я готов отмахнуться от них, как от мух. Терпеть не могу всякие замкнутые сообщества. Чувствую себя запертым в них, как в тюрьме. Или изгнанным и отвергнутым. Не хочу я чувствовать себя взаперти.)
Я понял, что происходит с Дереком, задолго до того, как это поняли другие (и заперли меня в замкнутом кругу), но ничего никому не сказал. (Позднее, когда люди начали кое-что замечать и опасливо, нерешительно упоминать об этом, я с чувством все отрицал. Не хотел я, чтобы это оказалось правдой. Я получал ужасающие предостережения. Я видел отчетливо, как на карте, через что мне предстоит пройти. Мне казалось, если все просто будут молчать, это не осуществится. Но я ошибался.) Он поздно начал садиться и вставать на ноги, поздно научился ходить и бегать. Даже любящему отцовскому глазу ясно было, что у него плохо скоординированы движения. Когда он шатался, спотыкался и падал, нам казалось – это милая неуклюжесть новорожденного щенка или жеребенка. И сейчас он двигается неловко, несуразно. Он даже не раскрывает рот, когда пытается говорить, – похоже, он не понимает связи между ртом и речью. И когда пытается что-нибудь сказать, челюсти у него не размыкаются, точно сведенные судорогой. (Напрягаются и вздуваются сухожилия, и я хочу только, чтобы он больше не пытался.) А меж тем он отлично открывает рот, когда ест или смеется или просто хочет пошуметь. Хотя понять не могу, что ему смешно – вот разве когда я протягиваю ему какую-нибудь игрушку и сразу отдергиваю руку, но в этих случаях он так же легко и плачет.
(С ним даже нельзя больше играть в обычные для малыша игры. И если я пробую с ним поиграть, а он плачет, я чувствую себя никчемной бездарностью. Крадучись ухожу, никому не нужный. Неистово злюсь на себя и на него. Неужели он не может даже посмеяться, как порядочный ребенок, если уж я хочу с ним поиграть?)
– Наверно, оттого что у меня такой брат, мне трудно будет найти себе мужа? – сердито и со страхом спрашивает дочь.
– Ничего подобного, – лжем мы.
– Почему это Дерек тебе помешает найти мужа? – взрывается жена, этот прямой вопрос ошеломил и возмутил ее.
(И теперь уже я должен защищать от нее мою девочку.)
– Оставь ее в покое, – негромко прошу я.
– Значит, помешает? – Дочь ждет от меня правды.
– А ты уже собралась замуж? – добродушно отшучиваюсь я.
– Вот видишь, он увиливает от ответа!
– Постыдилась бы, – говорит ей жена. – Что у тебя за мысли!
– Оставь ее в покое, – повторяю я.
– Наверно, люди решат, что и мои дети будут такие?
Жена захлебывается от возмущения.
– Ужас, что ты говоришь! – укоряет она дочь. – Ведь он твой брат!
– В том-то и дело, иначе меня бы это не беспокоило. Что же, и спросить нельзя?
– Оставь ее в покое, черт подери! – в бешенстве кричу я жене. – Меня тоже это беспокоит.
– Ей должно быть стыдно.
– И тебя тоже это беспокоит. И перестань попрекать ее из-за Дерека, черт побери.
– А ты перестань попрекать меня. Ты всегда за нее заступаешься. Доктора говорят, этого делать не следует.
– Я не заступаюсь.
– Нам нечего стыдиться Дерека.
– Ах нечего? Тогда какого черта нам всегда за него стыдно?
– Нет, не стыдно.
– Нет, стыдно.
– Вечно ты меня им попрекаешь.
– Черта с два. Совсем я не попрекаю.
– Не кричи на меня, – к моему изумлению, вдруг очень спокойно, тоном оскорбленного достоинства произносит жена.
Мне противно, я отворачиваюсь.
– Фу, черт, – бормочу я. – Смешно тебя слушать.
– И не выражайся так, – машинально откликается она. – Сколько раз я тебе говорила. Да еще при детях. Тебе, видно, доставляет удовольствие меня унижать. Я серьезно думаю, что тебе это нравится.
Не верю своим ушам. И в который раз спрашиваю себя, какого черта я женат на подобной женщине. Даже если б у меня не было других причин хотеть развода, довольно и того, что она мне родила слабоумного ребенка.
Я хочу с ней развестись.
Мне необходимо с ней развестись. Тоскую о разводе. Жажду развода. Молю Бога о разводе.
Невозможная штука эти разводы. На них надо положить прорву сил и труда. Просто не верится, что они так часты. Сердце сжимается от зависти, на глаза навертываются слезы волнения и тоски. Люди куда менее искусные умудряются пройти через развод бодро, лихо, как ни в чем не бывало, а я и шагу за дверь ступить не могу.
Я тоже хочу развестись с женой.
Всегда хотел развода. Мечтаю о разводе. Всю жизнь этого хотел. Еще и не женился, а уже хотел развода. За все годы, что женат, едва ли было шесть месяцев – нет, хотя бы шесть недель! – когда я не хотел бы покончить с этим браком и развестись. У меня никогда не было уверенности, что я хочу жениться. Но я всегда знал, что хочу развода.
«Если наш брак будет неудачным, – уверял я себя вплоть до того дня, когда мы поженились, – я всегда смогу развестись».
Но оказывается, далеко не всегда это возможно.
Не знаю, как это делается.
Может быть, я придаю слишком большое значение чистой рубашке.
Белье мое как раз будет в прачечной. Позволит она мне прийти и взять его? А вдруг сожжет мои трусы и рубашки? Или спрячет? Вдруг скажет, будто мой мальчик расстроен, а это будет неправда? Или скажет, что не может без меня жить, а на самом деле вполне может? Я знаю, она мне скажет, что покончит с собой. Похоже, препятствия неодолимы. Летом моя зимняя одежда убрана и пересыпана нафталином; зимой неизвестно, где висят мои летние костюмы и где припрятаны теннисные туфли. Как я все это соберу? Мне понадобятся недели, месяцы. У меня нет времени разводиться. Надо уложить столько вещей (она не станет помогать), вытерпеть столько разговоров. (Не понимаю, как кому-то удается довести это до конца?) Будут ссоры, споры, опять ссоры. (Неужели это никогда не кончится?) Банк уже отправит мне по обычному адресу выписку из счета. Я как раз буду ждать какого-нибудь письма, и мой любимый полосатый костюм еще не вернется из чистки. И книги надо будет упаковать в коробки гофрированного картона из-под продуктов – чем меньше коробка, тем легче, чем легче, тем лучше. Не удивительно, что я нахожу все новые предлоги для отсрочки и проволочки: благо детей (вот уж действительно, много они выиграли от того, что мы, родители, до сих пор не расстались!), деньги, работа, здоровье жены, на будущей неделе пригласили на вечер гостей, уговорились с одной парой пойти в театр, все это придется отменять. Ни мне, ни жене не захочется звонить и объясняться; уж лучше мы останемся женаты. Куда проще все перетерпеть, покуда у меня не изменится настроение – и тогда я себе внушу, будто вовсе и не хочу от нее уходить.
А я просто не знаю, как это делается.
Слабаки, тряпки и то с этим справляются. Будет она пересылать мне мою почту? Или придется звонить ей и напоминать о письмах на мое имя и о многом другом? Наверно, куда проще, если жена в кого-нибудь влюбится и первая захочет развода. Но моей жене недостает предприимчивости такого рода, она, пожалуй, до этого не додумается. И мне все равно придется укладывать все свои вещи. У меня еще с университетских времен полны полки книг с моими пометками на полях. Возможно, я никогда больше в них не загляну. Но мне захочется взять их с собой. Придется подыскать квартиру, обставить ее, чуть не каждый вечер готовить себе еду или ужинать в городе, завести более или менее сносных подружек, на какой-нибудь из них я рано или поздно женюсь, и можно будет снова мечтать о разводе.
Жаль нельзя нанять кого-нибудь на почасовую оплату, чтобы прошел через всю эту утомительную канитель за меня, с начала и до конца, даже испытал бы вместо меня угрызения совести, тревогу и раскаяние – все, что полагается и без чего никак нельзя почувствовать, что совесть твоя опять стерильно чиста.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































