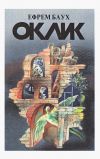Текст книги "«Что в имени тебе моем…»"

Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
3. По лунной дорожке…
Тайные каналы мирового Сознания, мировой Боли, открываются, как засохшие и вновь ожившие колодцы – на Тверском. Видение Иерусалима с галлюцинирующей силой встает перед Булгаковым – на Тверском.
«Четвертая проза» Мандельштама – как четвертое измерение. Огненные знаки на стене, обугленные обрывки рукописей, черновики к дням Последнего Суда.
Автопортрет Осипа летуч, весь в движении. И обретается им слабо светящийся, как матовая лампа изнутри, – полуночный феномен Тверского.
По лунной дорожке, с гениальной легкостью брошенной Булгаковым в Пространство и Время, идут рядом Пилат и Иешуа.
Но кто этот малый, каждую ночь бредущий по асфальту Тверского бульвара, вглядывающийся до боли в глазах в мерцающие воронки вернувшегося времени, и при явлении Осипа начинающий метаться, мычать, как немой, тянуть к нему руку, ибо вторая парализована. Что этот неказистый малый пытается припомнить? Обрывки молитв, которым обучался в духовной семинарии?
Напрягает немощное малое свое тело, прячет слабо действующую ручку, морщит узкий семинаристский лоб. Как же начинается? – «Господи, помилуй…» или «Благословен Ты, Господи, Владыко мира…» – «Барух ата, Адонай Элоэйну…» Обрывки молитв, постоянно мучающие его в чугунных, великодержавных снах, когда он просыпался в холодному поту. Всегда – один.
Отец народов, солнце мира, вождь человечества. Только и осталось от него, что горсть пепла.
Правда легче, чем его тезке, Иосифу-Осипу, преодолевающему тысячекилометровую гибель и дичь. Всегда тут, рядом: собрался пеплом из-под плиты, как джин из бутылки, рукой подать – Тверской.
Отец народов, вождь человечества – чудовищные потоки славословия извелись, иссякли, пресеклись, как будто и не были. Остались строки, как проклятие, писанные перстами руки человеческой Осипа:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви жирны,
А слова, как чугунные гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сверкают его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.
Это пишется обычной ручкой, на тетрадном листке в полоску, чуть ли не благословение к моему рождению, в ноябре 1933.
Я явлюсь на свет в январе 1934. Под знаком гибельной правды. Так закладывается наследие.
И не извернуться малому, как он единственный раз предстал Пастернаку крабообразным существом с широкой грудью и короткими ногами. Навек вросли, как ногти в мясо, «голенища» и «тараканьи усища». И рта не раскрыть, ни помолиться, ни слезу пустить, только «бабачить и тыкать». Тяжкий ритуал – каждую ночь собираться пеплом из-под плиты, у этой, как мясо, с которого содрали кожу, Кремлевской стены. И слышать за спиной – свист, хныканье, истеричный, как у гиен, смех собирающихся пеплом из стенных ниш – этих, опять же с легкой руки Осипа, благословенной Господом, названных сбродом «тонкошеих вождей». Смутные остатки их младенческой памяти и воли протянуты через стену, в пустынные сводящие с ума, кремлевские коридоры, где пусто даже в многолюдье, где скука такой адской концентрации, что может лишь разрядиться в невероятные преступления.
Опять тащиться на Тверской, опять и всегда бабачить и тыкать.
По лунной дорожке идут навечно рядом Пилат и Иешуа.
На Тверском бульваре, напрочь разделенные Божьей справедливостью, связанные навек, стоят напротив друг друга два Осипа. И одному начертано лететь и петь, а другому – бабачить и тыкать. И будет это длиться вечно и до скончания веков.
4. Апостол Борис и пророк Осип
Так получилось. Дачу Бориса Пастернака в Переделкино от верхней части кладбища, карабкавшегося на холм, отделяет овраг. Из окна дачи ясно видны три сосны на кладбищенском пустыре. Они притягивали взгляд странным, и, тем не менее, обещанием Господним: ты будешь похоронен под этими тремя соснами.
Предвещала ли Осипу его постоянная бездомность абсолютное исчезновение без места захоронения? По стихам чувствуется: догадывался.
Просиживал ли Борис под тремя соснами, привыкая к месту собственной вечности?
Переводил «Фауста» Гёте, и поглядывал в окно. Туда.
Перевел еще одну строфу шекспировского «Гамлета», еще одну, час к часу, день ко дню. Вот и последняя точка…
Дальше – тишина…
В окне – три сосны.
Корпел над романом «Доктор Живаго». Страница к странице. Помарки, зачеркивание, пометки на полях – трудная радость прикосновения к истине. Падает Юрий Андреевич Живаго с трамвайной подножки, умирает где-то на Садовой.
Мельком – взгляд в окно – три сосны на холме. Ветер. Пустота и мужество Вечности.
Трудно было с деньгами. Пришел в Литфонд.
«Говорят, здесь выдают помощь писателям».
«Сколько вам нужно?»
«Тысячу рублей».
«Пишите заявление».
Пишет: «Прошу выделить мне тысячу рублей. Пастернак».
«А для чего деньги?»
«Как для чего?»
Необходимо показать, для какой цели.
«А?!»
Переправил точку на запятую, добавил… чтоб жить…
Он был скроен на разговор с Богом. Трубка была обычной. Звонок, треск, писк. Но голос шел с тех высот, где с грузинским акцентом решалось – «Быть или не быть». Голос спрашивал о Мандельштаме. Вариантов этой беседы много. По одной из версий Пастернак подумал, что это розыгрыш. Но звонок раздался вторично. Пастернак был выбит из колеи. Голос говорил, что в его время за друга не так боролись. «Я бы на стены лез, чтобы помочь ему». В ответ что-то бормоталось о том, чтобы встретиться, поговорить.
«О чём?»
«О жизни и смерти».
В трубке щелкнуло. Так отключаются навечно. Пастернак тут же звонит в Кремль, говорит, что кто-то прервал разговор. Отвечают: товарищ Сталин сам положил трубку.
Очень просто. Ухмыльнулся, вынул душу и положил. Как явление Смерти. А верилось: можно и о Жизни. Представляя детей гостям, жена Пастернака говорила, что они больше всего любят Сталина, а потом уже родителей. Пугающая инфантильность для жилища, где обитает один из посвященных в Ученики. Не это ли от его христианских поисков, обретенных им от обожаемого им Учителя, неокантианца Германа Коэна?
Все апостолы – иудеи. Что он испытывал, заполняя графу о национальности? Откуда такие скудные, даже неприязненные слова об иудействе? Что за легковесность в отношениях с еврейским Богом, возложившим на свой народ тяжкое бремя – всегда быть в предельной ситуации: не говорить о жизни и смерти, а вершиться в их огненной купели. Как странно скрывается интерес к корням собственного Древа жизни. Как будто речь о постороннем. А постороннее – жизнь, которую видишь отходящим в смерть слабеющим взглядом.
Диалог двух друзей. Двух иудеев. Двух русских поэтов Пастернака и Мандельштама.
Первый: «Властители этого народа… Отчего не распустили они этого неизвестно за что борющегося и за что избиваемого народа…»
Второй: «Писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь…»
Апостол Борис и пророк Осип.
Дано было Осипу более, чем пророку Даниилу, ибо время было неизмеримо страшнее.
Даниил прочитал на пиру Валтасара надпись на стене, начертанную рукой человеческой: ты взвешен и найден легким.
Осип сам начертал, и перстами его вел Бог. Не было соблазна, не было боязни – было обугленное знание.
Есть правда с надеждой. И есть – безнадежная правда.
Есть правда победившего христианства.
И есть правда непобежденного иудейства.
«Мы будем гибнуть откровенно», – говорит апостол Борис, и в этом еще надежда: будем, а может?..
Я изучил науку расставанья…
Иудейский пророк изучил науку безнадежности опытом тысячелетий.
Вождь был рыжеват, в оспинку. Потому за глаза его называли – Рябой. Удар медного колокола его раздражал, и он заменил его взрывом. Так что если бить в медный набат несколько суток, не помянешь всего, сметенного им с лица земли. Варварство было планомерно, однако математический базис плана был не сложнее, чем дважды два. Какая уж тут нужна философия, чтобы в один миг превратить в груду пыли то, что возводилось столетиями?
Исчезли в облаках – не Господних, а пыли и праха – Храм Христа Спасителя, Храм Спаса на бору в Кремле, Вознесенский и Чудов монастыри, красное крыльцо Грановитой палаты. Четыреста архитектурных памятников было превращено в прах только в Москве. Куда Алариху, царю остготов, разрушившему Рим? А радости сколько было! Взрывали с песнями и в самом наипрогрессивном беспамятстве. Это был внезапно, в окончательной форме и с первого мгновения, выродившийся Нижний мир, и в нем разрушали все, что есть, во имя того, что не может быть, и радовались, как радуются на пиру во время чумы, рубили, как рубят сук, на котором сидят.
Кончики пальцев Бога не прощупывают Нижний мир. Для их чувствительности его нет. Он где-то в пропастях – ниже памяти, печали и боли.
5. Ворон черный – знак живого погребения
Тысяча девятьсот тридцать седьмой. Невидимый и невиданный пожар охватил людской материал. Поджигатели, прячущиеся днем, выходят на работу ночью. Топочут сапоги по ступенькам. Все ждут по своим клеткам, затаившись. Где-то рядом горит, выволакивают, выносят, выводят, слышен сдавленный плач детей. Поджигатели под масками пожарников дело свое знают, переговариваются коротко и отрывисто. Еще одна утроба сгорает в мертвом пространстве соседских замочных скважин и дверей, слабое бледное пламя едва мечется по лестничной клетке – черная железная дверь пожарной машины гасит его, как затаптывает окурок.
Черная воронка ночи заливает еще одну брешь в живой плоти многоэтажного дома. Черный «воронок» сдвигается с места, покачиваясь, как на рессорах, в собственном столь популярном и ласковом имени – «воронок».
То ли от слова – «ворон». Ворон черный – знак живого погребения. То ли от слова – «воронка». Засасывающая. Уже не вздохнуть. И нет выброса – обратно, на воздух.
Утро красит нежным светом без конца почему-то распевающие и что-то выкорчевывающие толпы.
Мандельштам бродит по тихо сгорающей в утробе Москве. Стригут траву, выкорчевывают деревья и вековые фундаменты. Палач, возомнивший себя садовником и архитектором, рубит деревья и камни под корень, головы – под шею.
Как бродили оставшиеся в живых погорельцы на пепелище Иерусалима и догорающего Храма, бродит Мандельштам по Москве, неожиданно освобожденный в начале тридцать седьмого. Какая внезапная, не к месту, удушливая свобода. Черный, обугленный, на пожарище, он пытается писать хвалебную оду Сталину. Складывает строки, как самоуничтожается, словно кладет камни на собственное захоронение. Бродит по пепелищу, надеется.
…У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса…
Слова об обычной каждодневной жизни дышат гарью, пожаром, гибелью:
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок…
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных…
Кто они – гости дорогие? Иных уж нет, а те – далече. Значит – дубленных и кожевенных дел мастера – гости дорогие…
Полночь в чумной Москве…
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров…
И вдруг…
Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный Председатель
Заблудился с лошадьми…
Всё припомнил – всю жизнь свою, и мелкого беса, в оспинку, рябого фаэтонщика, и судьбу свою, которая уже так отчетливо предопределена…
Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола поденщик,
Односложен и угрюм…
Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты…
Поденщик дьявола, просмолённый – так, что никакие пожары ему не были страшны, – дымил трубкой, и казалась она прямой отдушиной Преисподней: дымок добродушно попыхивал, – ведь сжигали, мучили, варили, и сдавленный застенками вой вырывался через другую искусную отдушину – ансамбли песен и плясок, прославляющие вождя народов и времен.
Вой складывался в благозвучные аккорды. Это еще у древних греков было изобретено: бык из металла и камня, в котором сжигали жертв. Но система отверстий была так искусно придумана, что вой, преобразованный этой системой, вырывался в пространство гармоническим согласием, стройным ансамблем, ублажая слух очередного тирана.
Гремели оркестры, сверкала медь, красные полотна летели по ветру, кипуче-могучее шевеление толп ударялось о стены зданий. Даже подручные Кожевника выползли погреться на солнышко.
Первого мая тысяча девятьсот тридцать восьмого года под ликование тысячных толп людей, на лицах которых пузырилось младенческое беспамятство, Мандельштам был арестован. Цепь жизни замкнулась. Впереди лагерь «Вторая речка» под Владивостоком. Выгребная яма. Братская могила.
6. Высшая недостоверность
Размытое в тысячелетиях место захоронения пророка Моисея возводит всю гору Нево в Заиорданье в Пантеон, открывая сквозь время цепь мест Господних, окруженных легендой, болью и Высшей Недостоверностью, которая покрывает нищенскую точность документа. Отныне братская могила на «Второй речке», как и гора Нево, – становятся болевыми узлами памяти мира. Невероятным кажется, что в тысячелетиях, когда с лица земли исчезали народы и царства, и само лицо земли менялось, могли сохраниться – пещера Махпела, колодец Авраама, дубрава Мамре.
Тысячелетнее время, – как бурлящий поток, разрываемый крепко вросшим в землю стволом дуба, скалой, камнем из-под изголовья Иакова.
Имена эти – как оклик. С высот.
Иосиф!
Душа стигийской ласточкой выскальзывающая из тела – вверх, вверх – над огромно поворачивающейся дугой, по Пастернаку, «страшным креном», освобождающим, от Сотворения мира, – дугой Дальнего Востока, над обломом прибоя. Так задыхается от вечного бега вдоль побережий Великий океан – вверх, вверх – за едва прослеживаемым, как дрожание воздуха, скольжением Ангелов, мгновенно и навек схваченным Микельанджелло под куполом Сикстинской капеллы. Потрясает движение Бога, творящего Небо и Землю, и пальцы Его ускользают из-под кисти – в бескрайнее Зиянье.
Иосиф!
Упасть среди палаческого уюта на даче в Кунцево, в банном тепле московской берлоги, мгновенно превратившись в подобие безымянного трупа братской могилы, взахлеб погружаясь на дно собственной смерти, как в омут выгребной ямы. И уже никто руки не протянет, только вокруг – вниз, вниз – опрокидываясь креном на тебя – ненавистные хари и рыла кадят тебе, рыдают, но ты уже – падаль, ты уже ничего не сможешь им сделать.
Весь парализующий ужас Преисподней, ее втягивающей бездны испытать, открыв в последнем бессилии один глаз, безумный, единственный, микельанджеловского персонажа на фреске Страшного Суда.
Уже в состоянии смерти, в гаснущих искрах света, по ту сторону, увидеть кувшинно вытянутые к тебе – волчьи лица ожидающих с любопытством, страхом, злорадством твоего последнего вздоха.
7. «Во мне кровь пророков и царей»
Осипа Мандельштама мучает навязчивое видение вернувшегося с того света в тягчайшее время иссушающих морозов, когда задыхаешься от нехватки воздуха или ледяного прикосновения палаческого лезвия к горлу.
Он изводит себя видением ямы, утягивающей в гниль, в гнойные воды.
И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке,
И спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке…
Но откуда девятнадцатилетнему Осипу еще в тысяча девятьсот десятом году приходит видение ямы, так странно и глубинно связанное с Иудеей?
Неумолимые слова…
Окаменела Иудея,
И с каждым мигом тяжелея,
Его поникла голова.
Поражение? Слава? Вечность? Уходит Саул, царь иудейский…
«Во мне кровь пророков и царей», – говорит и уходит Осип.
Стояли воины кругом
На страже стынущего тела,
Как венчик, голова висела
На стебле тонком и чужом…
И царствовал и никнул он,
Как лилия в родимый омут…
Уходит Осип в омут выгребной ямы в чужом диком краю.
Уходит Саул в родной Иудее в родимый омут.
Слова слиты с каждым вздохом. Но такое сверхчеловеческое слияние и предполагает – «родимый омут» –
И глубина, где стебли тонут,
Торжествовала свой закон.
Не ощущается ли в четких с первого взгляда строках, но полных горькой запредельной тайны, сокровенная связь с каббалистической последней правдой, которая за жизнью, суетой, смертью – торжествует свой Закон?!
7. На переправе
Стихи нарочито темны, словно пытаются проскользнуть мимо взгляда, мимо сознания и осмысления – невнятицей. Словно всей скрытой в себе силой прячут обжигающий знак судьбы, несущий предупреждение.
Ну, что такого важного в тонкой книжице Мандельштама «Тристии», появившейся в двадцатые годы?
Свидетельство вернувшегося оттуда художника, которого призывает Пастернак?
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты вечности заложник
У времени в плену.
В барабанном громе новой сияющей иллюзии кто уловит тяжкое предчувствие, легкое умирание, ставшее долгим, до последнего мига, ощущением? Какой тонкий, скорбный, запредельный слух надо иметь, какой опыт надо оттуда вынести, чтобы в предощущении миллионов смертей, кровавой каши, где последний вздох, последний слепящий свет Ангелов смешивается со смердящими водами выгребной ямы – ясно и вечно услышать и увидеть реальный образ этого мгновения…
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина…
Рано умерший Николай Чуковский, сын Корнея, писал в очерке «Встречи с Мандельштамом», в шестьдесят четвертом году: «В комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос, – ни одной личной вещи. И тогда я понял разительную его черту – безбытность… У него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости – он вел бродячий образ жизни…»
Черты ли это характера – безбытность и кочевье? Не опыт ли это – запредельного странствия, намек и знак того мира?
Он всю жизнь свою жил, как вернувшийся оттуда, мерящий всё мерой оттуда – водой Стикса, забвением Аида. Представитель тех, за переправой. Их заложник в этом мире.
У тех были тоже свои диалоги.
Не наивность ли древних римлян отправлять к Харону императора Веспасиана с монетой «Побежденная Иудея» во рту?
«Так же наивно, как их представления о нашем мире, который они называют Аидом, Эребом, Гиеномом, Полем мертвых».
«Если бы они знали…»
«Вы тоже слышали странные слухи с переправы? Такого наплыва, говорят, не знали со дня Потопа».
«И, главное, без имен. Только номера».
«И денег никаких за переправу. Вместо монет какие-то бирки».
«Оскудел мир на выдумки».
«Ну да… А крематорий?!»
«Такое кощунство. Самим себе придумать Геенну».
«Если бы они знали…»
Тройная кара могилы: безвинность, безымянность, вечная мерзлота. Височный лед стоящих толп у переправы. Тобол, Кама, Обь, Енисей, Колыма – ледяные линии Божьего забвения. Сибирь – ледяной Синай.
Сибирская манна – обманна.
Упиралась вода в сто четыре весла, —
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.
На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту.
И речная волна поднялась в высоту…
Волосы – дыбом. Зубы легко вынимать из десен, как годы жизни – сколько там осталось? Зад обвисший, верблюжий – значит, уже плачет по тебе вечная мерзлота.
Душа жаждет покоя, забвения, и не может избавиться от изнуряющего ее полета – слепой ласточки или камня, пущенного из пращи.
Каф акела на иврите – гнездо пращи, согнутая в пригоршню ладонь Ангела, швыряющая душу. Каф акела – состояние души, которую швырнули из пращи из одного края мира живых в другой край мира мертвых.
Мучительно в полете.
В бархате всемирной пустоты
черное ночное солнце, бесконечные похороны этого солнца преследуют Мандельштама, как мертвенно-ослепительная луна, бегущая за тобой. А под тобой – бесконечно длящиеся черные воды Невы, Стикса, белые, как последний ужас, воды сибирских рек. А за ними – приближающееся сухое русло Последнего суда, еще далекое, но к нему уже, едва видимые, плывут пустые челноки, весь выводок гомеровских кораблей – готовятся души к последнему странствию.
Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет…
Всё тот же Петрополь восемнадцатого года, захлестываемый водами Невы, впрямую соединенной с черными водами Аида. Вернуться оттуда, вслед за Энохом и Данте.
На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает…
Вернуться из долгого морока, обморока – в ночь Петрограда, горбящегося дикой кошкой, где кликушеский крик кукушки – автомобильный клаксон: режущая жизнь пародия на рог Архангела…
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное бессмысленное слово
Я в ночи январской помолюсь…
Какой молитвой встречают вернувшегося оттуда? Поталмудическому трактату «Брахот», близкого человека после года разлуки встречают особым благословением. По Талмуду год – срок забвения прошлого.
Но тому, что увидел там, забвения нет. Вернувшаяся душу навек полна скорби.
Скорбь – тристии.
Скорбь – всегда – предчувствие.
Человек, вернувшийся оттуда, живет в обычном мире, вздрагивая, как антенна, ощущающая сигналы оттуда.
Пока железный мир заворожен, можно бы опять проскользнуть туда…
На звучный пир, в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.
И даже в мгновенья наибольшей наполненностью жизнью, как за краем глаза, невидимо, но гибельно присутствует «там».
Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.
Осип Мандельштам, осененный миндалём, чьи плоды с горчинкой, отдалено напоминающей некое подобие яда, бегущий от иудейства и возвращающийся к нему, пытающийся просто «жить и дышать», обречен был быть связанным с линией судьбы, тянущийся от Иосифа Флавия (Осипа Римского) до последнего иудея, плачущего на «рубеже земли Обетованной».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?