Текст книги "Уроки русского"
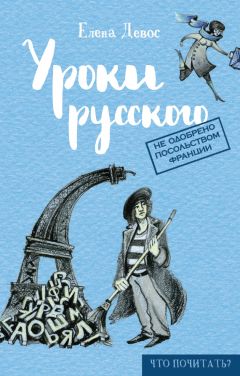
Автор книги: Елена Девос
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Писатели и читатели
Я очень любила этот дом, его милый перманентный бардак – как ни странно, в этом доме бардак меня совершенно не раздражал, даже очаровывал.
Учеников было двое, девочка и мальчик. Мы занимались за большим, покрытым парчовой красной скатертью столом, на котором одновременно лежала масса безделушек и полезных вещей. Рядом с книгами у нас всегда красовались ваза с живыми цветами, подтаявшие свечи в подсвечниках и стаканах, россыпь лекарств самого различного назначения и прочее, и прочее.
Украшениями этой комнаты были карамельного цвета рояль и тяжелый буфет, в котором стояли немножко пыльные хрустальные бокалы и графины и какое-то тусклое собрание ликеров из Италии.
– Русский опять отменили, – вздохнула родительница и насыпала кофе в кофемолку. – У него уже четвертый месяц как ностальгия.
– С русскими это случается, – сочувственно вздохнула я. И представила, как мой соотечественник грустит там, у школьного окна, нежный и прекрасный, как лермонтовская пальма в пустыне горючей.
«При этом… Все-таки странно, – виновато подумала я, – каким толстокожим становишься, когда не знаешь, что у человека внутри… Чего бы ему переживать, если это лучший лицей района, с такими экзотическими обязательными языками, как русский и японский, с такими учениками, как эти двое, – и русский-то знают прекрасно, просто что-то иногда на уроке не допоняли… Хотят не 14 баллов из 20, а 18… Ну не прелесть ли?..»
– Да француз он! Парижанин! – ответила мама, и кофемолка возмущенно рявкнула, переходя на третью скорость. Мама покачала головой, остановила адскую машину и позвала дочь с чердака, на котором та разбирала свои старые тетради и книжки: – Анна-Мария!!!
Мне объяснили за чашкой отличного кофе со сливками, что дочь получила это имя в честь сестры Моцарта, который, кстати говоря, приходился им соотечественником – ну, то есть, строго говоря, только маме Анны-Марии. Маму звали Кристин, правильней по-австрийски – Кристине, но ей Кристин больше нравилось.
Впрочем, австрийкой на бумаге она не была – семья Кристин переехала в графство Монако 50 лет назад, так что Кристин родилась уже там. Гражданкой Монако она и прожила на земле 40 лет, и только совсем недавно, на пороге префектуры, после трехчасового ожидания в очереди на продление вида на жительство на следующие 10 лет, она вдруг задумалась, уж не получить ли французское гражданство действительно, чем таскаться в это место вот так по утрам…
Мужем Кристин был Доминик – самый обычный француз, Доминик Дюпон. Мсье Дюпон работал в министерстве транспорта, но музыку любил не меньше супруги, в связи с чем и заявил о непременном желании назвать сына в честь Бетховена. Вот так и появился наконец у меня в учениках Людвиг – правда, Дюпон, а не Витгенштейн.
– Как же он не боится, – переживала я о судьбе несчастного преподавателя, – ведь такая престижная школа… его в два счета заменят на другого.
Тогда она вдруг с изумлением взглянула на меня и перестала раскатывать слоеное тесто для своего яблочного штруделя.
– Вы, дорогая моя, с луны свалились, что ли? Профессоров и учителей невозможно уволить! Их просто передвигают куда-нибудь, вбок или вверх по служебной лестнице – это называется muter. Я знала случаи, когда педофилов просто посылали в другой лицей, потому что, видите ли, уволить их было нельзя.
Видимо, лицо у меня вытянулось, потому что она спросила:
– А вы первый раз про это слышите? Никто вам не говорил? Про это только вслух не принято. Но все же знают! – И продолжила: – Был случай, работала в учительской секретарь… И с некоторых пор стали за ней замечать, что она… Как бы это сказать… Немного не в своем уме. Так вот, она однажды выкинула факс из окна учительской. И, надо ж такому случиться, он упал на дорогу, по которой министр образования ездил в министерство – регулярно, два раза в день. И вот факс упал, а через десять минут по этой дороге должен был проехать министр. Когда ее коллеги и начальники это увидели, то ужасно взволновались. И решили действовать! Но все, что они смогли сделать, это просто отправить уборщицу замести останки бедного факса в мусорный пакет, да сказать рабочему, чтобы он забил окно, так, чтобы оно не отворялось, вы представляете? Она продолжала там работать! И другую историю знаю, как в анекдоте, историю о профессоре истории… Был один профессор, который всю Вторую мировую войну трактовал с точки зрения ревизионизма, то есть Холокоста и концлагерей не было, геноцида не было, ничего не было. И они, весь их совет, который наполовину состоял из социалистов и коммунистов, не могли его уволить!
– А почему? – тупо спросила я.
– А потому, что, если уж профессор добрался до кафедры, если уж сдал все эти чертовы экзамены на право преподавать (которые отношения к его предмету часто не имеют), никто потом не может указывать ему, как и что преподавать. Да и в простой школе – вы взгляните внимательней на структуру управления. Там директор не контролирует учителей. Он контролирует расписание. А что учителя делают на уроках, как они их проводят, да и проводят ли, есть ли им замена – это уже далеко от директора. Это контролирует ректор из академии образования, и он не в школе каждый день сидит, а издалека руководит. Возвращаясь к этому историку, надо сказать, что в конце концов его уволили, потому что полиция нашла у него дома анашу.
* * *
– А вы по-немецки дома говорите? – задала я давно мучивший меня вопрос.
Людвиг и Анна-Мария занимались со мной уже месяца четыре, и я как-то не слышала в доме другой речи, кроме французской.
– Нет, – просто и без тени стеснения ответила Кристин. – Знаете, дети как-то заупрямились, и я давить не стала. Ну, а зачем?
– Это же ваш родной язык, – сказала я с ужасом. – Ведь они же потом будут вас ругать. Вы будете себя ругать…
– Ну, я не знаю… – пожала Кристин плечами. – У нас демократия в семье. Хочешь говори, хочешь нет. Доминик не жалеет, я не жалею, дети не жалеют. Это было… семейное решение. Английским я им помогаю заниматься, на уровне школы, это язык нужный. А немецкий – куда с ним? В той же Австрии и Германии английский везде, где только захотите… вам его будет достаточно.
– Вы когда последний раз были в Австрии?.. – осторожно закинула удочку я.
– Ну, лет шестнадцать назад… давно не была, – охотно согласилась Кристин. – Но все новости знаю, по Интернету всё вижу. Сейчас же такая глобализация! С английским вы добьетесь всего, чего хотите! Вот я даже сайт использую на английском, чтобы заказать австрийские книги…
– То есть вы все-таки по-немецки читаете? – спросила я.
– Да, вот читать по-немецки я очень люблю. Такие прекрасные книги сейчас в австрийской литературе, – вдруг с жаром сказала она, – и, вот знаете, я пробовала читать по-французски, но не то, не то… Смотрите, вот сейчас вам покажу… Написала моя тезка, Кристине Нестлингер. Обычная семья, вот и название даже у книги простое: «Само собой и вообще». И вот именно потому, что просто, получается так хорошо…
– Подождите, – перебила я. – Сейчас покажете, само собой, и вообще. Но ведь вы же видите какую-то пользу в языке, вы себе противоречите, вы же только что сказали – это наслаждение, читать книгу в оригинале. Если вы научите своих детей немецкому, они тоже… они тоже смогут…
– Ну, да, может быть, и так, – невозмутимо ответила она, словно я ей сказала, что австрийский шницель – самый вкусный в мире, но чего об этом говорить, когда на столе есть камамбер. – Сейчас, все-таки вам покажу, обязательно найдите, хотя бы на английском, это такая книга!
Она вернулась с тоненькой серой книжечкой в руках. И сказала мелодично: «Sowieso und uberhaupt»… и была в этом какая-то ломаная мелодия, вроде как у музейной шарманки.
– Понимаете, это обыкновенная семья, – она открыла книжку и с нежностью перелистала ее. – Муж, жена и трое детей. Отец все время пропадает на работе, трудится вроде как на благо государства… А дома ничего не делает, все взвалил на жену, которая смотрит за детьми и пытается все-таки реализовать себя. Да. Открывает жена магазин. Они ссорятся – так хорошо написано, все эти пустяки, все эти предлоги, когда он пытается сказать, что она не умеет вести дела… Потому что на самом деле все просто, у него другая. И все боятся в этом признаться, чтобы не ранить детей. Но дети догадываются сами. И, понимаете, история драмы, развода – так легко и просто описано детским языком!
Я заметила, что она как-то подозрительно увлеклась пересказыванием чужой семейной драмы, и щеки ее порозовели. Я вспомнила, что в самый первый урок, когда она зашла в прихожую, нагруженная сумками и авоськами, Анна-Мария сразу крикнула: «Мам! Папа уехал в командировку. Просил передать, что приедет в пятницу», – и Кристин, бросив сумки на пол, сказала: «Ну, конечно. Мне в глаза он не мог сказать, что приедет в пятницу».
Я знала, что Кристин не работает, а занимается детьми.
Я нашла эту книгу на русском, в чудесном переводе и с замечательными, остроумными рисунками. Я с удовольствием прочитала ее, но все-таки не могла отделаться от тревожного чувства, что Кристин-читатель, к сожалению, нашла в повести Кристин-писателя нечто большее, чем талантливый стиль и удовольствие читать по-немецки.
* * *
– Никто не готовит этот чудесный пирог так, как вас.
– Так, как вы.
– Никто не готовит так, как вы.
– Правильно. Грамматически. А практически – нет.
Учитель вздыхает, барабанит костяшками пальцев по залитому дождем окну и признается честно:
– Это не совсем я, это Груша помогала.
– Можно ли сказать: никто не готовит так, как вы и Груша?
– Можно. Совершенно правильно. Грамматически.
* * *
…Честно скажу, не знаю, что привлекало писателя Вольдемара больше в наших домашних уроках – то, что там позволялось сидеть в кресле, говорить о политике, писать диктанты на любимые темы, то, что мы пропускали все, что сегодня было скучно и далеко от жизни, зато болтали о новых детских сказках и мультфильмах, или все-таки чай с лимоном и яблочная шарлотка. Я только знаю, что мне открылся настоящий смысл чаепития в уроках Фани Паскаль и даже закралась мысль, что ее ученик, Витгенштейн, был порой куда больше увлечен пирогом, чем расставлением ударений в романах Достоевского.
Вольдемар Перро пунктуально приходил к нам домой, где бы мы ни жили и куда бы ни переезжали.
А переезжали мы за время нашего с ним общения три раза, и каждый раз все дальше от его милого жилища рядом с тисами и сложной системой каналов, где рыжевато блестела прозрачная вода и пахли медом заросли кубышек, такие густые, что их листья мешали плавать одинокому старому лебедю. Там мы и встретились в первый раз – случайно, как раз около водяных лилий. Вольдемар гулял, сочиняя новую книгу, а я катала коляску, и Сережа показывал в ней такие гимнастические трюки, которые взрослые люди выполняют для того, чтобы их взяли в космонавты.
– Ах! Он сейчас упадет! – воскликнул писатель Вольдемар.
– Это я упаду, а он засмеется, – ответила я мрачно и, пошатнувшись, подхватила Сережу.
Сережа засмеялся. Впрочем, не оттого, что его взяли на руки, но оттого, что увидел, как у писа теля из рюкзака выскочил брелок – маленькая плюшевая панда – и повис на шелковой ниточке.
– Смотри, кака-а-ая! – протянул Сережа. На вполне сносном русском.
– О! Счастье! – сказал Вольдемар по-русски. – Я слышу знакомые звуки. – Он отпрыгнул как мячик, ловко поклонился, и добавил: – Меня зовут Вольдемар. Я детский писатель. Как тебя зовут? Хочешь, я подарю тебе книжку?
Сережа застеснялся, но слово за слово мы все втроем разговорились, и Вольдемар поведал, что читал и Пушкина, и Толстого, и Солженицына, и Аксенова и год преподавал французский на острове Крым, где и влюбился – по крайней мере, в русский язык и культуру, а про остальное я решила пока не расспрашивать.
Далее он говорил без умолку до самого нашего дома, рассказал, что взял себе псевдоним Вольдемар в честь русского писателя Владимира Набокова, что работа русских писателей вообще вдохновит кого угодно, что он скучает по русской практике, что ему надобно придумать русскую героиню… и раз уж я преподаю этот язык, а он тут живет недалеко, так почему бы не встречаться раз в неделю, освежить его знания и заглянуть в словари?
На том и порешили.
* * *
Заходил он так: сначала ударял в звонок, а потом отпрыгивал на несколько шагов и ждал, когда откроется дверь. Тогда он изящно откидывал по-байроновски кудлатую голову, левой рукой отбрасывал со лба непокорные кудри или, если дело было осенью, срывал с головы свою красную кепку, а правую поднимал пистолетом и шел прямо на вас. Его глаза были голубого цвета, точь-в-точь как у врубелевского пана. Когда вы уже поняли и смирились с мыслью, что он застрелит вас и ворвется в дом, он вдруг щедро пожимал вам руку и говорил:
– Добрый день!
У него были любопытное «Р» – безупречно твердое, редкое в этих краях – и феноменальная способность запоминать даты революций, старинных битв и названия современных политических партий мира. Он любил говорить о политике, а если, как в данном случае, его собеседник представлял из себя живой пример политической неграмотности, Вольдемар брал в руки карандаш и начинал рисовать. Рисовал он синие облака и красные колеса, ромбы и звезды, кружки и стрелы, дабы картина политической жизни Франции вышла верной. Закончив, Вольдемар обычно замирал с карандашом в руке на секунду, любуясь своим искусством, потом складывал листочек вдвое и почтительно передавал мне.
Зато тяжело давались ему глаголы движения, средний род слова «облако» и творительный падеж без предлога.
Одно выручало: с воображением у Вольдемара проблем не было – ну писатель, что с него возьмешь! Помню, он принес чудесную книжицу, где надо было ответить на вопросы к тексту, и мы разбирали тот момент, где слепой музыкант знакомится с девочкой – дежавю моих собственных уроков чтения в третьем классе, за голубой деревянной партой с прочерченными на ней острой шариковой ручкой словами: «Лаптева – дура».
Один из вопросов был: «Девочка не пришла, потому что мальчик обидел ее?».
Вольдемар почесал нос и выдал следующее:
– Нет, это автор думает, что мальчик обидел ее, а на самом деле… – Тут я открыла рот, хотела возразить что-нибудь, но он энергично продолжил свою речь: – У нее, может быть, появились дела, или она думала, что ответить этому Янко в следующий раз, и потому не спешила прийти.
– Понимаете, у нас есть голос автора, – робко вступила я в защиту Короленко. – Какое же может быть «на самом деле»? Автор говорит, что девочка обиделась.
– Автор часто сам не знает, что говорит! – с жаром возразил Вольдемар. – Уж вы мне поверьте на слово.
* * *
Я поверила, но это не спасло меня от еще одного казуса, случившегося полгода спустя, когда я, закончив урок в Париже с одним послушным и способным программистом, вернулась домой к нашему уроку с Вольдемаром.
Поскольку с программистом мы только что обсудили сюжет бессмертной пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта» и весь подсобный словарь этой темы был аккуратно выписан у меня в тетрадь, я решила побаловать моего писателя и попросила его «пересказать содержание Р и Дж», как было записано в моем дневнике еще в поезде, по дороге домой.
Результат превзошел все мои ожидания.
Наш диалог напоминал сцену из какого-нибудь старого тележурнала «Ералаш» про будни заядлых троечников.
– «Ромео и Джульетта»? О радость! О великий Шекспир! Что я думаю? О, ну, я думаю, что это великая пьеса. Что происходит? А, да. Значит… Да. Это история про молодого человека. Его зовут Ромео. И он знакомится с юной девушкой. Ее зовут Джульетта. Как знакомится? Э-а… Как-то нечаянно знакомится… Случайно? Да! Случайно знакомится. Джульетта очень красивая. И Ромео сразу это видит. Где видит? Э-э… Дома у Джульетты? Ну да, конечно. Это он видит дома у Джульетты. Ромео пригласили на бал в ее дворце, и он пришел… Что? Ну, да, то есть не пригласили, но он пришел, как будто его пригласили. Интрига! Но не это… э-э… главное. Главное есть то, что они влюбляются!!! Джульетта подает ему знак с балкона, Ромео лезет на балкон, и происходит ночь любви! Они целуются… Дальше? Э-э-э… Дальше очень грустно. Ромео выпивает яд…
– Вольдемар, – мягко сказала я, – вы когда читали пьесу последний раз?..
Он торопливо ответил, что очень давно, что, вот досада, не припомнит мелких деталей, и Шекспир у него так связан с английским языком… На русском говорить об этих юных итальянцах невозможно. Так что давайте-ка лучше обсудим последнюю парламентскую новость о повышении цен на топливо…
* * *
Когда дети узнали, что в учениках у меня появился Перро, и это настоящий писатель, и он, как положено Перро, сказочник, они запрыгали от восторга.
И начались хождения кругом, зависание в коридоре с какой-нибудь игрушкой или книжкой, перешептывания и хихиканье, когда Вольдемар усаживался за стол с учебником и куском пирога. Они делали вид, что «забыли тут на столе карандаш», и подходили, чтобы бессовестно заглянуть в тетрадь Вольдемара и узнать, что он пишет. Они открывали дверь и подсматривали в щелочку. Однажды Сережа вообще сорвал мне урок, потому что я хотела взять для Вольдемара другую книжку и вышла из комнаты, как всегда стремительно, так что Сережа, прилипший к замочной скважине, получил дверной ручкой по лбу.
На вопль Сережи прибежала Груша, свалилась книжка с антресолей и кошка спрыгнула с подоконника. Даже Катя, которая было устроила себе алиби на кухне, засунув нос в учебник математики, тоже прибежала потанцевать в общем кордебалете.
Сережа стонал самозабвенно – «какая злая мама!» – разумеется, будучи при этом в моих объятиях. На лбу у него тихо всплывал синяк. Груша пыталась оторвать от меня Сережу, чтобы изолировать его на кухне, но тот не выпускал мою шею из своих теплых клешней.
– Мне очень неловко… – только и смогла сказать я Вольдемару, который приблизился к этой вавилонской башне и с умилением смотрел на зареванного Сережу.
– Что вы! Что вы… – просиял Вольдемар. – Наоборот, вы должны гордиться. Это звуки жизни. Это – семья!
Он щедро добавил, что влюбился в наш дом и даже носки на полу для него дышат жизнью.
Я зашипела на Катю, чтобы та убрала носки, чем бы они ни дышали, а она что-то сказала Сереже, и они оба прыснули. Я с ужасом поняла, что они отреагировали только на одно слово в речи незадачливого сказочника. Это был глагол «влюбиться», совершенного вида в третьем лице, единственном числе, мужского рода.
И он так их заинтриговал, что за ужином дети, напившись молока, устроили нам небольшой импровизационный спектакль.
– Это я, Вольдемар! – вдруг сказала Катя, нацепив на вилку ломтик яблока, и вилка запрыгала по столу к тарелке Сережи. Вынуждена признать, что походка Вольдемара и его красная кепочка были изображены мастерски, я бы даже сказала, пугающе правильно.
– А это я, Светлана Бонасье, – пропищал Сережа радостно, подхватывая игру, и взял краюшку багета. И сказал яблоку: – Вольдемар, как будет по-русски «молоко»?
– Зачем молоко? Не надо молока… Я влюбился, Светлана… – томно произнес Вольдемар, но остановился, потому что Катя захлебнулась от восторга и смеха.
Муж поднял небесно-синие глаза от электронной газеты и, отодвинув ноутбук, стал с интересом смотреть на спектакль.
– Я влюбился, Светлана, – Катя была в ударе, – когда увидел ваши носки. Они прекрасны. Прекрасны также ваши пироги, и чай, и русские тетради.
– Ах, я вас тоже люблю, Вольдемар Перро, – тоненько вздохнул Сережа и добавил с ангельской улыбкой: – Давайте поцелуемся в спальне и выпьем яду.
– Что-о-о? – только и вымолвила я.
– Ах! Ах! – не моргнув глазом, ответила Катя. – Как я счастлив!
– Интересно, – прищурился муж на багет и яблоко.
– Шуты гороховые! – сказала я. – Остаетесь сегодня без десерта.
По-сверхчеловечески
К счастью, Вольдемар так и не узнал о подобных кукольных театрах и был абсолютно уверен, что дети мои тихи и послушны, как пресловутые трава и вода, так что воспевал правильность моего воспитания почти вслепую.
– Сквозь мно-о-ого лет, – заговорщически наклонился он ко мне, – они скажут: «Наша мать была героиня, и потому сейчас мы понимаем русского языка и умеем на нем жить».
– Надо сказать «понимаем русский язык», Вольдемар, и «через много лет» – поправила я и торопливо добавила: – А вот остальное, даже ваше прекрасное «умеем жить», комплимент. Ничего такого дети обычно не говорят. Не дождетесь…
– Но почему «через»? – проигнорировав все остальные замечания, озадаченно спросил он. – Когда же «сквозь»-то употребляют?
– Ну, во-первых, если нельзя заменить на «спустя». То есть когда процесс идет посредством «сквозь» или на фоне этого «сквозь», понимаете? «Сквозь замочную скважину», например… Или «сквозь игольное ушко».
– А можно тут сказать «через»?
– Ну, логически можно. Просто «скважина» и «ушко» совсем склеились уже с этим «сквозь». Да и вообще «сквозь» встречается больше в идиомах, – увлеклась я и открыла учебник. – Вот, скажем, «сквозь сон». Или «сквозь слезы, сквозь зубы»…
– Сквозь слезы… – медленно произнес он, занося эту мелочь в тетрадь.
– Ну да, ведь мы говорим «смех сквозь слезы», видите? – пояснила я.
«Сквозь» оказалось своеобразным вектором на эмоцию или состояние «человеческое, слишком человеческое». Поскольку так запомнить было действительно проще, мы с Вольдемаром записали это в тетрадочку и в качестве диктанта взяли биографию Ницше. Тут же Вольдемар сказал, что у него был однажды сосед, у которого был кот, которого звали Заратустра. Я оставила Вольдемара рисовать кота, и вышла за дверь, чтобы ответить на телефонный звонок.
Разумеется, Сережа снова получил этой дверью по лбу.
* * *
Возникает иногда в жизни какая-то строка, и тянется, и скользит, и вышивает узор, и ты смотришь на него, разинув рот, хотя игла дрожит в твоих же пальцах. Это я к тому, что пока Вольдемар рисовал кота Заратустру, мне позвонил новый ученик, и ученика звали – Вагнер.
Правда, не Рихард, а Эрик.
Но мне от этого легче не стало.
* * *
– Что за варварский язык, никакой логики! – раздраженно сказал Вагнер.
Я так удивилась, что даже не обиделась. На логику-то они все любили пожаловаться, но чтоб «варварский» – это, пожалуй, в первый раз.
– В каком смысле?
– Ну вот, например, почему… – Он ткнул пальцем в страницу журнала. – Вот почему вы пишете «хохотать»? Ведь «хохот» не лезет ни в какие ворота фонетически, вы же пишете и говорите «ха-ха». Ведь вы смеетесь «ха-ха»? – воинственно и очень серьезно спросил он.
– Ну… – задумалась я, – да. Чаще всего.
– Ага! – грозно сказал он. – Так почему тогда не «хахат»? Почему не «хахатать»?
Тут я не сдержалась и захохо… захаха…
Но он не принял ни хохо, ни хаха. Он был рассержен и сказал, что условием было заниматься серьезно. Что он и так профукал столько времени с глупыми русскими учительницами, которые только и мечтали о романе с великим фотографом, а вот чтоб языку обучить – ни-ни!
Эрик Вагнер часто бывал рассержен. Во-первых, разумеется, потому что такая уж у него была натура – холерическая. Громадные черные глаза, нос д’Артаньяна и способность шумно дышать, когда ему задали вопрос, на который он ответа не знает.
Во-вторых, фотограф. Работа нервная, дорожная, полная художественных порывов.
В-третьих, печальный факт его личной биографии стал известен мне на первом же уроке – со времени развода Эрика Вагнера прошло 2 месяца и 4 дня.
И виновата в разводе была конечно же русская девушка.
* * *
– Ты мне помочь! Скорее! – Он схватил меня за руку и потащил к телефону.
Трубка лежала рядом с лохматой бумажкой, на которой был написан чей-то номер, чернила выцвели, почерк робкий, девический. Эрик сунул трубку мне в ухо и вперился в меня своими глазищами.
– С кем говорить-то будем? – прошептала я.
– С женщиной моей мечты, – коротко объяснил он.
– Алё, – раздался с планеты Москва слабый грустный голосок.
– Маша, – подсказал Эрик.
– Здравствуйте, Маша, – сказала я. – Меня зовут Света, со мной рядом Эрик.
– Добрый день, Света, – немного подумав, ответила Маша.
– Скажи, что ты переводить для меня! – помог Эрик.
Дальше пошли серенады Эрика в моем старательном воспроизведении, на которые Маша отвечала тоненько: «Да-да». Он сравнивал ее с лебедем, что проплыл по волнам бурной реки его многострадальной жизни.
Лебедь-Маша пленила Эрика, тогда еще обыкновенного женатого иностранца в Москве, два года назад. В ту пору она работала в какой-то большой телефонной компании, а год спустя вышла замуж и отправилась в декрет. Они встречались несколько раз, но Эрик решил не мешать семейному счастью Маши и скрепя сердце перестал звонить и тревожить ее.
Но счастье это, видно, не заладилось, потому что несколько месяцев спустя после рождения малютки Маша написала сама и, обрисовав свое материнство как самое печальное, назначила Вагнеру свидание около Большого театра, куда явилась в норковой шубе и с заплаканными глазами.
– Вот! – сказал Эрик и ткнул пальцем в фотографию – с объективом он, видимо, не расставался никогда, поскольку запечатлел молодую мать на фоне знаменитых колонн.
К тому времени супруги Вагнеры окончательно поняли, что не сошлись характерами, да тут еще госпожа Вагнер нашла фотографию шубы около Большого театра… В общем, Эрик стал жить в Париже один, и к нему по выходным приезжал из парижской области сын.
Через полчаса мы пили чай после утомительной телефонной конференции, в результате которой Маша узнала о разводе и обещала подумать, приехать ли ей на выходные в Париж, потому что фотограф, ясное дело, приглашал.
А еще Маша сказала мне, что удивлена, почему Эрик больше не хочет общаться на смеси английского с русским, как раньше, ведь они так мило беседовали и прекрасно понимали друг друга… Эти слова насторожили меня – или он совсем уж не видел, что переводчик был здесь нужен как собаке пятая нога… или, напротив, прекрасно видел, но для чего-то хотел представить меня Маше.
Для чего? Чтобы показать, что участливый женский голос охотно переводит для мсье Вагнера беседы интимного содержания? Чтобы стимулировать мыслительный процесс своей Маши о поездке в Париж? Ведь о том, что я была его учителем, Вагнер Маше не сказал. Зато сказал мне следующее:
– Какой там общались!.. Что она говорит ерунду… разговоры у нас никогда не клеились! Вот, то ли дело с тобой. С тобой я общаюсь. И сейчас, смотри, благодаря тебе я сказал все, что хотел. Впервые! А Маша теперь знает, что у меня в Париже есть русский друг. Мы сегодня первый раз нормально поговорили, и мне легче… Да закрой ты учебник. Что из него можно узнать о великом могучем языке?
* * *
Но на этом дело не кончилось.
– Вот что, – сказал Эрик как-то через месяц.
Он подошел к столу и включил свою удивительную настольную лампу, антикварную, с тяжелым абажуром желтого стекла. Я такие видела уже только в фильмах, где показывали кабинеты МИДа сороковых годов, а Эрик, счастливец, откопал ее на толкучке Измайловского рынка.
– Вот что, – повторил он. – Падежи мы прошли, и прекрасно. А теперь я хочу изучать русский, понимаешь, глубже… содержательней. Погружаясь в живую речь. Почасовая оплата, как договорились, меня устраивает, но только без этих вот упражнений дурацких… Давай так: фильмы и просто беседы. А беседы, если можно, на балкончике – ты не представляешь, как хочется курить иногда.
Я не знала, что сказать. Потом решила, что, в общем-то, стоит попробовать – сидеть на табуретке около письменного стола и поправлять его ошибки в падежах, притом что он все время на это обижался, мне не доставляло особой радости.
Поймите правильно, не то чтобы меня раздражала его неспособность к языку – я и сама переживала приступы отчаяния, когда никак не могла запомнить ту или иную форму английского глагола или женский род слова «графин» во французском. Но Эрик всегда был слегка недоволен, если его исправляли или объясняли ему новую тему, он даже «спасибо» говорил, как будто с упреком.
Поэтому я во время работы с Ванечкой и с Эриком научилась радоваться элементарному вниманию ученика и его способности сконцентрироваться на том, что я говорю. Я вдруг поняла, что, если со мной не спорят, не пререкаются, повторяют послушно то, что я прошу, и, наконец, элементарно слушают меня и не кричат в ответ, что им скучно, я не против объяснять одно и то же бесконечно.
Нет учеников более жестоких и более искренних, чем дети и психи. И благодаря Ванечке и Эрику, я стала терпимее и мягче ко многим, очень многим взрослым, скучновато-правильным, положительным своим ученикам.
– Ну, хорошо, – осторожно ответила я.
Мы вышли на балкончик, забитый картонками, рулонами старого линолеума, цветочными горшками, в которых давно ничего не росло и пустой клеткой, в которой раньше ютились две морские свинки («Я уехал в Катманду на неделю летом и забыл про них, и представляешь, возвращаюсь, а одна сожрала другую!» – мимоходом радостно сообщил мне Вагнер. О судьбе второй, кровожадной, свинки он не сообщил.)
– Какой любимый фильм у тебя? – нетерпеливо спросил он.
– Ну-у-у-… – отозвалась я.
Через пятнадцать минут мы кое-как справились со списком этих фильмов, записали все по-русски и договорились вместе посмотреть шедевр Александра Петрова «Моя любовь». Я объяснила, что в основе сценария этого фильма – рассказ Ивана Шмелева, русского писателя, который жил вот здесь, в Париже, и похоронен на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Эрик, порыскав в Интернете, нашел рассказ, восхитился его фабулой и концовкой и немедленно утопил меня в подробностях собственного сентиментального опыта. Говорил он быстро, жарко и по-французски. По-русски ему было некогда – его переполняли чувства.
* * *
…Русские – удивительные люди. Они постоянно ищут чего-то, умеют быть несчастливыми, когда у них есть для счастья всё, ни в чем не знают меры, и еще – это самое главное – они умеют разбить человеку сердце и сломать всю его жизнь, если мы говорим о русских женщинах. Насчет мужчин не уверен, но за русских женщин ручаюсь. Ольга – именно такая женщина.
– Маша? – робко переспросила я.
– Маша – это надежда спасения, – отрезал Эрик. – А мысль, что я впервые люблю кого-то безумно, пришла ко мне, когда я увидел Ольгу в Галерее авангардной фотографии в Глинищевском переулке.
* * *
Эрик увидел Ольгу в Галерее авангардной фотографии, когда стояла влажная и теплая зима, первая зима мсье Вагнера в Москве. В ГАФ («ну, ты же знаешь, такое модное место, ГАФ… при чем тут собаки, это галерея… а еще говорила, что у тебя высшее образование и диссертация на тему современного искусства!!!») он пришел для обсуждения темы очень приятной и ответственной – своей собственной выставки на тему «Современная Россия».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































