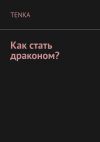Текст книги "Поклонение Луне (сборник)"

Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Любовница монгольского воина
– Усердия мне не занимать. Усердия мне не занимать. Еще раз повторите, две тысячи пятисотый и последний: усердия в молитве мне не занимать.
Одинаково, яйцевидно обритые мальчики в атласных оранжевых накидках, сидящие на корточках в ряд вокруг лысого и очкастого старика-учителя, сложили руки лодочкой и послушно наклонили головы. Учитель прокашлялся и поглядел поверх их бритых головенок в грязное большое окно. Глаза сощурились сильно, до паутинной щели. Что-то учитель рассматривал далеко, тщился. Даже слеза скатилась от напряжения по коричневой скуле. А уголок рта дернулся. И головы учеников, как по команде, повернулись туда, куда так тяжело вглядывался наставник.
Он молчал. Молчали ученики. Потом он протер пальцем стекло очков и сказал:
– Эх, эх, – и шумно выдохнул воздух. – Эх. – Опять помолчал. – Она. Опять она. Когда ей надоест?..
Неяркий голос учителя перешел в чуть слышное бормотание и затих. Ученики, не шевелясь, лишь послушно повернув головы, впивались глазами в пыльное высокое окно.
Господи великий, помоги рассмотреть.
Серый сырой плащ ветра трепался на перевитом шпагате белесых туч, до краев напитанных ледяной, тоскливой влагой. Куда ни глянь – всюду расстилалось море. Море бухало в берег и мол рядом со школой, шкурой серого барса заворачивалось к горизонту. От холода и серого ветра хотелось завыть, заскулить тоненько. По оконному стеклу стремительно полетели косые мазки брызг. Ветер мешался с дождем, как мышиный гоголь-моголь. Твердь сочеталась с водой первобытным, звериным объятием. Небо, дождь, море, серые мокрые камни, похожие на убитых черепах, на выкопанные из земли кости. Мол каменным выщербленным пальцем указывал на край земли, за край земли.
– Великий Владыка, – прошептал учитель и выдернул из лысины невидимый волосок, – помоги ей жить на свете.
Мол далеко вдавался в море. Край его терялся в месиве волн, соли и ветра. На самом конце каменного пальца стояла фигура. Женщина? Она куталась в серый длинный плащ. Капюшон промок и облеплял ее голову, и издали она походила на вывороченный ветром из земли грязный корень большого кедра. За стеклами класса стояла тишина. Ветер, должно быть, плакал очень громко. Женщину в сером плаще заливали с затылка до пят брызги, захлестывали волны. Если накатится большая волна, она может ее смыть, – так дружно подумали все онемевшие от почтительности и неведения ученики, но промолчали.
Пока шел урок, она стояла. Пока твердилась старательными учениками благодарственная молитва, она стояла. Трижды прозвенел тонкий колокольчик, ударил тяжелый гонг, возвещающий окончание занятий – она стояла. Оранжевые пчелки слетели с парт и скучились у окна, гудя, шушукаясь, хихикая.
Она стояла.
Ветер бил направо и налево, пахтая молоко жгуче-ледяных волн. Ее было так жалко, мокрую, одинокую.
И смелый – спросил:
– Во имя Владыки Твердынь, учитель, кто это?
Брови лысого старичка сошлись к переносице; нежно улыбнувшись, он вынул из глубокого кармана табакерку, понюхал ее, не открывая, щелкнул ногтем по черненой серебряной крышечке.
– Дети! – возгласил он. – Малы вы, дети, для того, чтобы все это узнать. Но так и быть. Немного вы сможете узнать от меня, грешного малого. Однажды она резала серпом траву и убила чужого ребенка, девочку, спрятавшуюся в траве. Ее судили, потом посадили в тюрьму. О ней даже говорил суровый голос из черного репродуктора на столбе. На несколько лет она исчезла в недрах тюрьмы. Опять увидели ее на свободе. Она жаловалась, что ее сажали в мешок, завязывали мешок сверху и заставляли прыгать, долго, долго, пока у нее не возгорались от боли внутренности. Хохотала, глядела часами на небо, подражала пению птиц. И однажды всем раскричалась о том, что она – возлюбленная монгольского воина из царского рода, что он бросил ее ради великой пустынной войны, но обязательно приплывет за ней по морю на плоскодонной китайской ладье. Все весело смеялись. Городские власти хотели уложить ее в нервную больницу. Но, когда приехали на машине санитары, ее обнаружили стоящей на самой оконечности мола, вот как раз здесь, а в тот день поднялся сильный шторм на море. Мол был весь под волнами, как в водяной могиле. Санитары побоялись расстаться с жизнью: очень нам надо гибнуть из-за придурочной! – сказали они и уехали обратно в больницу. Как ее не смыло тогда в море, я удивляюсь. С тех пор она стоит здесь каждый день. Иной раз я думаю: у нее от сырости заболят легкие, она будет чахнуть и угаснет. Но нет, крепкая, видно, она. Вот так и ждет своего монгольского воина из царского рода. Говорит: он носил на голове тяжелый царский убор с рогами в виде полумесяца. И стрелял без промаха. Иногда лепечет о том, как сильно он ее любил. Но этого вам знать уже нельзя. Я и так вам много сказал. Доброта моя к вам безгранична. А теперь – отдых!.. Воздух…
– Учитель, там холодно… Учитель, там эх как холодно!.. – заверещали на разные лады резкие детские голоса.
– Холод – радость подвижника, – промолвил старик. – Или вы не помните: научились ли вы радоваться препятствиям?
Дети, пересмеиваясь, тыкая друг друга в бок пальцами и кулаками, подбежали к шкафу, где хранилась их теплая одежда и плащи-дождевики. Скорей, скорей, зима у дверей! Старик любовно смотрел на них. Аккуратно бритый мальчик с лучезарными глазами подошел близко к учителю и закинул голову, желая спросить.
– Почтенный! Зачем вы все это нам рассказали? – строго и любопытно проговорил ученик.
– Затем, чтобы вы знали, что в мире есть добро, преступление и мечта, – отвечал учитель.
– А вдруг он действительно приедет? – продолжал допытываться дотошный мальчишка. – Вдруг?..
– Вдруг… – Старик помолчал, опять полез было за табакеркой, но понял, что от вопроса не отвертишься. – Ты знаешь, есть одна-единственная возможность из целой тьмы возможностей, что он действительно приедет. Поэтому я снимаю шляпу перед ее ожиданием.
Мальчик ощутил на своем костистом плече горячую руку учителя, вздрогнул, и так, застыв в благоговении, молча постояли они.
Господи, дай Ты мне сил еще пожить на этом свете. Холодно сегодня. Пена морская, как серые махаоны. Они садятся мне на плечи, на шею, на волосы, бьют крыльями в лицо. Утром ходила к молочнице, так она все монеты, что я за молоко отдала, на зуб попробовала. И меня же изругала. Говорит: ты откуда фальшивые деньги берешь? И то правда, откуда я деньги-то беру?.. То кофточку с себя продам, то перстенечек. То с чужим ребенком посижу. Не все родители меня пускают. Кто и швырнет: иди вон, собака, ты ребенка серпом порезала, нам такую няньку не надо. А флаг над сельсоветом треплется, треплется, как кусочек крови – ранка сочится в тучах. Красиво. Молочница кричит: я трудяга, я коров дою, творог откидываю, масло бью и все такое, а ты? Хоть бы в рыбсовхоз подалась, рыбу обрабатывать, да ручки свои, видать, не хочешь испортить. Да и запах там, рыбий-то, носик скуксится. Иных с непривычки наизнанку выворачивает. Ишь, белая косточка!.. – это я, значит, косточка белая… И то верно: какие у меня косточки?.. какая кровушка?.. Какого я роду-племени?!.. Все серым ветром заволокло. Кто кричит: чем волынить, лучше бы брала корзину да каждое утро, в отлив моря, ходила и собирала на песке всяких морских животных – звезды, мидии, иные ракушки, где и трепанга выбросит, где – и ежа, они вкусные, говорят, их в корейских ресторанах подают, – где и рыбку с икрою. Ох, икры хочу!.. В тюрьме-то не давали.
Бейте, бейте в меня, волны. Дуй, ветер, срывай с меня этот последний плащ. А, не можешь?!.. Слабак ты, ветер, однако. Вот зимний, январский – тот с ног скидывает долой. Ползком, на брюхе, поползу на родной мол. Все хохочут, как дураки, и что?! Он приедет. Зубы сцеплю покрепче. Лишь бы старуха не выгнала. Деньги, говорит, давай. Всюду деньги. И подстилкой обзывается. Каждое утро: ну ты, тюремная подстилка, расскажи, как в мешке скакала. И скалится, точно зверь. Ей молиться надо, а она глумится над человеком. Денег я ей достану. Еще бы не достану. Мне всякий даст. На рынок пойду, продавцов облепихой попрошу. Отработаю: ягоду у них в садах пособираю. Ни одну ягодку в грязь не сроню! В порт пойду, матросам ручку протяну. Матросы, они богатые. Они и в Иокогаму плавают, и в Сан-Франциско, и в Шанхай. Мне один матрос однажды обезьяньего детеныша подарил и двадцать рублей, после того, как… Старуха меня тогда чуть не выгнала, да. А обезьянка замерзла, зима началась, чердачное окно открылось, меня дома не было, и снег летел прямо в нее, бедную, а я ее медной цепочечкой к ножке зеркала привязала, чтоб она чего у старухи не набедокурила, не поломала и не нагадила где. Она потом кашляла, как человек. Я ей спинку растирала… китайской мазью – у старухи в комоде взяла… украла…
Я еще много чего крала, да. Бог простит. Потому что я крала не для себя, а для других. Для другой родной души. Ведь люди друг другу – родные. Это заповедают все – и ламы, и попы. Ох, холодно! Я согреваюсь только огнем. Он жжет меня изнутри. Иногда ночью я его чувствую в себе, как младенца. Он просится наружу, рвется сквозь грудную кость. И во чреве он тоже, и пятками по нему иду. Огонь, он у меня в душе. И я от него не избавлюсь.
Ветер, волны! Непогодь! Ну и хлещет! Хлестай меня, жизнь. Убивай. Я же тебя, жизнь, убила. Я же не живу сейчас. Это лишь тело мое маячит здесь, на молу. Слабогрудое, тощее тело. Вот зуб болит, хотела выдернуть вчера. Зубнику опять же денег давай. Последнее колечко осталось. Не продам. Я и в тюрьме его в мешочек зашила, к резинке штанов подвязывала: прятала. Боли, зуб! Хоть лопни! Скорей загнусь, отмучусь. Яд в голову ударит. Считают меня сумасшедшей. Забрела однажды в собачий питомник, так собаки как взбесились – на задние лапы взмывали, хрипели, лаяли до захлеба. Что во мне чуяли?! А я присела на корточки и по-собачьему на них забрехала. Тут много людей выбежало из своих нор. Хотели меня связать. Так я им и далась. Я исчезла. А как исчезла – не помню. А у собак пахло мясом, копченостями. И я поняла, как мало я ем. Облизнулась. Во мне один дух остался, плоти на костях уже нет.
Как он любил меня! Как обнимал! Его живот был огненный, и вся я липла к нему смолой. Когда орех хотят расколоть, вставляют нож в желобок между половинками. И голова раскалывается. Голова раскалывается. Одно становится двумя. Почему не тремя, не четырьмя, а только двумя?!.. Я бы хотела, чтобы меня после разлуки с ним было много… много. Одна бы пела песни. Другая – страдала, плакала. Третья бродила по свету и показывала людям фокусы. Четвертая – забилась замуж за толстого седого рыбака и рожала бы детей – одного за другим, одного за другим. Пятую расстреляли бы в тюрьме. За все хорошее. Расстреливают ведь только за хорошее. За плохое – царскую корону дают. На темечко, золотую, надевают.
А шестая… Стояла бы здесь, на скользком от водорослей камне, каждый день. И ночь. Хотя ночью страшно. Ночью из моря выходит восьминогий спрут с одним огненным глазом. И от глаза того люди сходят с ума и падают на дно моря навсегда.
Люблю тебя! Люблю тебя. Я – мертвец. Я ем, где придется, одеваюсь по утрам, потому что голой нельзя ходить, опять в тюрьму посадят. А то и не раздеваюсь вовсе, падаю в кровать одетая. И постели у меня нет, любимый, вместо нее – мешки набросаны на сундук. Старуха не разрешает лампу жечь, кричит, много денег надо платить. И я покупаю в сельмаге белые парафиновые свечи и жгу их перед зеркалом во славу твою – всю ночь. Они плохо пахнут, как вздутая рыба. А когда есть очень захочу – пожую их немного и выплюну.
Люблю тебя. Когда закончится твоя великая война? Когда ты соберешься в путь ко мне? Ты будешь плыть на плоскодонной китайской лодке, с тобой будут два матроса – один безусый, другой усатый, – две наложницы и два молодых ручных тигра. И на парусе твоем будет нарисована большая золотая рыба. Большая и золотая, как Солнце.
Распустив учеников, учитель раскурил трубку. Дым вился вокруг лысой головы, как ветер. Он курил и думал. Докурив, он высыпал пепел в смуглую ладонь и развеял в резкой, соленой сырости умирающего дня. Желтая полоса заката прорвалась сквозь серые веретена небесной шерсти, золотой рыбой обозначилась над горизонтом. Плохо сшитые унты жали ему в носках, натирали пятки. Пошел мокрый снег. Учитель, не ропща, протер очки и снова зацепил дужками за уши. Он проверил свою волю и свое желание, и они совпали.
Стремительным шагом он двинулся к набережной. Ноги скользили на влажных изрытых водою камнях. Вот и мол. Как далеко она стоит. Почти на краю мира. Еще немного – и она полетит. Серая птица. Как же ей больно было, когда надзиратели выливали ей суп в лицо! А теперь свобода обнимает ее. Какое счастье быть свободным в виду земли, моря и неба.
– Она свободна от еды, – бормотал учитель, идя на оконечность мола, утирая нос и рот мокрой рукой, – свободна от денег, от работы, от предков и потомков, свободна от тюремщиков, свободна от жизни, ибо та жизнь, коей мы все, дураки, живем, ей давно уже не нужна. Она свободна от смерти, потому что сперва убила она, а потом убили ее, и весь сказ. Но она не свободна от любви. Монгольский воин – это любовь. Это всего лишь любовь. И, значит… – вышептывал он, задыхаясь, сгибаясь под ветром, – значит, великий владыка Шакьямуни был неправ, и Высшее есть не освобождение от страданий жизни, а любовь. Она помнит жар их сплетшихся тел, свои неистовые крики, красоту боли и победы, счастье совместных слез и совместного сна. Она ждет. И она…
Он закашлялся. Брызги забили ему горло и ноздри, он долго, на ходу, выхаркивал горько-соленую воду. Она приближалась. Она была все ближе, ближе.
– …она дождется.
Вот она рядом, в кольце колышущихся белесых брызг. Он видел ее спину. Тяжелые, напитанные влагой складки юбки прилипли к ее икрам, щиколоткам. Он подступил совсем близко и потрогал ее пальцами за левую лопатку, под которой билось ее сердце.
– Эй, – сказал старик и выплюнул соль. – Это я. Я пришел к тебе. Я плыл издалека. Я очень устал. Вон, – он махнул рукой в сторону беснующейся серебристой воды, беременной льдом, – вон там пришвартована моя джонка! Одного тигренка пришлось убить, он перекусал моих матросов. И я приказал бросить его в море. К наложницам не ревнуй! Они знают все о тебе. А тебе о них знать не надо. Сейчас, на джонке, они плачут и ломают руки. Я дам им денег и отпущу их на землю. Пусть идут, куда хотят. Они свободны. А я…
Женщина резко обернулась, будто ее ударили. Лицо ее, почернелое, в морщинах, гляделось подобьем черепа – так худа была она. На губах от сырости выступили просяные зерна лихорадки. Скулы горели земляничным румянцем застарелой болезни. Красота ее глаз не поддавалась описанию. Старик, глядя в ее глаза, заплакал. Облизнул рот. Подался ближе – так, что стали видны черные, на зеленом, иероглифы вокруг ее огненных зрачков.
– …я твой пленник. Прими меня. Владей мною.
Старик сделал еще один, маленький шаг к помешанной. Он сам не помнил, как серая птица оказалась в его руках, забилась. Все ее худое, во впадинах, острое, птичье лицо задрожало, и соленые ручьи побежали вниз по скулам из-под черных, сомкнувшихся век.
– Твоя лодка! – крикнула она. – Твой парус! Золотая рыба! Яркая, как Солнце!
Он все крепче обнимал ее, все сильнее вжимался в нее.
«Великий Гаутама, прости мне этот грех», – успел подумать он перед тем, как его поджарое, высохшее тело аскета боками, спиной, крестцом, ладонями ощутило под собою холодные ослизлые камни, а ножны женского драгоценного мира раздвинулись, пропуская внутрь, острым живым сверкающим ножом, изголодавшиеся по нежности и радости мужество, воинство, прожитую жизнь и последнюю победу – для соленого и слезного пахтанья океана, в котором вечный Он и вечная Она зародили, играя и кувыркаясь, всех богов земли, все планеты и луны, всех птиц и зверей, всех младенцев и стариков.
Два ученика не убежали домой, когда померк свет небесный. Бродили близ набережной, швырялись ракушками. Темнело. Серые тучи взбухали и чернели, из них сыпался цыплячий, белый, мелким пшеном, снег и тут же таял возле густо-золотого сырого песка. Последнее солнце яростно, ножом, прорезало золотую рану в животе неба. Ученики посовещались меж собой и решили, что да, красивая у них земля. И нет, наверное, лучше земли. Хотя учитель и учит, что лучшее – это освободиться от желаний. Любованье – это тоже желанье. Ха, ха. А сам-то то и дело нюхает табак. И Кореец Пак по секрету сообщил им: курит кальян. Когда они уходят домой. Пак подсмотрел. Вот дошлый!
– Эй, Лимонный Затылок, гляди, – ткнул мальчишка в бок друга, – гляди-ка!..
Мальчики, присвистнув, присев на корточки, напрягли зренье в серо-золотом свечении ветреного вечера, прищурились. Далеко, на молу, они различили двоих людей. Они сначала стояли друг против друга. Потом один из них обхватил другого руками, и они начали бороться. Потом упали на камни, покатились, забились, и огромная, как деревенский бык, волна накрыла их.
Лимонный Затылок и его друг сорвались с места и побежали в поселок, крича отчаянно и натужно, что два сбежавших из тюрьмы бандита сначала сражались на молу не на жизнь, а на смерть, а потом упали в море. На их крики люди распахивали окна, выходили из дверей и ворот, выползали из нор. Кто-то заводил грузовик – ехать на берег; кто-то причитал, ругался, кто-то свистел в милицейский свисток. Но никто не торопился спасать тех двоих. И в большинстве своем люди молчали – так, как молчит трава, как молчит снег, как молчит мертвый человек под землей.
Нострадамий
Я часто видела его в толпе. Когда с широким, мерзким шумом неслись мимо лиц подземные поезда, из стука и ослепления всплывало его заросшее, с примятыми опухлинами, внимательное лицо, маячило меж затылков и шапок – и тоже уплывало мимо лиц, глаз и лбов вдаль, в серое ничто. А то три скрипачки, тощих девочки, не приметить было в шалаше дождя, разве только по скрипящей котячьей музыке: «Подайте, подайте!.. Жить-то надо!.. Подайте Моцарту, Гайдну, они промерзли, они голодны, а вы, а вы, зажравшиеся рыла!..» – они пиликали в дожде, и он горбился за ними, с перекошенным, мокрым ртом. Он был Моцарт, он был Гайдн, и ему подавали – клали бумажки прямо у ног. Стоптанные башмаки скалились. Улыбались подвернутые штаны. К нему подходили бабушки, продающие котят и щенков, сажали орущих котят ему на плечи, и он гладил их и благословлял: «Благословляю все живое». Иной раз я встречала его небритый лик близ красивых дворцов, где жили иностранцы. Он размахивал, тряс детскими погремушками. К его груди была прикреплена картонка, на картонке лежали куски хлеба, сухарики, шматки сала. Синицы и воробьи топтались на картонке, клевали. Он разевал мохнатый рот и кричал беззвучно. Я знала, что он кричал.
Чаще всего он слонялся по Площади – страшной, пустой, мощеной гладколобым булыжником Площади, и пел беззвучную песню. Посреди Площади торчал головастый храм, усаженный цветными дынями и золотыми лимонами. На верхушке одной из дынь источала кровавые лучи гигантская ягода малины. Люди облизывались. Люди хотели сладкого, малины, яблок, мороженого. Взамен другие хитрые люди предлагали им бумажки квадратные, бумажки круглые, бумажки, свернутые в трубочку. Гуляли догадки, что это были не люди, а оборотни. Кто в волчьей шубе, кто в лисьих лапках. У кого – птичий клюв вместо носа. И это было видно издали. Но все молчали, потому что и капель для излечения покалеченного зрения в грязных аптеках тоже не было.
Он кругами бродил по Площади, распахивал бездонный рот, закрывал, открывал. Кое-кто наставлял на него жужжащие и щелкающие черные коробки, нажимал на клавиши и рычаги. На свет Божий из черных щелей ползли бумажные квадраты, но его изображения там не было. Большинство народу не замечало его. Как нет его совсем. Ну, снег идет. Ну, дождик моросит. Дует ветер, дует, пока не лопнут щеки.
И я стала за ним следить. Надевала ветхую шубку с капюшоном, чтобы меня не узнать было, и шла за ним тенью. Куда он – туда и я. Так сновали мы по городу, как два челнока. Иногда я теряла его из виду меж людских тел. И вот, он восставал из человечьего теста, взмывал над грудями и затылками, как добрый ястреб. И я так радовалась, видя опять его мятое лицо в трех локтях от себя, что кричала и пела – как он, без звука.
Однажды я захотела подойти к нему поближе. Сделала шаг, другой; ноги застряли, как в меду, и страх болота и утопления объял меня до глубины души моей. Воздух и время не пускали меня к нему. Я, больная и слабая, возжелала… А накося, а выкуси. Иди за ним, иди за ним, и все. Иди за ним и будь счастлива. Ты счастливая: тебе разрешают идти за ним. Тебе и больше никому.
Был один день. Я скользила за ним по первому льду, и так дотянули мы до станции подземных поездов, круглой, как пряник. Близ станции, облитой белой глазурью первого снега, стояла торговка в запачканном кровью фартуке и вопила на весь крещеный мир:
– А пирожки! А пирожки! А пирожки с мяском!
От нее шарахались, не веря. Дядька в треухе мрачно сотряс воздух и ветер:
– С котятами.
Он потер помятое лицо твердой ладонью, ветер шатнул его к торговкиной груди. Он уставился на нее прозрачными, стеклянными глазами. В глазах водой стояли века. Он пошарил сразу в обоих карманах. Он высыпал на торговкину голову из двух горстей замечательные, крупные семечки – подсолнечные и тыквенные. Торговка бросила орать про пирожки и застыла с разинутым ртом. А он пошарил еще за пазухой. Вынул голубя. Окрестный народ засмеялся. Он посадил голубя на перемазанный кровавыми полосами белый торговкин колпак. Голубь почистил клювом под правым крылом, под левым, распустил круглый хвост вроде индюка или тетерева. Закурлыкал любовно. Лоток с пирожками свалился в утоптанный снег. Торговка завыла, как ошпаренная. Ей было страшно. Голубь царственно сидел у нее на голове, крепко вцепившись когтями в колпак.
Он нежно улыбнулся.
– Иди, иди вон из храма. Вон, вон, – и деликатно подтолкнул торговку в дюжую спину. – Изгоняю тебя вместе с непотребною едою твоею. Вместе с похабными монетами твоими – изгоняю тебя.
И тут народ собрался, откуда ни возьмись, и в руках у многих появились колья и дубье, и кирпичи замелькали, и оружейные стволы замаячили, и обломками рельс и вывороченными из земли булыжниками весело замахали в воздухе, на широком ветру, – а он стоял с нежной и бережной улыбкой на устах, следил, как торговка семенит прочь, подхватывая короткие юбки, кургузо таща лоток с преступными, гадкими пирожками, проклятыми народом. Народ взорлил, возопил, вздернулся, возгрелся до огня и дыма, застучали невесть откуда взявшиеся топоры и сабли, – а он простер ладонью вперед сухую руку и сказал почти беззвучно, я еле услышала, хотя стояла в первых рядах напирающей толпы:
– Не бейте никогда преступника; знаете ли вы, кто перед вами? Быть может, это Бог неведомый. А вы его кольями.
– Она убила и изжарила котят на начинку! – был детский плачущий голос из шумящей на ветру толпы.
– Она убила, а вы убьете ее? – Светлые стеклянные глаза нежно обнимали толпу. – А потом соберутся воедино те, кто любил и лелеял эту бедную женщину, и убьют вас? А потом соберутся ваши милые друзья, чтобы великой и страшной войной пойти на ее друзей и родных? Вы так хотите войны, настоящей войны, что больше не в силах терпеть?..
Народ с кольями и топорами сгребся в кучу, притих. Распахнулись глаза, выросли уши. Морозный пот побежал по судорожным спинам. Никто не хотел войны. Просто очень жалко котят было.
Торговка бежала, разбрызгивая по снегу золотую краску пирожков. Люди бросали оружие на землю. Он схватил лицо свое небритое в потную горсть, помял его, будто пирожковое тесто, присел, чтобы завязать шнурок на просящем каши ботинке – и провалился сквозь землю.
Люди озирались. Искали его глазами. Молодежь кричала: «Эй, эй, фуфло!.. Романист!.. Где этот больной!.. Где цирк бесплатный!..» Я озиралась быстро, по-собачьи. Я не верила, что люди проваливаются сквозь землю.
Делать было нечего. Все погудели, позудели еще немного, разобрали кинутое на снег оружие и разошлись. Круглый пряник станции начал снова вываливать из чрева черную, невкусным повидлом, людскую начинку. Осталась одна я, стоять и глядеть, как в синем светлом небе вьются вороны и голуби, еще не убитые.
И так вот, как привязанная за ниточку, как наколотая на булавку, приклеенной к невидимой липучке мухой, я бродила за ним, видимым и невидимым, по пьяному от свободы и смерти великому городу, молясь, чтобы наткнуться на него, споткнуться об него, уткнуться лицом ему в грязное пальто, замкнуть дрожащие руки у него за лопатками. Я не понимала, кто привязал нас друг к другу. Иногда его лицо проплывало передо мной в чаду вокзала, и я видела, что рот его, и то место, где могут расти усы, были в каше, а часто и в повидле; и я успокаивалась, зная, что вот он сегодня поел, он сыт, сегодня он не умрет, и благодарила Бога за то, что Он не дает ему умереть.
Все произошло неожиданно. Время сжалось в кулак, и я увидела, что небо похоже на овчинку. И было утро, когда я проснулась, накрытая своей чахлой шубенкой, еще не очнувшись от храпа и сладкого сонного пара, испуганная истошными криками, воплем лавины, скрежетом и визгом катящегося клубками железа, живого мяса, досок и кирпичей. Взгляда в заплеванное птичьими белилами окно было достаточно. Началось.
Я всунула костыли ног в боты и одним прыжком оказалась снаружи. Людской поток подхватил меня, понес, как ореховую скорлупку. Локти, спины и животы сдавливали меня. Временами нельзя было вздохнуть. Ребра трещали. Острые углы чужих мослов всовывались мне между ребер, под печень, между ключиц. Мои слабые, худосочные стоны вливались малой нотой в общий, густой и великанский, стон. Поток глупых, умных, безумных людских тел несся, сшибая все на пути, к пустой булыжной Площади, в сердцевине великого города.
Меня в водовороте орущего народа вынесло на Площадь, и я, задрав головенку, увидела, как на краснокирпичное огромное чудище островерхой башни со стеклянными незрячими окнами карабкается, ползет, лезет толпа, наподобие жуков или тараканов, и в таких же черных, серых, паучиных, тараканьих пальто, старых шубенках, ветхих одежонках, – будь она проклята, булыжная, облыжная жизнь в подвалах и на чердаках, мы все равно возьмем свое! Возьмем самый верх красной страшной башни. Долезем все туда. Заполним все стеклянные, роскошные ячейки, все бархатные кресла и подоконники, где жрут и курят, где любятся и режутся в дикие карты, играют в горячие игры те, чужие, не наши, в норковых шубах, в песцовых манто. Мы наполним их пустые хрустальные стаканы и рюмки – собою. Своей желтой, нищей и скудной водою; своею коровьей, наглой лепешкой – прямо на бархат вышитой нежно подушки. Вы долго поили нас дешевым отравным пойлом. И мы опять опьянели от свободы и смерти. Лезь! Лезь наверх! Верх – твой. И низ – твой. Все – твое. Бери.
Бери и танцуй сверху толстого тела.
Мы все поползли наверх, как оглашенные, без роздыху. Меня тащили чьи-то руки. Меня ставили ногами на тяжелые скользкие плечи, и я цеплялась за протянутые крючья ловких рук и подтягивалась выше, дальше, безумнее. В уши мне заливался шипящей перекисью вулканный гул, клекот ругательств. Мы залезли уже так высоко, что я видела внизу бульонные кубики домов. Черные насекомые, птичьи тела катились, цепляясь лапами и зубами, вверх и вверх, по пожарной лестнице, вися на железных перекладинах, разбивая попутно оконные зеркальные стекла, вырывая из стен кровавые сгустки старых кирпичей. Порой мне под неубранные волосы, в уши врывался нечеловечий вопль: «У-у-у!» – и черные, бедные люди сыпались с верхотуры вниз, как убитые птицы, как черные чечевичные зерна. За ними ползли новые ползуны, и я ползла за ними, и скелет пожарной лестницы гнулся и кричал под моими чугунными голодными костями.
Солнце било в ледяные разбитые стекла, и мы ползли и жмурились, ослепленные. Пахло газом: должно быть, смелый человек вскрыл газовые трубы или, глумясь, отвернул газовый кран. «Огня! Спичку! Мы взлетим еще выше!» – хохотал кликушечий голос кукушки, зегзицы. Дружный восторженный визг был ей ответом. Мы знали, куда лезем. Знали, зачем живем. И зачем умрем. Мы только не знали, кто – мы. А кукушка, зегзица, – знала. И она опять визжала и куковала, пытаясь прокуковать нам наше имя.
А мы-то были некрещеные.
«Вперед, квочка!.. Вперед!..» – гудели, подталкивая меня в зад, черные мужики. Последние стекла. Визг баб. Косое слепящее небо в разбитых гранях. Лестница кончилась. Серебряная жесть крыши засветилась, как медаль. Они, эти люди, ложились животами на гладкий скат крыши, лезли вперед и вверх, скользили, орали, бешено дергаясь, скатывались назад, падали, валились гроздьями, и тягучий крик долго висел в воздухе черной медовой нитью на морозе. Эти люди! Мой народ! Они и меня пытались засунуть на белую жесть, на крышу неба. Один уцепил меня за воротник, другой держал за пятки, протыкая мной синюю небесную дерюгу. Голова моя толкалась в небо, пихала ярую ткань, но порвать не могла. Я липла ладонями и подошвами к драгоценному серебру, впивалась зубами в парчовую дорогую синь. Вот оно богатство! Ух, ненавижу! Порву! Прогрызу! И вытечет синяя, серебряная кровь! Вот тебе, ненавистное небо! Вот тебе! Ты не жалело нас. Ты смеялось над нами во весь синий, сытый, рот. Ты, издеваясь над нами, черными букашками, пересыпало тысячелетиями из руки в руку свои алмазы. Мы долезли до тебя. Мы взобрались по башне. Ты, подлое! Ты сейчас за все ответишь нам.
На меня наперли сзади, мы, змеино сплетясь, поползли по крыше, катясь вверх, к коньку. Меня схватили за шиворот. Встряхнули. Поставили стоймя. Стоять я могла, ибо под моими стопами шевелились и содрогались живые тела. Это были мои люди. Мой победивший народ. И я стояла на нем ногами, и осязала его пятками. И хохотала – ведь, по закону, надо неистово хохотать, пока тебе сзади не набросили на голову холщовый балахон, не затянули на шее толстую пеньковую веревку. Или проволоку. Или канат. Или вырытый из-под земли кабель. Или просто мужичий галстук. Галстук богатого. В присохшем яйце и икре.
Далеко внизу были тараканы людей и игрушки домов. Я всегда была подслеповата. Мои умершие родные, не помню кто, бабка, мать, сестра или дочь, заставляли меня носить очки. Вязать чулок – очки. В кино тащиться – очки. Как я, стоя на орущих людях на крыше поднебесной башни, увидела на Площади его?
Он торчал посреди Площади в своих вечных поношенных нечистых тряпках, и его опушенное заячьей щетиной запухшее лицо тихо светилось. Он стоял, разведя руки в стороны, как бы говоря: «Вот как оно вышло, ребята». Пять лучей одной руки, пять лучей другой. Десять пальцев его сияли солнечно. И сам он был весь – солнечный шар, одетый в грязное пальто, в дырявые носки, и свет бил в дыры, вырывался из дыр наружу. И я поняла, что дыры в одежде делаются для того, чтобы из человека смелее и свободнее бил в бедный темный мир пьяный и веселый свет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.