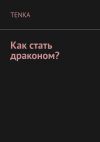Текст книги "Поклонение Луне (сборник)"

Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
На самом деле Цырен не был Цыреном, сыном Цырендоржи. Он был вихрем, баламутом, путем звезд, завернувшим по пьянке с зенита на землю. Звериной кровью, вытекшей из раны и под воздействием заговора вернувшейся, влившейся обратно в рану зверя. Он вливал в меня свой дикий смех. Свой дикий холод вершин. Он заламывал мне руки, отгонял бесов – алмасты – при помощи Третьего Глаза, кропил водой из ущелья Алтын Гэрэл. Ложась на меня, окутывал мне голову и плечи ночью волос, когда распускал, сдергивая кожаную ленточку, свою буддийскую косичку. Он говорил, что его народ происходит от спаривания Бога с синей коровой. Бог и корова совокупились в пещере, и родились предки Цырена, сильные люди поднебесной Гоби.
Цырен жил в самом сердце Армагеддона. Чем он был занят там? Я была занята своей работой и своей славой; победоносной Музыкой – звездным обвалом и водопадом Органа, снежной вязью Клавесина, подземным рокотом и птичьим клекотом Певцов, бураном и ураганом Гитары, первозданным хаосом Оркестра. Мне за Музыку платили бешеные деньги, и я летала на Ее крыльях, и мне вроде больше ничего не нужно было, так я была свободна и довольна. А чем был занят он? И почему я в лучах славы и признанья, в потоках гармоний и мелодий всегда искала любви, мучась, расшибаясь в кровь, в лепешку? Может, замочек с секретом просто открывался, и мне надо было попросту выйти замуж и жить жизнью толстопятой и толстозадой клушки – печь блины на Масленую, заворачивать пироги с грибами, закручивать банки с соленьями и вареньями, тетешкать и лелеять свое Святое Семейство? Тогда я была бы счастливее. Только вот беда, Сильвио: я не знаю, что такое счастье. Иной раз мне кажется, что счастье – это тот медный медальончик с арийским иероглифом на голой груди Цырена, который можно открыть, подцепив его ногтем или зубом. И оно – внутри. В темноте, как в животе. И ему никогда не выбраться наружу. Не родиться.
Я попала к Цырену случайно. Друзья завели. Моим друзьям он казался колдуном или тайным жрецом, и они меня волокли в незнакомый дом, как в зверинец. Цырен был для них экзотическим монгольским зверем, стреляющим опасностью и электричеством, убивающим не расстоянии. И они, друзья, сладострастно ждали, что разряд попадет в меня, преуспевающую, выхоленную, гладкокожую красотку, уверенную в себе. Я вошла в длинный коридор, десятки нищих обшарпанных дверей деревянными слепыми глазами воззрились на меня. «Ваш колдун здесь живет?» Да, да, закивали мне послушно, да, именно здесь. Ему не нужен сервис. Он не заботится о внешнем. Он с причудами. Он приобщается грязи. Он – алмаз в нечистотах. Стукнули в приземистую дверь, ободранную кошками. «Эй, буддист, открывай!»
Дверь заскрипела, створка отошла.
Я все-таки думаю, что он был никакой не буддист, никакой не армагеддонский хиппи и лентяй, а просто шаман. Настоящий шаман в утратившем правду мире. И первое его камлание заключалось в том, что он навис надо мной, как скала, взял свою косичку и мазнул ею меня по носу, как бы в насмешку. И дикие кони бескрайних степей горячо и стремительно заскакали, вызванивая обжигающими твердыми копытами, подо мной, надо мной, во мне.
Я любила проводить время в его захламленной коммунальной каморе, заваленной пустыми ящиками из-под пива, самодельными мольбертами, трехногими табуретами, уличными вывесками и плакатами, сдернутыми с рекламных насиженных мест, шандалами в застывших натеках воска, детскими ванночками, в которых жили ручные вороны, – они говорили мне детскими голосами: «Мяу!» – клетками с синими попугаями, шкурками апельсинов и лимонов, разрезанными луковицами, расколупнутыми чесночными головками, монгольскими кожаными мешочками, куда зашивают священные камни, и костяными бурятскими амулетами. На стенах, нарисованные рукой Цырена, шли сверху вниз старомонгольские надписи, как идет дождь или снег. Цырен, в добром настроении, пел мне гимн Внутренней Монголии. «Дзугасан дзаласан-хан, айя-ху, айя-ху!» Так могли разговаривать древние звери. Я засыпала под эту колыбельную на обляпанном вином и кровью ветхом матраце, уволокнутом Цыреном с армагеддонской свалки. Я не видела грязи, не чуяла безобразия запахов. Цырен среди смрада сиял чистотой, масленой смуглостью, отрешенной лаской. Кожаная лента в косе, кожаный мешочек на шее. В мешочке шуршали священные сердолики и янтари. Он мне так нравился, мешочек этот, но я Цырену боялась сказать.
Когда я заболела, заболела тяжело, с диким, отрясающим корни и землю кашлем, с вулканным жаром, пряным бредом, – Цырен появился в моих апартаментах, молча схватил меня на руки, так, со мной на руках, спустился по лестнице, так шел по улице, так принес меня к себе и уложил на старый измазанный матрац. Я, сквозь застланные красным паром бреда воспаленные веки, увидала, как он снял с шеи мешочек, пошептал над ним, поцеловал, а потом встал у клопиного матраца на колени и надел реликвию мне на шею. Мне полегчало через десять секунд. Через пять минут я уже сидела на матраце, беспомощно улыбаясь. Через полчаса – пила вместе с Цыреном за уставленным пустыми бутылками столом его любимое пиво, доставая бутылки прямо из ящика под ногами, закусывая грубо нарезанным репчатым луком и рваными кусочками рыночной воблы. Через час – неистово обнимала Цырена на этом самом дырявом матраце, жадно ощущая его ребра на своих, свой разверстый живот – под его первобытным рубилом, рыбьим острием. Начиналась пахота любви, оборванная в веке, где люди делали каменные лодки и медные бусы. Цырен был Бог. Я была синяя корова. Мы повторяли древний обряд. Мы искупали свою вину перед нынешним племенем. Грудь моя нагрубала молоком и звездами, и Цырен пил из моих сосцов пустынную силу, хрипло смеясь. Отлив судорог сменялся приливом, мы бешено содрогались и вплывали друг в друга; и я чувствовала себя выменем, сосцом, каплей, семенем, горячим камнем, золотой стрелой. Я чувствовала себя тенью Стрелы. «Тень Стрелы Отца!» – шепнул Цырен мне в пылающее, многажды меченное любовными укусами ухо. И я дернулась и закричала – этот крик вышел в разбитое окно коммуналки и широко раскатился по Армагеддону, и люди изумленно поднимали головы и глядели ввысь, молясь и плача.
А на самом деле за стеной, должно быть, пузатая неопрятная соседка в заляпанном жиром фартуке, не вынимая изо рта папиросы, глумилась и хохотала над любовниками, что так громко орут, совокупляясь, и даже не стесняются жильцов.
Цырен, целуя меня, грубо и больно вдавливал мне в ребра своею медной грудью мешочек со священными камнями. Он хотел его вдавить туда, где сердце. Заменить мое сердце – намоленным камнем.
Я носила, не снимая, его. Когда мне было особенно плохо – я брала в руки мешочек, и плохое уходило бесследно, а я нежно улыбалась, и вокруг, в бешенстве, злобе и болезни, люди недоумевали, откуда во мне столько холодного, поднебесного терпенья. Я потеряла священный мешочек, когда в заросшем бурьяном овраге крутилась и кувыркалась с человеком с улицы, бандитом, вызвавшим во мне вожделение, мгновенное желание неодолимой силы. Я привыкла исполнять свои прихоти, никому, и даже себе, их не объясняя. Бандит тоже не спрашивал ни о чем. Он стащил с себя штаны: в одном кармане три ножа, в другом – пистолет Макарова. Мы провалялись в овраге, на окраине, близ последней станции метро, до позднего вечера. Он не узнал меня, знаменитую. Я не спросила у него имя. Свечерело. Я выбралась из оврага, с травою в волосах, с безумным, искусанным ртом. Оказавшись в метро, я обнаружила, что у меня на груди больше нет кожаного мешочка.
Холод обдал меня. Я рухнула на колени под землей. Вокруг меня был ледяной камень, мясной, в разводах, мрамор. Мелькали, бежали спешащие люди. Я зарыдала так, как никогда, ни по кому, нигде. Я легла брюхом на мраморные плиты. В грязь. Народ шел мимо меня, обтекал меня, как остров, шагал прямо по мне. Распластанной. Ревущей. Мокрой, как мышь. Я плакала не по святым камешкам – я рыдала по восточному колдуну, так навечно овладевшему мной, так быстро мною забытому.
И старикашка в тулупе, с узелком в кулаке, один изо всей толпы, низко наклонился надо мной, погладил крюком выжженной руки по трясущейся моей голове: «Не плачь, бедная!.. Бросили тебя?.. Ну и ладно! Никто на свете не стоит наших слез. Все перемелется, будет мукой…»
Зажмурив опухшие веки, я вспомнила, как мы с Цыреном просеивали муку для монгольских пооз, таких мешочков из теста с перченым мясом внутри, – их надо готовить на пару, – и завыла на все блестящее белизной подземье, завыла грозно и обреченно, как перед смертью волчица.
ОВИДИЙ
Да, друг мой Сильвио. Сумасшедший дом моя жизнь. Мне только кажется, что я сама, без помощи, без детских держалок по ней иду. На самом деле – меня запросто берут под мышку и тащат и волокут, и я даже не пикну, не говоря уже о том, чтоб подраться. И вот так-то однажды, разве вспомнишь, давно ли, меня схватили и повезли: сначала в грязном поезде, потом – на лакированных высокомерных машинах, потом – на лошадь заставили сесть, сказали, дальше в горы только на лошади можно, а я боялась, била лошадь пятками по бокам от страха, – а она ржала и ходила ходуном, и задом подбрасывала. Я вцеплялась ей в гриву.
Меня увезли в горы, чтобы я отдохнула. Ха-ха! Знакомо ли мне это слово? Ни при какой погоде я его не знала, отдыха. Но меня увезли в горы, и я вынуждена была с этим согласиться.
Это были не горы. Это было не небо. Меня будто опустили на дно огромного хрустального стакана. Я затихла, позволяла делать с собой все что угодно. Меня снова посадили на лошадь, от ее широкой пошехонской спины пахло потом и мокрым бархатом, и мы медленно тронулись дальше, выше. Мне сказали: там, выше, в горах, пасека. Мед – объедение. Овечий сыр. Круглый, лунный. Много спокойных, красивых лошадей. Розы, много роз, и красных и белых. И два пасечника: одного зовут Овидий, другого – Ишхан. Они сами пекут лаваши. Они будут кормить меня медом, наблюдать меня, мои ужимки и повадки, трогать, как диво.
Я думала, у меня вместо сердца давно уже – ветер, а тут вдруг оно сжалось малым розовым бутоном. Время пошло вспять. Ульев на пасеке было без меры. Я не могла сосчитать. Может, сто. Может, двести. Высокий худой старик в густосетчатом наморднике от пчел ринулся ко мне, разрезая хрустальный воздух руками и головой. Схватил меня за руки. Потащил. «Идемте, идемте скорей!.. Я вас угощу самым лучшим медом, майским. И самым лучшим сыром сулугуни. Я видел вас в фильме. Вы в жизни… здесь!.. у меня!.. Я с ума сойду, я с ума сойду», – кричал он весело, и я слышала, как хрипло, от восторга, сбивается его сильное дыхание. Он завел меня то ли в палатку, то ли в шалаш, заставил сесть на старые ковры и на ветхие тряпки, дрожащими руками наливал мед – коричневый, золотой, белый, оранжевый – в глубокие щербатые миски и чашки, он заполнил медом всю утварь, которая только нашлась под рукой, он готов был вылить мед мне на голову! Я смеялась, зачерпывала древней деревянной ложкой то из одной посудины, то из другой. Овидий тащил белые пышные круги сулугуни, похожие на золотые, ледяные слитки. Отрезал щедрые куски охотничьим ножом. «Вы попробуйте только, госпожа!..» – «Какая я вам госпожа», – пробовала я отшутиться, отмахнуться. Не тут-то было. Непрочная сеть уже была растянута, и меня толкали вниз – с высоты. Овидий придвинул лицо. Серебряная, короткая и злая, ханская борода, вязь морщин на волчьем лбу. Властная сцепка старых челюстей – римская, имперская. Наконечники стрел – глаза: один серый, другой черный. Мамка во чреве забыла одинаково покрасить. Цепкие коричневые руки: их резали Солнце и ветер, кусали женщины и пчелы. Овидий наклонялся ниже. Усмешка вздернула углы легионерских губ. Он дохнул в меня медом. «Ну, тогда я твой господин», – бесповоротно сказал он одними твердыми губами и припал древней их, пустынной сухотою к мгновенно увлажнившейся безумной розе – моих.
За тонкими тканевыми стенами пасечного шатра слышались голоса, хрустели по каменистой земле торопливые шаги, басил Ишхан: «А барашка!.. Барашка заделаем на костре!.. В честь гостей!.. В честь нашей царственной гостьи!..» – мемекали бедные овцы, тихо, нежным ржаньем, переговаривались лошади, доносились простые и великие звуки земли. А мы были в шатре. Мы уже ничего не слышали и не видели. Мы вернулись на прародину; мы вернулись в лоно. Он раздвигал мне губы губами, вонзал язык, и я пила с его остро-дрожащего языка мед и молоко. Он раздвигал мне лоно, упорно и властно входил в сутемь, зажигая ее, и я билась древней рыбой на остроге, а он совал мне свои пальцы меж зубов, и я кусала их. Он изливался в меня медом, чистым сладким медом высокогорий, и я воском и медом плыла, таяла в его жестких, жилистых, старых руках. Время остановилось. Я была всегда; я была вечной, как горы, небо, мед. Старик лепил меня, как детскую игрушку из старого воска, размякшего на Солнце. Я забыла, с кем и для чего сюда приехала. Возможно, нас искали. Когда зашло Солнце и наступила ночь, мы тихо выползли из шатра, прокрались к лошадям, вспрыгнули на них – и ускакали от всех. Ускакали далеко в горы. Еще выше. Еще. Стояло очень жаркое лето. Нам были не нужны ни одеяла, ни подушки, ни посуда, ни вся лишняя людская чепуха. Мы были одни. Сколько дней? Мы были там всегда.
Мы и остались там, Сильвио.
Мы спали, разметавшись, на земле, на траве, на розах; мы вообще не спали. Овидий приносил мне разные ягоды, я грызла травы, как овца. Умываться он водил меня на водопад, и я стояла под ледяным серебром голая и кричащая от ужаса и страсти. Без пчелиной сетки, без заштопанных штанов и зацелованной Солнцем рубахи, нагой, Овидий вставал рядом со мной, и мы купались в водопаде вместе, прыгая, фыркая, поднимая руки. У него было жилистое, молодое тело. Я вставала на колени, облитая водой, и целовала его, куда можно и нельзя. И старое лицо всходило над сильным телом, как Солнце. А глаза, прищуренные, острые, глядели вдаль – и там, вдали, видели смерть.
Затем время, отпущенное нам двоим, закончилось; а может, оно и не начиналось даже. Думаю так, что мы могли перепутать века. Наши лошади наелись на горных пастбищах травы до отвала. Когда мы вернулись на пасеку, обнаружилось, что те, кто меня сюда привез, уже уехали. Они просто плюнули на меня. Овидий притиснул меня к себе крепко и сказал горько: «Значит, у нас есть еще несколько дней». И у нас были еще несколько дней.
Он отвез меня на лошадях до красивого абхазского города, где на улицах растут эвкалипты, а девочки на маленьких лодочках плавают по речкам, впадающим в море, и продают хозяйкам сыр и свежие яйца. Там был грязный, дымный вокзал. Лошади подошли прямо к поезду. Овидий сгрузил на перрон банки и кувшины с медом. Я должна была везти мед с собой в Армагеддон. Мы занесли мед в вагон. Овидий сел на полку и посадил меня к себе на колени. Слезы текли по его щекам. Я пила его слезы, слизывала их. Тоже плакала. Мы терлись друг об друга мокрыми лицами, он сжимал меня в руках. Он любил меня. Я любила его. Мы расставались навсегда.
Из окна вагона я глядела на него, сидящего на лошади верхом, пока не отошел состав.
Я уехала навсегда: с его телом в своем теле. С его душой в моей душе.
Но мы, Сильвио, клянусь тебе, мы остались там, в горах. Мы и сейчас там. Человек живет в древности; его место во Всегда. Хочешь – проверь. Поезжай туда. И увидишь. И водопад и все остальное. Ревновать ты не будешь: это было до тебя, и будет после тебя, да и быльем поросло.
ЮРГЕНС
На разбойника я все-таки нарвалась. Все-таки сумела. Эх я и незадачливая, Сильвио!
Я всегда была смелая, Сильвио, я смеялась. «Она идет по жизни смеясь». Это так, а все рыдания – это дорогой женский антураж, не более: плачь, плачь, галка, мне тебя не жалко. Есть жизненные сроки. Баба их проходит, и ее обуревает отчаяние: отчаяние замужества, отчаяние любви, отчаяние одиночества, отчаяние смерти. Отчаяние любви я вроде бы проехала: и такое, и сякое. И у меня наступило отчаяние замужества. Ударило, как в гонг, в меня. Я поздно поняла, что все мои грандиозные апартаменты, шелковые занавеси, вся моя коктейльная, изюмная свобода – гроша ломаного не стоит перед каждодневной крышей мужских рук над твоей головой. Ах, отчаяние! Оно-то мне и помешало. Я хотела всего как можно скорее. Торопыжка был голодный? Да нет, просто внятна стала чудовищная быстротечность жизни. Только начал смотреть фильм – тут же ленту оборвали. От яблока откусил – его выхватывают изо рта. Одна попытка замужества; вторая; третья. Четвертая. Все мимо кассы. А я должна попасть именно в десять очков. В десять. И ни на очко меньше.
Я понимала, что на мне хотят жениться: это было так заманчиво – ведь я была владелицей, обладательницей: славы, богатства, красоты. Джентльменский набор. Вернее, дамский. Все при мне. Кто хотел поживиться. Кто – погордиться. Кто – погреться, успокоиться душой и телом в довольстве, достатке, близ милой и ухоженной меня. Я понимала этих людей. Я их не обвиняла и не оправдывала. Я знала, что я их не люблю, хотя хотела я любить их. Точнее – пробовала. Все они были живые люди, и каждый из них был достоин любви и семьи со мной. Я всех оттолкнула, Сильвио. Всех.
Вот рассорилась я с последним женихом и махнула к морю. Ты никогда не видел, как я плаваю, а плаваю я классно! Женщина, которая не умеет хорошо плавать и хорошо танцевать, не годится и для любви. Это не я придумала, но мне нравится.
Я прилетела к зимнему морю. Оно было изумрудно-зеленое, как Гварабиево кольцо. Густо-зелено-синее, тяжелое, со скользкими и широкими холодными волнами, с густой бахромой пенных кружев. Море лежало в снегах, как в оправе, в шерстистых снеговых горах, медленно и страшно переливалось гранями, искрами. Я поселилась в татарской сакле. Неведомый городишко состоял из странных домов – там были нищие сакли и мраморные дворцы, китайские пагодки, японские бумажные скворечники, маленькие храмы с головками золотого лука. Я бегала по городку к морю, раздевалась донага, купалась – никакого дурака нельзя было загнать в ледяную январскую воду, я резвилась одна, ныряла, дух захватывало, а после растиралась пушистым полотенцем и, сидя на снегу, на камнях, уже укутанная в шубу, распевала всякие песни. Меня здесь никто не знал. Я не знала никого. Армагеддон остался за спиной, в небытии.
Плавала я далеко, ну, и однажды заплыла. Там была бухта, круглая такая, и я проплыла между мысами и ломанулась в открытое море. Так, весело, рьяно, шутки ради, холод собачий, плыву себе, плыву, и захотела обернуться, поглядеть, что же там, сзади, осталось. Что я оставила за спиной. Отфыркнулась, дернула вбок головой… ух! Берега нет. Нет ничего. Белая пелена. Черно-синяя вода. Да дымка, сетка снега – крутится, нежно зависает над затылком. Все растаяло. Умерло. Там, сзади, ничего нет.
Страх – тяжелое чувство. Я его испытала. Я поняла, как мне безумно, до боли, до вопля, до постоянного мучения и пытки, хочется жить. «ЖИТЬ!» – закричало все во мне, скрутилось в судорогу. Вода била из недр преисподней. Я уже ненавидела это море. Я повернула к берегу, не зная толком, где он, и, далеко вымахивая руками, поплыла. Я не плыла, Сильвио, нет. Я царапалась, грызлась, матерно ругалась, хрипела, молилась. Ноги мои превратились в две ледяных култышки. Я знала рассказы моряков о том, что человек в холодной воде живет десять минут, что ли, не помню; а если эти минуты пройдут, тогда… Врешь! Голыми руками меня не возьмешь!
Я катилась отчаянным, глупым умирающим ежонком по изумрудной смертной воде. Когда руки стали выбрасываться вперед с трудом, я поняла краем сознания, что мне каюк. И ты думаешь, я увидела Бога в небесах? Как бы не так! Я поняла, что сдохну, и ток последней ненависти и ужаса прошел по спине, по нутру и ударил в темя.
И когда я уже была готова разжать юродивые пальцы, вгрызающиеся в воздух и воду, и сказала себе: «Все, Клелия, стоп. Хватит цепляться за жизнь», – мою руку схватила рука. В холодном пустынном море, зимой, это впечатляет. Рука сжимала мою как клещи, хуже клещей. Я была почти без сознания. Другая рука перехватила меня за загривок и сильно потащила за волосы, вперед и вверх. Я извивалась. В ухо мне сказали: «Не валяй дурака, ложись мне на спину, я с тобой поплыву. Я знаю, где берег». Я подчинилась. Остальное не помню. Очнулась в гостиничном номере; рослый мужик, с длинными волосами ниже ключиц, черный, страшный, бородатый, растирал меня чистым спиртом, спиритус вини, девяносто шесть градусов, набирая в горсть жидкость из фляги, а остатки ухитрился влить мне в рот. Потом он лег со мной.
Мне было все равно, кто он, откуда. С виду – разбойник. На деле – тоже. Он шатался бродягой по дорогам. Занимался всем на свете. Крал. Возможно, убивал. Подбивал людей на авантюры. Сочинял подложные документы. Забивал оленей на Севере. Был сутенером на Юге. Это был настоящий бандит, и тюрьма плакала по нем, но вышло так, что он спас мне жизнь, и, когда мы еле отдышались после объятий, я спросила у него его имя. Он криво усмехнулся, вслепую на тумбочке нашарил пачку сигарет, всунул мужскую вонючую соску в зубы. «Зачем тебе?.. – выцедил. – Ну… ладно. Зови меня просто… Юргенс».
И вся моя жизнь полетела к чертям собачьим!
Вот так вышла Клелия замуж! Вот так захотела составить партию кому-то! Черное страшное бородатое лицо волчком закрутилось надо мной. Меня буравили. Резали ножами хищных, лживых рук. Меня ломали и кусали. Мной пользовались походя, меня пихали каблуком в грудь. Меня то хотели, то не хотели. Обдавали то жаром, то холодом. Юргенс таскал меня по всем морским трущобам, по всем приморским притонам, где добрая половина проституток – это были его женщины; он пил там бесконечный кофе, бесконечный джин, ром, заставлял меня пить вместе с ним. Я давилась, но пила. Он сажал мне на колени замызганных кошек. Дергал меня за волосы, оттягивая голову книзу. Издевался, как мог и как умел. Я поняла, что его кто-то когда-то тяжело и плохо обидел. И это была женщина.
Но я ему была нужна. Нужна; иначе зачем он спас меня в ледяном море? Он прислонял ко мне тяжелую, как гиря, бандитскую башку и мурлыкал, как чудовищный кот. Он и был на самом деле похож на кота, на хищного черного, в полоску, оцелота, на опасную рысь. Я не желала знать, чем он занимается. Приходили дружки. Номер наполнялся звоном коньячных бутылок, шумом воды в ванной, гулким и визгливым говором, руганью, смешками. Людская каша варилась, булькала на огне глаз, мелькающих рук, секунд, часов, – на синей горелке Времени. Юргенс выхватывал меня ложкой руки из котла, вываливал, как добычу, перед своими: «Вот. Глядите. Я люблю эту женщину. Но я люблю ее… – он презрительно всматривался в часы на запястье, встряхивая их, – …от семи до восьми вечера. И ни минутой раньше, ни минутой позже. Вот так. Достаточно. Баста».
И толкал меня, бил по лопаткам: иди, иди, сучка, вон.
Однажды я возмутилась, выкрикнула: «Дрянь!» – схватила со стола бокал и выплеснула питье ему в рожу. Он слизал клопиный коньяк с усов, нагло утерся. «Ну, постой». Вцепился в меня, тряхнул, как яблоню трясут. Вышел прочь. Я побежала за ним. Он уже толкал свои воровские вещички в рюкзак. И рюкзак он тоже у кого-то вчера украл. «Ухожу! Счастливо оставаться!» – бросил в меня, как камнем. Я хваталась за него, как за воздух, за ледяное море в тот, едва не последний мой, день. Я упала к его ногам. Обняла его за щиколотки, за туго зашнурованные военные сапоги.
Я уже не могла без него.
Приморский городишко звенел всеми пагодами и церквушками, источал запахи жареных бычков, водорослевого йода; с небес медленно падал синий снег и тут же таял – на моих ресницах, на усах и бороде Юргенса. У него, кроме меня, еще были женщины. О двух я знала; остальных я не смогла разгадать. Да и незачем было. Я странно, про себя, улыбаясь, гордилась тем, что была всего лишь одной из тысячи баб Юргенса. Однажды я сорвалась. Он увез меня на дачу к дружку, такому же бандиту, как и он сам. Когда все нарезвились, упились и вповалку спали на роскошных мраморных плитах дачи, Юргенс широким жестом пригласил меня сесть вместе с ним за круглый, заваленный королевскими недоеденными яствами стол – чашки, рюмки, бутылки, сервизы, снедь, чайники и сковороды вперемешку усеивали белое камчатное пространство человечьей трапезы, – и, наливая в бокал темного питья, уставил в меня свое черное мохнатое лицо, припечатал: «Клелия, я тебя не люблю. Что ты ошиваешься около меня! Не понимаю. Это бессмысленно. Я люблю других женщин. А больше всего – Лукрецию. Лукрецию Перебейнос. Ну, ты знаешь ее. Видела в кафе. Поэтому сваливай-ка ты скорей в туман. В свой Армагеддон. Катись колбаской». И, действительно, чтобы показать мне, как мне надо катиться, прошвырнул по столу круглый ломтик копченой колбасы. И белозубо, тигрино засмеялся мне в лицо.
Сильвио. Я света не взвидела. Между глаз у меня стало темно, потом вспыхнул ослепительный свет. Я положила руку локтем на стол и провела рукой по столу. Зачерпнула всю посуду. Вольно, сильно, резвясь, смахнула ее со скатерти на пестрый мраморный пол. Звон зазвенел изумительный! Уши заболели! Юргенс отшатнулся, глаза его стали круглыми, оранжевыми. И, чтобы уж довести дело до конца, я заорала. Заорала страшно, натужно, как орут бабы при родах, до боли в неистово натянувшихся связках, с визгом, с хрипом. И плашмя, как поставленная на черенок лопата, с железным стуком затылка о мрамор – упала на пол.
Крик выходил из меня, кровавился, лез наружу, обратного хода не было. Разбитый затылок ныл. Я перевернулась на живот, билась голым лицом о камень. На языке моем солонела моя кровь. Я ненавидела себя. Я любила Юргенса? Если б кто меня спросил тогда об этом, я б расхохоталась ему в рожу.
Юргенс, кажется, напугался, хоть был не из пугливых. Он кинулся ко мне птицей. Скрутил мне руки за спиной. И стал тащить меня из отчаяния, как тащил из холодного моря.
Он сильно старался. Связал мне запястья и щиколотки веревкой. Бросил на кровать. Намочил старую чужую штормовку и прикладывал, мокрую, к моему лбу. Налил остывший чай в блюдечко и разбрызгал его мне в лицо. Бил по щекам. Навалился на меня всем телом. Плакал вместе со мной. Смеялся, блестя жадными зубами из-под усов. Кричал мне в ухо: «Да красивая ты… Красивая! Уймись, дура, заткнись, я и тебя люблю, и тебя, ну как же я буду без тебя-то!..» Я насилу успокоилась, содрогаясь волнами, как море. Он так искренне кричал! Как страшный зверь в лесу, воплем выкликающий женское, кровавое.
Еще много всякой всячины было у нас с Юргенсом. Не упомню всего. Поле далекое, небо широкое. Едешь, едешь, песню поешь. Первая встреча, последняя встреча. Милого голоса звуки любимые. А слабо, скажешь, последнюю встречу вспомнить? А вот и не слабо. Я забеременела – ну да, это было, конечно, последнее хулиганство – и с ребенком Юргенса в животе захотела улететь от него прочь в другую страну, в другую часть света, в Америку. Почему-то Америка казалась мне для этой цели, улететь и не вернуться, наиболее подходящей. Я знала, где Юргенс скрывается. Он всегда скрывался от меня, уползал в нору, как паук. Ненавидела я его паучье логово. Но пошла, как на заклание, зубы крепко сцепив.
Прихожу в гиблое место. Дверь открыта. Никого. Пахнет Юргенсовыми сапогами, рыбьим жиром, всюду лужи разлитого в драке вина – запах хороший, домашний такой, родной, сладкий. Меня тошнит, в сон клонит, и дрожу я как в лихорадке, и не знаю, что делать: то ли говорить Юргенсу про ребенка, то ли нет. Паспорт и билет у меня в кармане. Платье на мне черное, траурное. Юргенса нет как нет. Сижу в сердцевине ужаса и думаю: «Что за жизнь у тебя, Клелия. Что за жизнь».
И вот ввалился он – сапоги до ушей, два револьвера за поясом, оскал ягуарий, белки бешеных глаз – синие молнии. «Что ты тут забыла, дрянь?!» – «Да уж забыла». Встала, медленно пошла на него – грудью, животом. «Дай мне денег. Дай мне денег на жизнь. Ты мужик или не мужик». – «Такой богачке!..» Он злобно хохотнул. «Расскажите вы ей, цветы мои!..» Я осклабилась, показала зубы не в улыбке – в хищной гримасе. «А тебе слабо своего сына прокормить». – «Что ты брешешь, дура!.. Какого!..» До него дошло, он побелел и глухо выцедил: «Врешь, собака». Я помолчала выжидательно. Дальше молчать было бессмысленно и бесполезно. Опускалась глубокая, мрачная ночь, погибельная. Я вскочила и стала стягивать с себя платье. Оно черной ночью свалилось на холодный грязный пол. Я хотела последний раз побыть с Юргенсом вдвоем.
И мы были вдвоем – той прекрасной мрачной ночью, пахнущей сапогами и рыбьей чешуей, – я, беременная баба, видавшая виды на земле, и прожженный бандит, уставший от баб, – мы сплетались так неистово и так нежно, что никакому Богу было бы не разодрать такое вечное сплетение, таких Адама и Еву, такое Грехопадение, такую Любовь. И поэтому я знала – и сердцем, и печенкой, – что эта ночь последняя, и поэтому я любила Юргенса как никогда, обливая его и потом, и кровью, и слезами, и все, что в человеке горит и льется, мы изливали друг на друга, мы лили друг в друга, удивляясь себе, изумляясь любви, молясь на наше прощание, как молятся люди в церквах на чудотворный образ; и он брал в кулаки и сжимал мои груди так, как сжимают два камня, чтобы бросить их в лицо Тому, Кто из дали запредельной, смеясь, наблюдает за нами, живыми.
ВСЕ ОНИ – И СИЛЬВИО
Ах, Сильвио! Хрю-хрю! Ку-ку! Холодно на зимовье-то. Воспоминания – не дрова, не пшенная каша в горячем котелке. Ими не согреешься. Они для других целей придуманы. Если б я тебе, Сильвио, про всех рассказала, ты бы тут и умер тотчас от ужаса. Да, я великая любовница, Сильвио! Но я ведь не лупанарка, нет! Не презренная блядь! Я их всех любила. Ну, что же ты не вопишь в исступлении: «А меня?!.. А меня, значит, не любила, а только притворялась, потаскуха?!..» Вопи! Вопи так! Истинно так! Это же мужской вопль. А ты же мужчина. Ты должен завопить именно так. Бледнея, дрожа от вселенской обиды: а я?! а меня?! а мне?!.. Нет?.. Не хочешь вопить?.. Ах ты мой умница. Ты, значит, победил свое, мужское. Ты у нас кто же, а? Ангел?! Эльф?! Живешь в эмпирее, жилище блаженных?!
Все они, Сильвио – все они! – и старый Луиджи, и Бертрам, и Уголино, все были мной любимы; и наездник Микеле с головой золотой, как подсолнух, драчун и пловец и чудесный гитарист, все пел мне песни под гитару о прекрасных гусарах и белых конях, и Сандро, худущий бомж, живший под Катехинским мостом, от непогоды приходивший прятаться на мои концерты и целовавший край моего роскошного платья за кулисами, а я потом, дома, когда он был голый и показывал мне все свои мослы, поила его горячим, дымящимся, как кровь, глинтвейном, – и придурочный композитор Нико, кропавший для меня песни и сонаты, набивавший ими мои вышитые бисером наволочки, и милый молчаливый посол Квартер, хотевший увезти меня с собою то ли на Гавайи, то ли на Мальдивы, то ли еще куда к черту на рога, а я все брыкалась и упиралась: к чему?.. – уехала бы с ним, и все, забыла бы родину, не встретилась бы с тобой!.. – и чернявый горбоносый Гарден, плакавший у моей двери, лежавший на пороге, как древняя собака, и густобородый, широкий в плечах Генрих Восьмой, убивший двух своих красивых жен и не смогший убить меня, вовсе не жену, – а убить меня он хотел, уже и топор приготовил, и полотенце, и ванну чисто вымыл, чтоб кровь на белом была лучше видна, а я пришла – и он меня увидел, бросил топор прочь и заплакал, от радости заплакал, что я – есть на земле; и смешливый мальчик Халли, повторявший слова Христа, учивший меня есть хлеб и пить вино, учивший меня любить и жить, – он был вдвое, а может, и втрое младше меня, я купала его в медном тазу, как купала бы сына, и белые волосы его солнечными лучами торчали в разные стороны, но нет, Сильвио, не научил он меня ни любить, ни жить; и лысый скульптор Юлий с тяжелой челюстью пророка, желавший меня как никого на свете и убивший себя из-за меня, не оставив ни предсмертной записки, ничего, кроме кома белой глины на столе, так и не ставшей живою мною; и попутчик в долгом дальнем поезде, беспалый машинист – он паровозы водил, ему в крушенье оторвало пальцы, а у меня от памяти напрочь оторвало его бедное бесследное имя: он втыкал беспалую руку в меня, как в сугроб, как в пирог, хватал мое несчастное тело, как блокадник хватает хлеб, как приговоренный хватает ртом воздух помилования; и все они, все они, все они, Сильвио, были безумно, до конца, до скончания века сего и моей малой жизни в нем, в моем веке, любимом мною, возлюблены многажды и высоко, распяты на дне сердца моего и вознесены – далеко, в свободные, широкие, холодные небеса. И ты был возлюбленней всех, и тебе я молилась неистовей всего, и тебя я любила не многажды, а единожды – единый в жизни моей был ты, а их было много; один ты и остался надо мною, выше и превыше всех, царящий, парящий надо всеми, – успокойся, ты всех победил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.