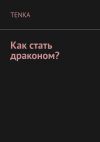Текст книги "Поклонение Луне (сборник)"

Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
На нас косятся. Плюют нам вослед. Чешут языки эти… женщины, что по воду со мною ходят, что стирают на канале рядом со мною. Завидуют они мне, вот что! Одна меня спрашивает: «И что он в тебе нашел… ты, эдакая?.. дурнушка! толстоносик! глянуть не на что! Он – знаменитый художник, умница! У него знатные бюргеры картины покупают, где дамы в яхонтах, старики в золотых шлемах!..» Помолчала и добавила, ядовито так: «А ты – вонючая служанка!» А я – ну, знаете, не снесла я этого. Вспылила и разозлилась. И крикну ей во весь голос: «Эй, наклонись ближе! Скажу, что нашел он во мне!» Хмыкнула… наклонилась. Ухо к моему рту приставила. Я в это ухо и выдохнула: «А у меня-то дырочка с золотой каемочкой». Простите, господа судьи. Но так больно мне стало.
На одной из его картин бронзоволосый юноша припал к груди старика и плачет, плачет. Я смотрю и тоже плачу – вместе с ними. Понимаете, это для меня не телесные существа, не люди, а – души. Это прощание души с душой. Вот так и мы с ним прощаться будем, когда придет время уходить в веселое, в синее небо. А он у меня так любит весну, господа судьи! Когда приходит март, он просто сам не свой делается от восторга! Как пьяный, ходит! Бежит прочь, на улицу, в поля, на каналы, к лодочникам, на барки, на мукомольни – писать яркий, синий март, церкви, резкие тени, золотые льдины, небритые лица шкиперов, разноцветные флаги на мачтах барок, и небо, небо! Вернется, а лицо все иссечено мартовским ветром, и кричит мне с порога: «Накрывай на стол, Хендрикье, славно я поработал, есть хочу, рыбы давай, мятный пирог, и старого рейнского не забудь!..» Я уж его иной раз рейнским побалую. То рейнским, то мозельским, а то еще есть в погребе бочоночек – купила у торговцев из Фрисландии, с родины его почившей жены, – сладкое, прямо сахар…
Вы – его судить?! Да он же младенец, господа милые! Он – художник! Он как Товий слепой, идет по жизни, руки протянув вперед, воздух и свет пальцами щупая, улыбаясь дуновению, ища ласку, понимание. Я каждым нервом чувствую, что ему нужно, каково ему в сей момент. Если ему худо – я и спешу; тут я как тут. Сама поверхность его холстов дышит и движется! Мне порою кажется, что я сама – его холст: плачу, двигаюсь, дышу, свечусь, – а он пишет по мне, пишет, сцепив зубы, блестя глазами, лоб морща, кусая усы. Господи! Я ли не жена ему! Кто ж тогда женою в подлунном мире назовется… да, не царица я! Не Вирсавия… Не гладкая у меня, не персиковая кожа… И ступни велики, и руки ухватисты. А кто б ему горшки из печи таскал?! Кто бы детей подымал?! Я уж и забыла, что Саския Титуса родила. Это я его родила, я. Мне сдается частенько, что я-то уже старуха древняя, а муж мой – не муж мне, а сын, что я родила его тоже. Это от усталости, наверное. Когда он обнимает меня, покрывает поцелуями – да! да! вы краснеете, плюетесь, прячете глаза!.. – тогда счастливей меня нет женщины на земле.
Ах, господа судьи! Увольте. Не мучьте. Все реже заказывают ему портреты. Он все больше сидит один, перед зеркалом, пишет себя. Кучу уж своих портретов смастерил. А то пойдет в еврейский квартал, самую уродливую старуху выберет, всунет ей в руки книгу и так напишет, что, когда я ночью иду задувать свечу и поворошить угли в печке, она сверкнет в меня белками глаз, как молнией – ну чисто сивилла! Лоб стал повязывать полотенцем – стащил у меня с кухни. Жалуется частенько, что голова болит. Кисти об спину, об живот вытирает – замучилась я рубахи стирать. Какие тайны знает он? Душа его богата, как сундук с алмазами. И нету в ней дна. Мое лицо возьмет в ладони, смотрит внутрь меня, глубоко, глубоко. Однажды ночью вскакивает в кровати. «Хендрикье! – кричит. – Иди послушай музыку! Как он играет!..» Я задрожала, босыми ногами прошлепала в мастерскую к нему – и в меня картина ударила. Царь в тюрбане, с короной на голове, приложил к глазам край кроваво-бархатного плаща, рыдает, а в другой руке зажато смертоносное копье. Напротив – мальчик на арфе наигрывает, пальцы перебирают струны так нежно, будто трогают с исподу крылья голубки. И чудится, что арфа покачивается тихонько, чуть клонится ее позолоченная дека… Муж мой вцепился мне в плечо чуть не до крови. «Музыка!» – шепчет. Я отпоила его водой с лимонным соком. Из глаз его до утра безостановочно слезы текли. И везде, везде, в мастерской, в подклети, в гостиной, в погребце, в комнатах детей, в кухне – его эскизы, рисунки, на которых различаю старика сгорбленного и приникшего к нему, в рубище, в лохмотьях, коленопреклоненного бродягу. Везде я их подбираю, эти ошметки бумаги, эти клочки его души драгоценной. А он мне сказал однажды по поводу этих бумаг страшное. Он сказал: «После твоей смерти, Хендрикье, я напишу эту большую картину». Я зажала рот рукой. А он поцеловал мне грудь и лицо. И чтобы я больше не думала о смерти, в утешение мне написал на темном, как ночь, холсте двух супругов. Их лица грустны и нежны, они спокойно стоят в богатых одеждах, расшитых бисером и сердоликами. Мужчина похож на него, женщина – на меня. Но это не мы. Это богатые люди, с изящными, прозрачными руками. На шее женщины низка жемчуга. Я девчонкой мечтала о настоящем жемчужном ожерелье. Мне грезилось, что я его, купаясь, в ручье найду. И вот он мне его на картине нарисовал: на тебе, Хендрикье, твою детскую мечту. Я сосчитала жемчужинки. Столько лет мне осталось жить.
Мне немного осталось жить, господа судьи. Оставьте нас в покое. Мы чудесно жили. Мы проживем, сколько нам отпустит Бог. Но ведь жемчужин на шее той женщины очень мало. Они крупные… розовые… лиловые… белые как снег. Как мартовский снег, который он так любил писать. И есть одна, отсвечивающая густо-синим, небесным. Жемчужина цвета неба, куда мы все уйдем. Как жаль, что я не увижу ту, будущую его картину, где старик обнимает бродягу. Может, это Отец и Сын. А может, Прощение и Грех. Он думает об этом все время. Он чертит две этих фигуры пером на счетах кредиторов. Мы влезаем в долги. Заказов мало, господа судьи. Я стараюсь хорошо вести хозяйство, я закупаю крупу и сало вместо мяса и фруктов. Но я уже не могу удержать лавину. Дует резкий северный ветер. Мне холодно, я кутаюсь в старую шубу. Мех жрет моль. Я боюсь заболеть и свалиться. Кто будет ходить с мешком на рынок? Кто заплатит молочнице за молоко и кувшины? Титус потерял нательный крестик. Это плохой знак. Он может серьезно заболеть. У Корнелии появляется девичья грудь, и я уже нашила ей множество нижних юбок. Скоро она начнет носить крови. Неужели она выйдет замуж без меня?! Мне приснилось, что ее увезут на корабле далеко, на южные острова в Океане, где растут медовые плоды, а самоцветы собирают прямо в полосе прибоя. Когда я ее сегодня расчесывала, она сказала мне тихо, что, если она выйдет замуж и у нее родится мальчик, она назовет его именем отца.
Мы все так любим друг друга. Мы не хотим плакать, болеть, умирать. Господи! Дай нам силы и жизнь. А вы, господа судьи? Что вы хотите от меня? Не будет мне Причастия?! Эка испугали! Вот муж кашляет, вот он простыл, я варю глинтвейн, сыплю туда корицу, кардамон, ваниль, цедру, и мы из одной чашки пьем напиток, дымящийся, горячий, сладкий, сумасшедший, веселый – вот мое Причастие! А потом он ломает хлеб любимыми пальцами – грязными, в масляной краске, в угольной крошке, с запахом льняного масла, скипидара, печной сажи, и отломанный кусок мне в рот кладет. Вот они, Кровь Христова и Тело Христово. Сейчас тряхну юбками да и уйду от вас навек, от вашего глумливого сборища. Вы все умрете! О вас не вспомнят. Скелеты ваши изгложут черви. А на его картины будут молиться. Будут вставать перед ними на колени. Успокойтесь. Уйду сейчас. Есть лишь одна просьба. Сжальтесь, не мучьте его. Не грызите его душу. Не зовите его на суд, не терзайте. Ведь он и «Снятие со Креста» написал, и «Поклонение волхвов». Он истинный христианин. Да и я крещу лоб свой на ночь, детей в благости воспитываю. Но я люблю его и не хочу, чтоб стегали, бичевали нашу любовь. Все равно не распнете. Все равно он – Рембрандт, а вы… где расписаться? Тут?.. Черно все перед глазами, не вижу… Вот. Вот здесь, да. Крестик поставлю. Грамоте не умею. Да все ж тут меня и так знают. Хендрикье меня зовут. Хендрикье. Подлинно – так.
Иезавель
Я всем золотыми колокольцами раззвонила, приглашения все разослала – дощечки с надписями. Приезжайте на слонах, на ослах. Сами ослы – так идите пешком. И подарков мне побольше. Так, чтоб с возов свешивались хвосты осетров и финики, и виноград – гроздьями. Еще очень люблю звездчатый сапфир. Привезите мне, мужичонка: круглый, синий, а внутри звезда. И коробку сигарет «Соверен». Дым будет обволакивать мой лоб и волосы, и я буду струиться и колыхаться, как накрытая фатой. Невеста, ха-ха!.. Поцелуй меня – не отравишься. Обман это. Все, кто целовал, давно в бурьяне неживые лежат.
И вот они повалили валом. Телеги скрипят, на полозьях – пыль и грязь, по грязи, по лужам парчу волокут, оксамит, виссон. Кто большую рыбу на руках несет. Кто – куниц, лис. Хвосты песок метут. Один вышел из возка, крепко обхватил канистру, еле стоит. «Хиосское там!.. Хиосское, не сойти мне с этого места!..» – истошно так кричит, подвывно. Ему не верят, смеются: «Денатурат!»
Катились человечьей шерстью, воющим перекати-полем вверх, вверх, я-то под крышей жила. Дом мой роскошный, сыпучий, египетский известняк кривых тюремных плит. Полы я сама выкладывала цветной мозаикой из Гермонассы. В Гермонассе люди жили сто веков назад. Мы приехали тайно, ночью, с мешками, на быках. Ковыряли, отбивали чудесные камни лопатой, ломом, скребницей, нагрузили мешки доверху, взвалили на бессловесных рогатых тварей – и ищи-свищи. Из той мозаики я полы и сложила. Гости удивляются. Ходят босиком. Узоры рассматривают. Дельфинов, леопардов, диковинных единорогов.
Они все богатые. Рыба с таким хвостом стоит кожаный мешок драхм, я уверена. Они меня не любят, нет. Так надо. Это обычай. Тащить, волочь, трясти, воздымать. Если ты без рыбы, без железного щита, без куска виссона, без кошачьего глаза в зубах – то кто ты? Вещь, которую ты тащишь, – твое лицо. Ты без приношения – ты без лица. Безликий. Безлицый. Ты дельфин. Червь.
Стучали по лестнице сапогами, дымили куревом, кряхтели, подымались. Лестница скрипела, гнулась под тяжестью скалоподобных телес. Тянули за собой визжащего поросенка на веревке. Он упирался, верещал пронзительно. Жертвоприношение. Живое. Визжащее. Хоть я и царица над своими рабами, а не переношу вида крови. И когда кричат перед смертью – тоже не снесу. Уж пусть меня удавят.
Топ-топ, топ-топ – вот и набили собою, прекрасные люди, тесные да душные каменные клетки! Роскошно живешь, Иезавель! Мастера не слукавили, строя твой дом из камней. Они знали: ты любишь мощные, могучие пустынные камни. Молчащие. Упирающиеся голыми затылками в черное ночное небо. Освещенные кобыльим молоком Луны. Когда у меня жажда – я пью Луну, как молоко. Когда есть хочу – она для меня яблоко, лепешка. Иногда срез авокадо. Однажды я сидела на каменном карнизе, на окне, и к окну подкралась из пустыни, из ночи, огромная худая пантера, черная, как ночь. Черная шерсть пылала голубым в свете Луны на рыжем песке. Я опустила лениво руку, чернота прошла меж моих пальцев. Я долго, нежно гладила пантеру и шептала ей все любовные слова, какие только могла придумать под тяжко молчащей Луной. Потом зверь встал на задние лапы и лизал мне грудь и живот. Лунно блеснули клыки. Я упала навзничь, стукнувшись головою о каменные плиты спальни. Служанки натирали мне шею камфарой и скипидаром три дня подряд.
Народ, народ, есть хочешь! В ивовых корзинах, в ржавых кастрюлях, на картонных подносах вносили и выносили многажды битые мои слуги персики и инжир, копченое сало и караваи ситного, виноград «изабелла» и банки с земляничным вареньем, перевязанные марлей. Грубые руки рвали, терзали. Раскурочивали, подкидывали в воздух. Пальцы, презрев фамильные ложки и именные ножи, копошились в месиве сладости и горечи, вырывая, выпрастывая из недр роженицы-еды визжащего младенчика – бедную, нищую человечью радость. Я носилась вихрем меж веселящихся, задевая шелковьем одежд за дощатые углы столов, за когти и клювы. Тонкая ткань трещала, рвалась. Я уже была вся в дырьях. Сквозь дыры народ видел блистанье моего белого тела. Я сама на себя любила любоваться в бане. Меня веником щелкают, а я лежу и любуюсь. Бедро. Голень. Пах. Локоть. Сто локтей вам бежать – до моего тела не добежать. А вы… о душе еще толкуете. Гусеницы. Личинки царских жуков.
«Иезавель! – орали. – На тебе систр, спой нам про побег из тюрьмы». Голос хриплый, слова народные. «Иезаве-ель! – кричали из другого угла, там лежали вповалку, друг на друге, там уже все перепились и издавали перепелиные крики, – почему ты не танцуешь?!.. Пятки, что ли, устали?!.. так мы это дело щас поправим!..» – и прямо под ноги мне летела горсть горячих, тлеющих углей. Я вставала на угли босыми ногами и широко улыбалась. Белые зубы мои пылали в сумеречном свете рвущихся на сквозняках светильников.
«О-о, какие губы!.. Какие зубы!..» – стонали из-под стола. Лысые и по-бараньи курчавые затылки высовывались из-под висящей камчатной бахромы, пряный табачный воздух прокалывали пыточные ругательства. Я плясала на углях, но я плясала не для вас, собаки, а для себя. Для себя, собаки! Ибо я привыкла плясать на углях, собаки. Ибо я любила плясать на углях.
Я уже не помнила, пахли паленым мясом мои пятки или это жарили в печке поросенка, смолкшего навсегда. В моей правой руке был граненый стакан, в левой – другой стакан, и в них было налито разное вино: черное и желтое, и я стучала стаканами о лбы и скулы и о чужие кубки, и звенела, и хохотала, и падала на корявые руки; меня ловили, волокли в темный и грязный угол, на расстеленную рваную бумагу с напечатанными на ней надписями, – важная бумага, не к добру ее порвали, и сидят на ней и едят, вот жирную рыбу разложили, кусочками нарезанную, и все печальные надписи испятнались, умерли, – садись, мне кричали, трусливая Иезавель, садись, сюда, на пол, на камни, на бумагу, с нами!.. не хочешь?.. цаца!.. а мы думали, ты своя, своя в доску!.. че ж ты, Иезавелища, а?.. носопырку-то задрала!.. с нами знаться теперь не желаешь!.. а кто прежде тебя на ипподром водил?.. арабских скакунов дарил?!.. кто с тобой, побрякушкой, на другой берег великой Ра на краденой у пастухов лодке переправлялся, осетров ловить и потрошить?!.. ах, не мы?!.. не мы?!.. А ведь это мы тебя там потрошили – вместо осетров!.. Га, га, га!..
Я садилась. Камни холодили мне, громоздясь морозно под тонкой бумагой, содрогающееся чрево. Лиц я не узнавала. Звенела стаканами. Мне лили в один стакан – ночь, в другой – день. И я жадно пила из обоих.
Виссон рвался, трещал под руками. Зубами вцеплялись. Думали, что тело мое близко. Оно было далеко – дальше заката на великой Ра. В воздух тело мое бросали, задыхаясь в восторге. А я глядела на все это дело со стороны, из-под потолка, оттуда, где качался на ветровом потоке тусклый масляный лампион, и усмехалась. Меня пантера научила так: выходить из себя и глядеть на людей сверху. Она мне рычала в ухо, приходя из пустыни: мы, звери, всегда так делаем. И этим, лишь этим мы живы. Иначе бы в песках остались только люди, а зверей бы на звезды давно взяли. А мы еще здесь. Еще терпим и любим вас.
И так, я висела и качалась под лампионом, наблюдая разброд и карусель, и себя наблюдая – видела я, как свисают врозь мои налитые, дынные груди и кабошон янтаря меж них, как стекают по плечам змеи завитых на раскаленные спицы волос, как порвалось и распалось на кусочки и лоскутья мое единственное виссоновое платье, – а я была весела, молода, ой, уже не слишком молода, а так, еще немного молода, нет, конечно, казалось, что молода, а танцевать-то меня заставляли как молодую, без перерыва, без роздыху: танцуй! танцуй! остановишься – смерть!.. упадешь – смерть!.. Видела, как рты кусали зерна гранатов вместе с кожей, банан вместе со шкурою. Зрела, как искажались черты прежде добрых лиц, как неистово бледнели щеки, как наливались алым и багровым шеи, как хищно раздувались зобы. Как вертели меня туда, сюда безжалостные, косноязычные руки. Хватали за косы. Цапали за ляжки. Танцуй! Танцуй! Ведь ты Иезавелька. И мы тебя утопим в бочонке с хиосским, если танцевать плохо будешь.
А хорошо было висеть под люстрой. Покойно. Рядом с сонными пустынными стрекозами, ночующими под потолком, на медных завитках лампионов, в человечьем жилье. Недолог был мой покой. Прощай, покой мой. Идут. Идут. Рухнула я вниз, в тело свое. Проросла в нем. Зашевелилась. Помолилась теплыми губами. Идут. Идут. Вот они. Я их чувствую. Неужели они меня нашли. После стольких лет. После ужаса всех коронований и низвержений. После святого сора, выметенного из алтаря поганой метлой.
Они ворвались в зал, в средоточие песен и бутылей, как врывается боевой слон в гущу пьяных от победы, ослепших воинов. Впереди бежал он, живой меч – я его сразу узнала, он рассекал лезвием вонючую тьму. «Вот она! Взять ее!» – ор десятков глоток потряс известняковые стены. Душонка моя в теле была еще и потому испугалась. Я стала метаться взад, вперед, вспрыгнула на табурет; близ стоящий воин, резвяся, пнул табурет, и я упала с шумом, едва не сломав себе шею. Тут же меня схватили десятки рук, а мне казалось, что это были тысячи. Руки людей были горячи, обжигающи, ледяны. Лед и огонь жгутся едино. Их неостриженные грязные ногти впивались в мою белую кожу, и горло мое издавало верещащие, сиротливые звуки. Я слышала их недавно; это были визги влекомого на заклание поросенка. Живой меч подошел ближе. Из серебряно блестящего, смуглого лезвия лица в упор на меня глянули каменные глаза – глаза камня и железа, намучившегося в руках человека, пытанного огнем и рубилом, истязуемого веками и наконец освободившегося: глаза мстителя. Не мужчина мстил женщине: камень мстил плоти, железо мстило нежной душе. И тебя изрубят в куски, душа. Дай срок. Тело – оно что, Иезавель? Оно скрючится под пытками, изойдет длинным воплем. Пойдет на пищу червям. Но то живое, то, что может выходить из тела и жить в пустыне, под черным небом, само по себе, – вот что, Иезавель, ему надо. Это добыча добыч. Человек, добывший и присвоивший душу другого, по поверью, выбитому железом на камнях близ Моря, дождется Божьего Суда.
Разлепился каменный рот. Возопил: делайте с ее телом что хотите! Меня начали растаскивать – ноги в одну сторону, запястья в другую, рвали меня и ломали, как курицу на арамейской свадьбе. Ребра мои хрустели, воины вставали на подвздошье ногами, босые пятки плясали у меня на грудях, выдавливая из них мечту о молоке. Тупые и зубчатые кухонные ножи вспарывали сгибы моих локтей, оленьи голени. Если рубцы когда-нибудь зарастут, думала я, больше никогда не пойду в баню. Каково мне будет глядеть на вздувшиеся иероглифы. На клинопись смерти.
И тут, словно догадавшись, один из воинов, дурно пахнущий, гололобый смерд, наклонился и хотел выколоть мне глаза, но повелитель остановил его мановением руки: оставь! Пусть глядит на священное уничтожение свое! Пусть пребудет зрячей до конца. Это очень важно для человеков – до конца не ослепнуть.
И мой добрый люд, мой гостевой родимый народ как озверел. С цепи сорвался. Давай меня катать, валять. Тыкать мне в грудь пиками, ножами для чинения перьев; зажженным куревом. Сыпать табак, капать льющийся со свечей – воск, с лампионов – жир в распахнутые глаза, в кричащий рот. Кто-то на мое лицо помочился. Кто-то острым зубом скусил вместе с мочкой – серьгу. А я так хотела Сапфир. Звездчатый. Уши мои были для него, для Сапфира. Кровь из прокушенного уха лилась по шее, и они собирали ее в стаканы и чокались ими, вопя: «Святая Иезавель!.. Причащаемся небесной крови твоей!..» И пили.
Они сумасшедшими не были, и я в своем уме была. Чуяла, что волокут меня к окну. Жесткий квадрат был нацелен в черную ночь, где шевелилось и сражалось огромное воинство звезд. Они тоже убивали друг друга. И так меня, из рук в руки, передавали по голым спинам, по торчащим коленям, накалывая на острия ножей, увязывая запястья и щиколотки бельевыми веревками, приближая к черному звездному квадрату. Рюмки звенели, биясь. Служанка орала и ревела ослицей. Черный квадрат наплывал на мои глаза и лоб, и тело мое дергалось от боли в руках убийц. «Они выбросят меня в окно», – подумала я неистово. Выбросят, и я разобьюсь, как разбивались до меня тысячи людей. Как это больно – разбиться. Я боялась последней боли, и страх мешал мне употребить древнюю мудрость подруги-пантеры – выход из ненавистных врат тела не сбывался, как я ни извивалась в корчах, и потом, от страха я забыла, как надо возвращаться обратно. Зазвенел собачий лай. Они ввели сюда собак, когда?.. Жаркие пасти смрадно и красно дышали мне в нос, в уши. «Возьми!.. Возьми!..» – услышала я клокочущие крики. Одна впилась мне в икру, другая ухватилась клыками за пальцы моей руки, и я могла слышать, как хрустят мои маленькие косточки, исчезая в собачьей пасти. Черный квадрат наехал на меня вплотную, мой истошный крик ввинтился в потолок, и горящий лампион рухнул, разбрызгивая масло, соль и перец. Кипящее масло заливало людей, и они поджаривались живьем, украшенные пряностями, приправленные сельдереем и ревенем. Ох и орали они! Непотребства их глоток рвали духоту не хуже мечей. Я смеялась, разодранная надвое, как лягушка или устрица. Я была довольна. Не я одна. А и вы тоже. И вы вместе со мной. Человек же не может так вот, один. Одному – обида, тоска. А когда все скопом в пекло – радости нет конца. Я умру, но и вы умрете. Вот счастье. Вот утешение.
Хрипы, бульканья, клекот глоток, щек. Этот, с железными глазами, лошадиными зубами ржал в лицо мне. Смейся, череп. Ты тоже весь в гибельном масле. Лампион уже горит посреди залы костром. Я гнулась как прут, била воздух ногами, крючила уцелевшие, не съеденные собаками пальцы. Вырвусь. Все равно вырвусь. Вот сейчас я сходила с ума. Они хотят разбить меня о землю. О камни. А я вырвусь. Я спасусь! Они все умрут, сгорят в кипящем масле – а я одна спасусь. Назло им. Вот посмеюсь я вволюшку внизу, на земле. В мягкость зада и в жесткость изрезанной кинжалами спины вонзились острия. Они вздели меня на пики. Они сорвали с меня последний лоскут. Я лежала голая на остриях пик, и все увидели, какая я худая и некрасивая, бедная Иезавель, с обвислыми ягодицами, с тощими ребрами, напоминающими стиральную доску, и поняли все, что моя красота была обманом. Люди всегда хотят сладкого обмана, легенды. Люди не хотят высохших ребер и горечи под языком при поцелуе. «У-лю-лю!» – загикали, засвистали воины, и один из них затушил горящую сигарету о мой голый хребет, просвечивающий перламутром сквозь частокол пик.
Так, на пиках, меня поднесли к подоконнику. На карнизе сидели две птицы – ворона и павлин, ворковали. Я рассмотрела их глаза, черные, круглые, глупые, чечевичные. У вороны были глаза обреченные. Павлин глядел весело. Дурак дураком.
– Кидайте вниз блудницу! – крикнул кривой железный меч, тряханул головой, увешанной нитями зеленых камней с берегов великой Ра, и произнес пещерное ругательство, доступное лишь устам подземных богов. Я ударила рыбьим хвостом. Меня насадили на острогу. Меня, осетра, потрошили неверно. Не знали повара, где у рыбы пузырь, полный горечи и страсти, где хитрые переплетенья отхожих кишок. Опять глотки заревели не попеременно, а хором. Вопль, руки, копья, пики, собачьи морды, лезвия локтей, селедки ножей, груди, животы, медные лбы и голодные зубы вытолкнули меня на каменный карниз – я ракушку, вмерзшую в известняк, могла приметить на прощанье, – и, вопя и мерцая торжествующе, сияя несмытой кровью, звездами белков и ногтей в жирно горящем квадрате окна, столкнули меня с карниза вниз, и я полетела на землю, бия в черноте ночи голыми белыми ногами, сверкая горящими волосами, пылая полоской не сдернутого с шеи ожерелья, чернея раззявленным в могучем вое ртом, и я была так красива, когда летела с великой высоты вниз, что живой меч и его воины снова закричали, пронзительно и беспомощно, от жалости, любви и бессилья.
А я летела и пела победу; я, низверженная, показав им, холопам и уркам, настоящее, беспогибельное лицо свое и тело свое, радовалась последнему великому царствованию своему, властью своей наслаждалась – живой и посмертной.
И смерды мои, рабы мои, собаки и шакалы мои, выли затравленно и мучительно там, наверху, понимая невосполнимость утраты. Они захотели владеть мной и принадлежать мне. Поздно. Летело красивое тело, и вместе с ним летела моя душа, не пожелавшая покинуть его. Я не хотела жить вечно, как звери и боги. Я осталась человеком под горящей в медовой смоле пустынной Луной.
И затих бедлам. И никто не изругался непотребно.
И веял белыми струйками песок с севера, с северо-востока, охватывая браслетами мертвые щиколотки.
А наутро пришли люди собирать мои останки. Они брали, плача и причитая, в дрожащие руки мой череп с выкаченными наружу глазными яблоками и мусором седых волос; кисти рук моих беспалых, прокушенных египетскими псами; собирали, молясь, в нищие котомки и торбы мои тощие ребра; находили поодаль, за барханами, мои ступни с крашенными хной ногтями и подошвами и, благословляя, омывали их слезами. И, собрав все до крохи, до волосочка моего, упавшего с моей головы, на пожертвования и дары от безумно верующих на берегу великой Ра, там, где осокори отражаются в синей, как сапфир, воде, где рыбаки жгут костры, а мальчики и девочки курят запретный табак, целуются, наносят себе на цыплячьи тела священные татуировки, а после сливаются навек, спаиваются живой сваркой, любовным взрывом, и до утра спят в кустах, – там, на краю пустыни, построили храм в мою честь.
Все это запомнила и рассказала грамотная душа черной пантеры, бывшая с душою Святой Иезавели до последнего вздоха.
Славься, славься, славься, великий Ра.
Звери тебя не забудут.
Век воли не видать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.