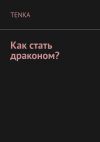Текст книги "Поклонение Луне (сборник)"

Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
«…я всегда буду любить тебя. Я любил тебя до твоего рождения и буду любить даже после… когда ты состаришься, моя родная девочка, я буду возить тебя в колясочке…»
Листок трясся в ее руках. Слезы капали на тонкую парижскую бумагу. Она исцеловала письмо и вконец перемазала его слезами. Наклонилась. Возле ноги, возле ее каблука лежал убитым котенком сверток. Она подняла его. Развязала атласную ленту, развернула промасленную кальку. На ее колени выскользнула, как живая, сплетенная из плотной черной нитки изящная сеточка для волос. Сеточка вся, сплошь, была расшита жемчугом: мелкие перлы, голубые лучи, розовый свет, золотые зерна. Катя надела сеточку на голову и, теряя сознанье, заправила под нее все пряди с висков и тяжелый пучок на затылке.
– Спасибо, Гоги, – прошептала она, ловя слезы губами. – Я в Париже. Я с тобой. Я с тобою всегда.
Она встала со стула, качаясь, подошла и сдернула шубу из каракульчи с вешалки. Перекинула через локоть. Стуча каблучками, пошла по коридору на чадную кухню. Крикнула в дверях:
– Лидия Евграфовна! Дарю!
Бросила шубу. Соседка поймала. Примус пыхал керосином. Похлебка убегала. Соседка озверело прошептала:
– Ух ты, мать твою, Матерь же Божья…
Свистел, как паровоз, чайник. В дальней комнате пел в клетке ручной щегол. Пахло кофием и пельменями. Пахло духами «Коти» и дымом сигарет «Ира». Пахло птичьим пометом и поломойным ведром. Пахло жизнью.
МАТРЕШКА ПЯТАЯ. ВИНОГРАД
В гостиничном номере у князя Георгия Сулхан-Гирея всегда стояли в вазах свежие цветы. Он обожал цветы, дня не мог прожить без их запаха. В Тифлисе у него, вокруг белокаменного дворца, был разбит сад такой божественной красоты, что на сад князя Георгия знатоки приезжали дивиться аж из самой Европы и даже из Америки. Князь прибыл в Ливадию недавно, два дня назад, но успел уже повидаться с Царской Семьей, поиграть в серсо с Великими Княжнами, покататься с Цесаревичем на ослике, послушать, как Императрица играет на рояле бесподобного Бетховена, «Mondschein-sonate» cis-moll, и серьезно побеседовать с Его Величеством о виноделии и виноградарстве в Грузии. Царь был настоящий ценитель вин, особенно французских, армянских и грузинских; он мог бы составить конкуренцию любому хорошо обученному сомелье, он дегустировал вина вполне профессионально, и, Сулхан-Гирей знал это, у него в Зимнем дворце находилась огромная коллекция вин, и Царь гордился своей сокровищницей. Бывало, что из коллекции извлекалась особо чтимая бутыль; Царь не жалел бутылки, что стоила на аукционах тысячи рублей, когда любимый друг Гоги приезжал.
Князь Георгий сам был владельцем знаменитых виноградников близ Тифлиса. Он любил виноград не менее цветов. Он знал, как ухаживать за лозой, как дать ей тепло и правильно перезимовать, как ее подвязать, чтобы завязь весною, как змейка, грелась на солнышке; он сам собирал урожай, ходя в фартуке меж отягощенных гроздьями лоз, нежно срезая их острейшим ножом и бережно укладывая в корзину; он сам, с друзьями, давил ногами, как в древности, вино, и сам сливал сладкую влагу в огромный кувшин, квеври, и сам закапывал его в землю: выдерживайся, нектар богов, я сам тебя в свой срок изопью, под веселые, на девять голосов, песни!
Он любил свою родину, но он любил и Россию. Он любил Крым, с его сизо-синим ветреным морем, с его запахом сухих йодистых водорослей, шуршащими под ногами белыми монетами жаркой гальки, с белоколонными дворцами в темно-изумрудной зелени магнолий и с татарскими саклями среди высоченных, в рост человека, цветов и трав яйлы. Он любил шумную, вместе рыночную и церковную Москву, похожую на большой, щедро разломленный мятный пряник. Любил ярмарочный оголтелый Нижний, Волгу, на поверхности которой пароходы стояли белыми дымковскими игрушками на гжельском синем подносе, запах чехони на баржах, плоты, костры по берегам, взрезанных и выпотрошенных осетров в громогласных, чуть не бандитских ресторациях, и сырые, масленые гроздья черной сверкающей икры на блюде, наспех посоленной усмешливым половым. Любил чопорный, ледяно-прозрачный, будто восковой, царственный Петербург, его симфонические концерты в Капелле, его премьеры в Мариинке, его смешных уток на черных сколах льда в Фонтанке и Мойке. Он бывал и в Сибири, одним из первых проехал по Транссибирской, новенькой магистрали, и видел мощь и размах земель, и нищету вездесущих нищих, и сытость богатых крестьянских хозяйств. Он чуял, что в воздухе пахнет не только вином на Рождество и куличами в Пасху, но и черным, гаревым, страшным, – но, как многие в России, отмахивался от своего безошибочного чутья, как от назойливой, сонной осенней мухи.
В Ливадию он приехал, да, к Царю, потолковать о крестьянских реформах, после убийства Петра Аркадьевича это было слишком насущно. Бедный Столыпин. Они все-таки уничтожили его. Кто-то, выше и сильнее его, говорил внутри: и тебя уничтожат, и Семью, и всех, – но он сам перед собою делал вид, что не слышит, глухой.
Август в Крыму стоял мягкий, нежаркий, как октябрь, хоть до бархатного сезона было еще палкой не добросить. И море уже было странно прохладное, и страшно было ступить ноге в густо-зеленую, аквамариновую воду, по-кошачьи лижущую мелкую цветную гальку. Князь Георгий оделся в льняную белую рубаху и белый шевиотовый костюм – с моря дул ветерок, – сначала отложил трость, потом снова взял, играя. Поддельный алмаз сверкал, как украшенье на Рождественской елке, в африканском эбеновом дереве трости. Князь был щеголь и знал это. И доволен был собою.
Не так давно он расстался с женой, бесплодной и вздорной француженкой, увязавшейся за ним из Парижа в Россию. Полин была старше князя на десять лет, и это, конечно, был мезальянс. Слава Богу, Церковь дала разрешенье на развод. Царь мягко заметил при встрече: «Теперь, князь Георгий, подумайте о том, чтобы хорошо жениться. Да, да, хорошо. Хотите, я вас сосватаю?» Спасибо, Ваше Величество, склонил голову князь Георгий, я сам как-нибудь разберусь.
Ветерок с моря налетал и ерошил волосы, князь неторопливо, поигрывая тростью с крупным стразом, шел по набережной, а навстречу ему, еще далеко, еще в дымном мареве моря и легкой прохлады, шла девушка. Белое платье просвечивало солнце, и князь на миг увидел под кружевной юбкой и под всеми исподними юбками ее ноги – длинные ноги газели, бегуньи. Он не видел ее лица – она шла еще далеко. Бриз развевал ее небрежно заплетенную черную косу. Широкополая, в гроздьях снежных кружев, шляпка бросала тень на щеку, на шею. Рука в белой перчатке сжимала ручку кружевного зонтика.
Девушка шла и шла, приближалась, и у князя Георгия защемило сердце. Он остановился и положил руку на лацкан пиджака. Девушка шагала по набережной легко, будто была невесомой. Он уже видел ее лицо. Ее улыбку.
Она поравнялась с князем, хотела спокойно пройти мимо – и не прошла. Ресницы вскинулись. Глаза, цвета моря в грозу, наткнулись на его глаза. Она встала. Опустила кружевной зонтик. Свернула его с легким шорохом.
Они глядели друг на друга и молчали.
Первым заговорил князь Георгий.
– Князь Георгий Сулхан-Гирей, – сказал и приподнял белую шляпу. – Окажите мне честь…
Она не стала слушать. Пожала плечами. Снова раскрыла зонтик. Ее лицо в тени зонта излучало золотую смуглоту и виноградный румянец, брови сердито подрагивали, на верхней губе поблескивали алмазинки пота.
– Я не знакомлюсь на улице, – насмешливо донеслось из-за зонта.
Он оглянулся и так стоял, долго провожал ее глазами. Он видел только кружевной зонт, белым сугробом заслонявший от него ее черноволосую головку в шляпе, ее изгибистую шею, ее покатые, как у дам на старинных миниатюрах, плечи.
В тот же день он узнал, где она квартирует.
Она жила в той же ливадийской гостинице, что и он; только он на втором этаже, а она на третьем. Ее звали Кетеван Меладзе.
Кетеван сидела перед открытой балконной дверью в кресле-качалке и листала свежую «Ниву», как в дверь номера осторожно постучали. «Войдите!» – рассеянно-радостно бросила она, не прекращая листать журнал. Она думала: смотритель этажа, пришел спросить о вечерних заказах, чай-кофе в номер, но через порог осторожно шагнули и молчали, и она вскинула лицо от журнала и чуть не закричала от изумленья: в номер вошли цветы! Не человек!
За немыслимым, в рост малого ребенка, букетом из алых, белых, желтых и черных роз, умопомрачительно пахнущих магнолий и, Боже мой, водяных лилий, крупных, с дивными прозрачными опаловыми лепестками, сказочных нимфей, не видно было дароносителя. Белые брюки высовывались из-под букета. Кетеван прыснула в ладошку и бросила журнал на пол.
– Добрый вечер, – шаловливо сказала она, обходя гору букета, находя взглядом лицо мужчины, – как вы сюда все это донесли?
Князь, еле удерживая пук цветов в руках, смотрел ей в лицо и думал: Боже, какой она еще ребенок.
– Прекрасно донес! – бодро воскликнул князь Георгий. – У вас есть в номере ваза? Нет? Прикажите, я мигом.
– Значит, вы меня нашли, – задумчиво протянула Кетеван. – Вот вы какой! Я позову горничную. Она принесет вазу. Да не одну!
Она смеялась и прижимала ладоши к смуглым щекам.
– А я думал, вы меня прогоните, – смущенно выдавил князь. – Благодарю, что не прогнали. Вы лучше всех этих цветов и всех цветов мира, вместе взятых.
– Я тоже про вас кое-что узнала, – тихо и внезапно печально сказала Кетеван. – Вы друг Царя. Вы…
– Вы сами как царевна, – сказал князь Георгий, положил букет на стол, встал на одно колено перед Кетеван и поцеловал ей кончики пальцев. Потом встал, бледный как нимфея, и поглядел Кетеван в глаза.
Взять за плечи. О, нет, это грубо. Взять руки в руки. Да, вот так. Глаза вплывают в глаза, глаза текут, как синий мед, по глазам и устам, по сердцу текут. И что будет впереди? А никто не знает, что будет впереди. Вот это твоя жена, Гоги, твоя сужденная Богом жена. Вы одной крови; да не это важно. Ты уже ее любишь. И наплевать, что она не любит тебя. Полюбит. Ты все для этого сделаешь. Все.
Кетеван вырвала руки, тоже побледнела, шагнула к двери, высунулась в нее и закричала, и голос далеко разнесся по пустынному коридору:
– Горничная! Прошу! Вазу для цветов в двадцатый номер!
Князь покупал Кетеван в ялтинских ювелирных лавках брильянтовые колье, перстеньки с алмазами и сапфирами, синими, как ее глаза, жемчужные ожерелья. Он заказывал в ее номер пирожные и торты из лучших кондитерских Ливадии и Ялты. Он посылал ей горький, изысканный шоколад «Эйнем». Он заваливал ее номер букетами, и один был краше другого, и в номере было уже не продохнуть от ароматов роз, гиацинтов, гладиолусов. Подарки, брильянты, угощенья – все было бессильно. Она все принимала, не выбрасывала за окно, но в ее глазах он читал безошибочно: это все напрасно. Однажды он пришел к ней с корзиной, из корзины выглядывали горлышки бутылок: коньяк, шампанское, ликер, малахитово поблескивал бок громадного арбуза, и воскликнул: «Кетеван, дорогая! Мы сейчас с вами будем делать крюшон!» Она сморщила носик и дерзко выдохнула: это вы сами тут будете делать крюшон и будете его пить, а я – бегу купаться! Он настиг ее уже на морском берегу. Она стояла на гальке босиком, в полосатом купальном костюме, и он умилился ее купальными полосатыми, как шкура зебры, штанишками до колен, и снова чуть не потерял голову от ее ног, груди, морских смеющихся глаз. Кетеван, крикнул он, море холодное, вы простудитесь, я с вами! Она уже входила в воду. Он раздевался, как по отбою в кадетском корпусе. Поежился, входя в море. Дул ветер, и волны вздымались крупные, суровые, белопенные. Кетеван плыла размашисто и широко, и князь, стремясь не отстать, саженками рванулся вслед за ней и захлебнулся выплеском остро-соленой воды.
Подплыл к ней. Крикнул: глядите! Ныряю! И ушел под воду. Кетеван сначала смеялась, потом взволнованно стала кричать: князь! Князь! Где вы! Не шутите так со мной! Он выплыл, отфыркиваясь, как морж. В два гребка она подплыла к нему. Слишком близко. Он поцеловал ее в море. Его будто током ударило. От макушки до пят. Он понял: ударило и ее. Они молча плыли к берегу. Обоих колыхали сильные, синие волны.
Они вышли на берег, Кетеван охала, наступая на острую гальку. Отвернитесь, холодно бросила князю, я переоденусь. На пляже не было ни души. Князь смотрел на зелено-пенную безумную воду и молился: Гмерто, дай мне ее, дай мне эту девочку, я больше ни о чем Тебя не буду просить, Гмерто чемо.
Он перестал встречаться с Царем и Семьей. Царь понял: с Гоги что-то происходит. Он прислал ему в гостиницу записку: «Не тревожьтесь, мой друг, ваша жизнь меняется, я понял; Аликс и я – мы оба молимся за вас». Наверняка нас выследили и Царю донесли, подумал князь Георгий, не без этого, в Ливадии у стен глаза и уши. Ну и что? Жизнь его была прозрачна, проглядывалась насквозь, как спелая виноградина.
Настал этот день. Он явился к ней в номер. Кетеван сидела на кровати, куталась в белую козью шаль. Ее смоляные косы вились по плечам. Князь Георгий понял: сейчас или никогда. Он встал перед ней во фрунт, как на плацу, и еле выговорил: я люблю вас, Кето, будьте моею женой. Она повернула голову. Ее веки и губы вспухли от слез. Уйдите, сказала она шепотом, прошу вас, князь, уйдите. Ее руки дрожали, стягивая концы шали на груди. Князь не смел броситься к ней. Поцеловать ее. Он сдвинул каблуки, повернулся и вышел в дверь, молясь, чтобы не потерять рассудок.
Ночью он понял: да, вот так сходят с ума. Один, как тать в нощи, крадучись, по коридору, по красной ковровой дорожке, начищенной заботливыми горничными, он пошел к ней. Он загадал: он просто толкнет дверь! Если дверь закрыта – ну, тогда ладно. Он вернется к себе. А если открыта? Он подошел. Он положил руку на медную львиную голову ручки. Медь ожгла дрожащие пальцы. Он отдернул руку. Не надо пытать судьбу. Это против Бога. А если Бог хочет?! Если Он хочет, чтобы мы были вместе?! Он положил руку на медную ручку еще раз. И опять отдернул, как от ожога. И снова положил. И дверь подалась.
Князь вошел, себя не помня. Кетеван сидела на кровати в длинной, в пол, белой сорочке. Она показалась ему святой. Вокруг черных волос стояло слабое сиянье. Он подошел к ней, хотел упасть на колени, а руки сами просунулись ей подмышки, и он поднял ее, удивительно легкую, и ее губы оказались вровень с его дергающимся, жаждущим ртом. Он поцеловал ее, и она ответила ему. А потом оттолкнула. «Ты моя жена, – сказал он глухо, – ты же понимаешь, ты моя. А я твой. Нельзя противиться Богу. Я долго ждал тебя. Ты суждена мне». Он пригнул ее плечи к постели, они легли рядом, он гладил ее шею, ее грудь под сорочкой, тихо смеялся от радости и шептал – то ли ей, то ли себе: «Не спеши. Не спеши. Никогда не спеши». Она заплакала. Он осторожно стянул с нее сорочку через голову. Она сначала не противилась, сама обняла его; потом вдруг начала с ним яростно, как тигрица, бороться. Гмерто, она же девочка, Гмерто, она же боится! «Я буду с тобой осторожен и нежен, не бойся, дитя мое, жена моя», – шептал он ей в ракушку ушка, прикусывал виноградину мочки. И соски ее были – виноградины. И груди – грозди. И виноградина пупка ее плыла и таяла под пальцами. И виноградину желанья ее внизу живота ее нашел жадный горячий язык его; и гладил, и ласкал, и молился. И омылась казенная крахмальная простыня виноградной кровью; и та крупная, священная виноградина внутри ее разъятой перед его острым ножом жизни ответила ему на удар святого, намоленного лезвия. Сбор урожая начался.
И всю ночь собирали они святой виноград; и ласкали его, и давили его, и пили сок его, и взахлеб ели его, глотали, и не могли насытиться, и плакали от счастья, и молились ему, винограду солнечному, живому, святому! И кровавые печати земного вина становились меж ладоней и бедер вином небесным. И лишь под утро, обложенные кругом нагих дымящихся тел горами собранных за ночь гроздьев, сладко и крепко уснули они, не ведая, что наступит утро.
И было утро.
Солнце золотым «тибаани» заливало номер. На столе стояло огромное, как колесо Царской кареты, блюдо с разрезанным пополам арбузом. Пахло коньяком и шоколадным ликером. В мякоти арбуза, залитого ароматными напитками, торчала витая золоченая ложка. Кетеван потянулась в постели и открыла глаза. Она лежала среди сбитых и скомканных простыней, нагая, смуглая, розовая, счастливая, такая беспощадно красивая, что у князя Георгия сердце стало маленьким мальчиком за черной тюремной решеткой; мальчиком, которого сейчас поведут на расстрел.
Он, в расстегнутой белой рубахе, подошел к постели. Держал руки за спиной.
– Кето, – сказал тихо и нежно, – крюшон готов.
Кетеван шевельнула головой на подушке. Чуть подалась назад. Закрыла телом красные винные сладкие пятна на измятой простыне. Золотой крестик на тонкой золотой цепочке тускло мерцал над ключицей.
– Гоги, – шепнула она. – Гоги, это все мне не снится?
– Вставай, жена моя, жизнь моя, – сказал князь Георгий, и голос его перехватило счастливым рыданьем, – это не сон, это жизнь наша. Я люблю тебя. Я люблю тебя навсегда. Что бы ни было с нами.
Он вынул руки из-за спины и положил Кетеван на голую грудь свежую, влажную лилию, и Кетеван взяла ее в руки и поцеловала.
Поклонение Луне
Она светится слишком ярко. Она слепит меня. Я вижу ее и с закрытыми глазами.
Я вижу ее ночью и днем, утром и вечером.
У нее то живое лицо, то мертвый синий череп; она катится передо мною то горячим блином, то медной сковородкой, то алым апельсином, то золотой тыквой; у нее то детский затылок, то святой и светлый, как на иконе, нимб, то круглый беременный живот, то мокрая, вся в слезах, щека.
Круглое, горячее, ледяное. Катится и крутится. Мимо, мимо.
Недвижно стоит в живой черноте.
Звезды – рой белых пчел, россыпи алмазов на черном бархате? Дудки. Звезды – белые черви во мраке земли, черви, что питаются вчера еще живым, нынче уже погребенным. Белые черви-звезды съели моего отца. Моих деда и бабку. Всех моих предков. Они съели тысячи поколений, прошедших по земле живыми ногами до меня.
Мои ноги живые. Они идут. Они еще идут. Они идут по стылой осенней земле, и скоро зима, и Луна высоко, гордо поднимает в ночи белое царское лицо над жемчужным ожерельем. Луна, ты царица, а я твоя холопка. Я пройду и уйду, а ты будешь светить и катиться во тьме. Я кутаю холодное лицо в меховой воротник. Я закрываю нос старой варежкой. Я гляжу в пустые глаза Луны и бормочу: я скоро уйду, а ты будешь лить белое молоко свое на мой заброшенный в снежных полях крест, на могилу мою? Дети зароют меня, выпьют на поминках и забудут в делах своих; внуки не придут, не приедут – они будут жить в других странах, для них Россия станет книгой, сказкой, картой в атласе. Ты, моя родная, ты одна останешься у меня.
Все говорят – ты мертвое небесное тело. Нет! Ты живая.
И я еще у тебя пока – живая.
Мы обе с тобой живые.
Она стояла высоко над моей головой, когда я еще лежала в коляске. Мама, качая легкую летнюю коляску, показывала рукой вверх, на вечереющее зеленое небо, тихо и весело говорила: “А вот Луна, Леночка, это Луна!” Я, младенец, тянула за нею послушно: “Луня-а-а-а-а”. Я рано научилась говорить. Очень рано. Тогда, когда младенцы еще не говорят, а только сосут сиську матери.
Потом мама прикатывала меня в коляске в старый дом, осторожно вынимала меня из коляски, развязав холщовые ремешки-змейки, и сажала на диван. И я смотрела, как мама моет и режет крупные красные помидоры, и режет селедку, и чистит картошку. И разглядывала стены комнаты, и водила пальцем по грязным обоям, по мелким розочкам и круглым, с зазубринами, листьям.
Тысячелетие спустя, когда я выросла и помнить не помнила, в каком городе, при какой власти, в какое время мы жили – и как выжили, – я описала маме рисунок обоев, эти розочки с шипами, эти листики и лепесточки, и она всплеснула руками и воскликнула: “Боже мой! Боже мой! Неужели ты помнишь? Точно такой рисунок! Боже мой, но тебе же было тогда полгода отроду! Я тебя еще грудью кормила! Ты просто не можешь помнить! Так не бывает!”
…в жизни всегда бывает все не так.
В жизни всегда все: “Так не бывает”.
И жизнь проходит, и вот ее уже нет – как не бывало.
…и та Луна растаяла, как и не бывало ее.
Но я ее помню. Помню.
Красно-рыжая, с апельсиновой коркой, медленно катилась она по небу, по жаркому степному небу, в степном волжском городе, где мы жили тогда; а внизу копошились люди, колобками катились по сонному городу, выжженному дотла дневной жарой, все молились, чтобы скорей пришли вечер и прохлада, – и появлялась Луна, ее золотой глаз насмешливо возгорался над умирающим от жары степным становищем, и Луна смотрела на молодую черноволосую, смуглую, как цыганка, чернобровую женщину с ребенком, сидящую в городском сквере; женщина смотрела на маленькие наручные часики – она следила за временем, она гадала, не пора ли домой, – а дома было пусто, дома мужа не было, он был художник и вел свободный образ жизни, он шатался по ресторанам, по выставкам, по мастерским друзей, выпивал там с друзьями и закусывал, смеялся и обнимался с красивыми женщинами, – а жена его сидела с малюткой-дочкой в городском сквере, и она была спокойна, и спокойней небесной Луны был ее смуглый лик. И она в последний раз взглядывала на часы, а потом поднималась и медленно, царственно шла, катя перед собой коляску с девочкой – ее гордостью.
И девочка поднимала лысую головенку, закутанную в кружевной чепчик, прямо к небу, поднимала ручки с маленькими пальчиками-червячками, видела Луну и радовалась ей, как спелому апельсину, тянула ручки выше, еще выше, будто хотела ее достать.
И девочка пела, пела тоненьким голосом котенка, мяукала:
– Луна-Луненька-Луна-а-а-а!.. Луна-Луненька-Луна-а-а-а-а!..
И суровая мимохожая бабка, оценивающе глянув на чудесного младенца, играющего в коляске с живой Луной, бросила в спину матери:
– Поэтессой будет.
“Мама, мама!.. Мне сказали – она будет поэтессой!.. Наверное, цыганка сказала, гадалка… А может, бессарабка… У нее волосы такие… сизые, синие, и глаза как маслины… Пристала к нам на улице…”
“Ах ты батюшки!.. Поэтессой… Нехорошо… Поэтессы все – синие чулки… Это плохо, очень плохо… Будет мытарствовать, голодать… Не знать будет, как прокормиться, как двум курицам зерно дать поклевать… Ах, горе-то…”
“Да она рифмует!.. Она что-то такое поет про Луну… что-то такое чудесное!..”
“А ты не запомнила, доченька?..”
“Нет… Не запомнила… Но что-то очень красивое…”
Моя бабушка и моя мама тихо говорили обо мне. И я все понимала, что они говорят.
Их руки медленно летали над столом, наливали из кувшина молоко в белые чашки, раскладывали сугробы творога по тарелкам, отрезали от солнечного лимона тонкие прозрачные круги.
А на землю с небес падала ночь.
И глубокой ночью в дом пришел отец девочки. Высокий, с пухом золотых волос вокруг просвечивающей сияющей, как нимб, лысины, подвыпивший?.. нет, изрядно пьяный, качался, как маятник, на длинных ногах еле стоял, – в светлом костюме, в галстуке-бабочке, как денди, как франт столичный, ох и любил он пускать своей столичностью пыль в глаза в степном провинциальном городишке: в Академии художеств учился, у самого Грабаря в мастерской, у самого Иогансона!.. краски на палитру перед самим Николаем Ромадиным выдавливал!.. – и рукав чесучового костюма был испачкан в красной масляной краске – шматок краплака или, быть может, кадмия красного. А жена подумала, что это кровь, и, глядя на рукав, тихо заплакала. И отвернулась к окну, чтобы не показать пьяному мужу слез.
А он силком повернул ее к себе. И бухнулся перед ней на колени. И покрыл колени поцелуями, и руки ей целовал, и говорил: прости, прости, чернушечка моя, прости!.. последний раз я так налакался… но такая выставка была… и такие друзья собрались!.. из Тбилиси приехали, Вебхвадзе, любимый мой, и Володя Корбаков из Вологды, и Рустам Яушев из Москвы, и… да много там всех собралось!.. без счета!.. такой банкетище закатили!.. и там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеле-о-о-оный… И все целовал ее, целовал, а она все отворачивала лицо.
А девочка спала в маленькой кроватке с прутиками, чтобы на пол не вывалиться. Кроватку ей папа сделал. Сам смастерил.
Ее папа пил слезы со щек ее мамы.
Ее мама простила папе эту пьянку. В который раз. В последний раз.
Не в последний раз.
Сколько еще она будет прощать… сколько…
Девочка не слышала ничего, спокойно спала, потом вдруг проснулась.
Она проснулась оттого, что в окно глядела Луна.
Она глядела строго и пристально. И пугающе.
Страшно глядела она.
И была она не золотая, как апельсин, как всегда, а ярко-синяя, мертвенно-серебряная – оттого, что взошла высоко, выкатилась почти в зенит, – и с ее белого лица темно и страшно смотрели вниз, на мир людей, темные глаза, пустые безводные глазницы. Что видела она? О чем думала?
Девочка села в постели. Папа с мамой лежали, обнявшись, на кровати. Папа был в одежде, а мама была в ночной рубашке, и ее голое плечо светилось во тьме в мертвенных лучах Луны. Девочка смотрела на родителей: они были как две рыбы, лежащих друг на друге в корзинке. Ей показывали такую корзинку с серебряными рыбами – их принесли с Волги рыбаки, и мама купила всю корзинку, всю, давала дядькам-рыбакам маленькие кружочки и шуршащие бумажки из своей сумочки. Это называлось – “купить”.
А Луна, Луна-то была как круглая серебряная денежка из маминой сумочки, девочка расстегивала крючок на сумке, вытряхивала денежки и играла с ними, играла, как с рыбьей чешуей… Да они и были – рыбья чешуя, только твердая и холодная… Или, может, это была чешуя дракона. Про дракона ей рассказывал старый дядя Иван Семеныч – у них мама с папой снимали маленький домик, где они жили. “Жили” – означало: ели, пили и спали. И каждый день мама выходила с ней из домика на улицу. Много людей, еще много неподвижных драконов с шумящей листвой (они назывались “деревья”), много железных повозок, выпускающих вонючий дым (они назывались “машины”), много птиц в небесах – они рассыпались в горячем небе внезапно, как крошки хлеба, будто чья-то огромная теплая рука подбрасывала их…
И вдруг Луна спустилась ниже.
И вдруг – еще ниже.
И вдруг она подкатилась прямо к окну – и ее широкое лицо прижалось к стеклу окна, заглянуло в комнату, и девочке стало страшно и хорошо, как тогда, когда папа подбрасывал ее вверх, к потолку, играя с ней.
– Луна-Луненька-Луна, – сказала девочка одними губами, – ты пришла, чтобы взять меня к себе? С собой?
И Луна тоже разлепила губы. Они у нее были сморщенные, старые, все в оспинах и трещинах. С ее седых волос стекали звезды. Ее пустые глазницы обжигали.
– Нет. Рано. Еще рано. Ты еще только родилась на свет. Ты должна жить. Ты будешь долго жить. Долго. А потом я все равно возьму тебя к себе.
– Долго? Что такое – долго жить? Долго есть? Долго спать? Долго гулять? Долго… что такое?..
И Луна улыбнулась. Не улыбнулась: оскалилась. Так скалится череп. Девочка никогда не видела череп человека, но она все равно испугалась серебряных, голых зубов.
– Долго – это совсем мало, – беззвучно сказала Луна. – Долго – это один миг. Но за этот миг ты успеешь все перечувствовать. Все передумать. Всех перелюбить. Всех перененавидеть. Со всеми сразиться. Со всеми помириться. Все простить. Во все поверить. Во всем извериться. Все понять. Все забыть. От всего устать. Всех покинуть. И в конце – лишь к одному-единому протянуть руки. Сморщенные, старые, дрожащие руки.
– К чему – протянуть?..
– Ко мне. Ко мне одной.
И девочка протянула руки к плачущему лицу Луны. И тоненько заплакала:
– Не плачь! Не плачь, милая Луненька-Луна! Я с тобой… Я с тобой! Может быть, я – твоя дочка! А не мамина! Может, это ты меня моей маме сбросила с неба… Я летела долго, долго… и мама меня подхватила, схватила крепко! И к сердцу прижала! И я у нее родилась! Но ведь ты – моя настоящая мама… Да?! Правда?! И я все равно уйду к тебе… Я приду к тебе все равно, не плачь!
Луна, прислонив тяжелое, мощное лицо к окну, истекала черной кровью высохших тысячелетия назад слез. Она плакала вместе с девочкой.
Но стекло, прозрачное стекло стояло между ними преградой.
– Возьму тебя, – прошептала Луна. – Подожди.
– Хочу обнять тебя! – плакала девочка.
– Долго ждать… Сейчас нельзя…
– Хочу сейчас! – плакала девочка.
И Луна сказала:
– Закрой глаза. Все произойдет.
Девочка закрыла глаза. Она почувствовала, как в комнату входит женщина в белых холщовых одеждах, длинных, юбка пол метет, кофта вроде мешка, и берет ее из кроватки на руки. Девочка ощупывает ее лицо, голову. Холщовый балахон хорошо, свежо пахнет. Он пахнет небом и звездами. У женщины холодное, как лед, лицо, восковой нос, мраморный подбородок. А шея – внезапно – горячая, как костер. И девочка целует этот огонь, обжигает об него губы, щеки. И плачет еще сильнее, еще неудержимей. А женщина несет ее к окну. И окно внезапно распахивается, и они обе – женщина с девочкой на руках – вылетают в окно, в синюю жаркую, степную ночь, и летят над городом, потом над Волгой, блестящей под Луной, как огромная серебряно-розовая рыба, потом над степью, над лесами, над деревнями – слышно, как в сараях кричат петухи, видно, как горят окна в избах и рыбацкие костры близ рек и озер, – над всей широкой ночной землей несет женщина девочку, и у девочки закрыты глаза, но она все видит.
И она слышит, как женщина говорит – будто изнутри нее, будто это говорит она себе сама:
– Широкий мир хорош и прекрасен. Ты можешь прожить в нем тысячу жизней. Ты можешь веровать в нем во всех богов. Ты можешь жить в одном времени и в другом, в сотом и в тысячном, и везде ты будешь – ты. Ты сама. Ты одна. Широкий мир – это твой Простор. Люби Простор. Целуй его сердцем. Когда ты вырастешь, ты станешь женой Простора. Я показываю сейчас тебе мир – это значит, показываю Бога твоего. Ты станешь Его женой. Тебе не страшно? Летим дальше?!
– Да, да, дальше летим…
Маленькая ручка цепляется за горячую, сильную, со вздувшимися жилами, шею женщины. Обе женщины – большая и маленькая – летят в широком небе над спящей землей.
И Простор, ее будущий муж, ее сияющий многозвездный Бог, видит ее.
Маленькую свою невесту, несмышленого грудничка.
Видит – и радуется: хорошую жену ему Луна родила. Хорошую: с сердцем, полным любви.
Из этого сердца многие отопьют. А она – только Ему одному чашу эту поднесет.
И Он отопьет – и ей обратно протянет. Вернет ей ее любовь.
Что же она так горько плачет на руках у истинной Матери своей, что так рыдает? Что не успокоится никак, маленький слепой котенок?! Ну хватит уже, хватит, хватит…
И ночное небо покатилось на них черным, тяжелым занавесом.
И стали они, женщина и ребенок, стремительно падать к земле.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.