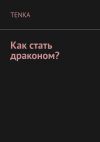Текст книги "Поклонение Луне (сборник)"

Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Где белая бабочка, капустница Лидочка? Где тот мальчик-консерваторец, что заливался краской до корней волос, когда я откидывала полу длинной юбки, как сбрасывала сухую пергаментную кожу, ненужный, гадкий мертвый хвост, чтобы видеть живые ноги, бедра свои и голени – ибо на органе ведь играют ногами, больно, тяжело упирают их в плашки, в утюги деревянных огромных клавиш, и быстро перебирают ногами, как пальцами рук, и это такой цирк бесплатный, что дух захватывает!
У органиста – от напряженья; у ассистента-мужика – от соблазна, если за органом – дама.
А какая я дама тогда была… девчонка, а в двадцать пять своих выглядела как пацанка… Очень моложавая была девка, и в сорок гляделась на двадцать пять…
А потом… потом…
…а потом – суп с котом, как говорила бабушка моя Наташа.
А платье для игры на органе мне мама сшила. Темно-синее, как море в грозу, и его главный секрет был в том, что юбка была разрезана надвое, как бабушка моя говаривала, от срама до пят, на два широких синих крыла, и, когда я садилась за инструмент, я быстро откидывала полы в сторону. Ноги все на виду, и надо было их не стесняться, если ассистировал тебе мужчина; они у тебя стройные, длинные, туго обтянутые плотными черными колготками. Ткань, что пошла на платье, была жесткая, как тонкий металлический лист, с рельефным рисунком. Когда я шла к органу по половицам сцены, мне казалось, платье громко шуршало, гремело и звенело. И я сама себе казалась чугунным ледяным языком внутри синего колокола.
И сыграла я в Иркутске два сольных органных концерта.
И аплодировали мне бешено, безумно! И хлопали не только в ладоши, но и сиденьями хлопали, будто стреляли, вставая, вскакивая в восторге! И бисы я свои все-все-все сыграла! Потому что меня – не отпускали! И Токкату и фугу ре-минор на голые головы – безжалостным водопадом обрушивала!
И выходил на сцену геолог мой Василий, рослый, неуклюжий, с длинными обезьяньими ручищами, смотревшийся здесь, на сцене, под сводами старого польского костела, как слон в посудной лавке: в руках он нес цветы, облапив их, как медведь – добычу, а потом тою же медвежьей хваткой и меня вместе с букетом облапил, обмял, стиснул – и я задохнулась и испугалась: раздавит!
А зал грохотал, гремел, и это был успех, это был мой первый в жизни успех артиста, и я стояла и качалась на сцене, пьяная, и пьяный Бах еще звенел, обваливался, ревел в ушах, лился пылающей лавой, и я нюхала цветы – роскошные, дикие среди зимы и Сибири цветы: тюльпаны, резеду, лилии, розы! – я букетов-то таких никогда не видала, и мне таких – никто не дарил…
“Бис! Би-и-и-и-ис!” – кричала публика. Вася держал меня в руках, а я держала цветы.
“Ну, сыграй”, – пробормотал он смущенно – и неловко, будто прогонял от себя, толкнул меня опять к органу.
И я села за орган и уже сама, без ассистентки Лиды, сыграла маленькую, строгую, простую Хоральную прелюдию фа-минор.
Я потом услышу ее в фильме. В черно-белом фильме. Режиссер уже умер. А фильм – живет. Услышу – и зареву белугой. “До – ля-бемоль – си-бемоль – ля-бемоль – соль – фа…”
…Москва. Кинотеатр “Повторка” на Никитских воротах. Темный маленький зал. Люди встают и уходят. Хлопают кресла. Зал пустеет. Никакого успеха. Никакой любви. Никаких оваций, восторга, признанья. На экране красавица женщина льет воду на руки своего взрослого сына. Она молодая, как Микеланджелова Пьета, а он уже взрослый. Времени нет. Времени нет, как же ты сама не догадалась!
…пустой зал, пустой. Нет, еще кто-то сидит в черных, невидимых креслах. Я. И еще два, три человека. Хоральная прелюдия Баха фа-минор. Холод в зале. Мороз на улице. Зима.
Режиссер, ты еще живой, а фильм твой провалился. Никому он не нужен, твой фильм.
…он, гений, жил в Италии, как многие гении, а умер в Париже; и все стали на разные лады повторять и смаковать его торжественную, сухо-степную, дворянскую фамилию; стали во всех кинотеатрах крутить его фильмы, и черно-белые и цветные; и ахать, и плакать от чуда и счастья; и стал он знаменит посмертно, а ведь у него есть дети, и, может, внуки? Как жаль, что он не умер в Венеции. В Венеции? Ах да, смерть в Венеции, старый сюжет. Еще у Томаса Манна… А, да-да, и поэт Бродский в Венеции умер… Ах, режиссер, великий режиссер, зачем ты выбрал для смерти бешеный шумный Париж? Почему, когда человек умирает, его немедленно и в открытую любят все, любят те, кто раньше гнал его и плевал в него, кто никогда не понимал его?
Чем смерть побеждает жизнь? Разве не любовью?
…розовые, огненные щеки. Пот на висках. Задыхалась. Слушала восторженно застывший зал. Молчанье, тишину слушала. Слышала, как стучат костяшки, клавиши беззвучного времени. На скамейке, рядом с великаном-органом, лежал богатый, парчовый царский букет. Он пах сладким вином, амброй, мускусом и восточными благовоньями. Люстры ярко горели под потолком и вдоль окон, затянутых белым шелком. Я играла фа-минорную Хоральную прелюдию Баха, маленькую, как жизнь. И внезапно поняла, что – да, жизнь маленькая, жизнь бедная и чистая, честная и обманная, – сказали, наврали в лицо ребенку-дурачку, что она – неразменный рубль, а он взял да выскользнул из детской ладошки, и – нырк! – в снег, в колючие искры, в синюю, белую бездну.
Бездна. Боль. Бах. Бог…
…это потом, далеко от Сибири, далеко и давно от пьяного громоздкого, как мадам Помпадур, букета на сколоченной из лиственничных досок скамейке, я прочитаю стихи: “С добрым утром, Бах! – говорит Бог. С добрым утром, Бог! – говорит Бах…”
Я стихов никаких не пишу. Я только играю музыку. Мощную; прекрасную; великую; чистую как Байкал музыку. Она встает надо мною снеговою горой. Она рассыпает надо мной острые морозные звезды. Она целует меня мужскими губами, и это я, глупая, думаю, что это мужчина меня целует, – а на самом деле это ты, моя музыка, целуешь меня, жжешь меня, клеймишь меня собой, ставишь на мне горячую, несмываемую, золотую печать свою.
После первого моего в Иркутске органного концерта я пригласила друзей к себе домой. Дом! Да не было у меня его там. Было зачуханное, затюканное, занюханное актерское общежитие на улице Байкальской, и крохотная, как дупло, комнатенка в нем. Прежде чем идти на концерт в костел, я испекла в духовке, на общежитской унылой грязной кухне, пироги: два огромных пирога – один с капустой и яйцами, другой – сладкий. Зажгла свечи на столе. Лида Янковская с мужем пришла. Девочки-хористки из оперного театра принесли дешевого красного вина. Букет торчал посреди стола, как живой Бах в разноцветном парике. Василий гудел, качаясь над столом с рюмкой в руке: “Ну, сначала ты нам устроила пир духа, а потом – праздник живота!” Я ничего ему на это не сказала.
А потом все ели мои пироги, пили вино и смеялись.
А потом все ушли, и Вася тоже ушел. Домой. К жене. И к детям.
А я легла в холодную и чистую постель и старалась не плакать. Не плакать. Только не плакать.
И хористка, что со мной в одной комнате спала, не помню уже ее имени – может быть, Ира, а может, и Вера, – услышала, как тихо я плачу, и еще тише сказала мне: “Ты знаешь, ты не плачь! У тебя в жизни все еще будет хорошо! Очень-очень-очень-очень хорошо! Выйдешь ты замуж! Выйдешь! Не хлюпай носом!”
И я уснула на мокрой соленой подушке.
И вот тогда увидела во сне зимнюю Венецию.
Зимнюю, синюю, лиловую, ледяную Венецию.
Такую, какой у меня в жизни больше не будет никогда.
Только здесь, под звездами, над смертью, в лютом пустом холоде, за серебряными и кудрявыми, как Бахов парик, призрачными облаками.
Мадам Канда
Митя Морозов прибыл в столицу из Забайкалья, из заштатной Слюдянки, где к тридцати годам мужик спивался, а к сорока его уже выносили из дома ногами вперед – или убивали в подворотне, пришивали, протыкали острым медвежатницким ножом, или у него само по себе останавливалось сердце от тяжкой перекачки по сосудам гиблой водки, поддельной, паленой. После Слюдянки Митя пожил немного в Иркутске, ему и там надоело. Он приехал в Москву пытать счастья.
Он отыскал в Москве сибирского дружка, и тот помог ему устроиться дворником; Митю поселили в одном из старых домов на слом в узком и коротком переулке и выдали рабочий инструмент – метлы и лопаты.
Митя немного рисовал; рисовать он начал еще в Сибири, в Москве он продолжил это красивое занятье, с первой дворницкой получки накупил красок, подрамников, холстов и принялся кустарно живописать, забавляясь сам и потешая друзей-дворников. “Эх, Митька, – кричали они, просовывая пьяные рожи в дверь его дворницкой утлой каморки, – эх и неплохо ты закручиваешь!.. а мой портретик могешь?!.. а мой?!.. чувства, чувства-то хоть отбавляй!.. Давай, жми, бей по холсту!.. Может, пробьешь!.. С дыркой быстрей купят!.. Аванга-а-а-ард!..”
Он вставал в шесть утра. Когда валил снег – и того раньше. Тяжело, зло одевался, пялил рабочую робу, теплые штаны, ватник, теплую шапку-ушанку. Он брал под мышку лом, лопату, метлу, выходил на участок, отведенный ему смазливой начальницей, скреб, долбил, подметал снег, грязь, сухие листья, куски колотого льда. Снег! Он падал на Москву с черных небес. Он садился на человечьи меховые шапки и воротники, слетал на брови и ресницы. Люди бежали, веселясь, пересмеиваясь, улыбаясь, вдоль по тротуарам мимо него, спешили на работу, на учебу, на свиданья, они любили снег, весело ловили его варежками. А для него снег был гибелью, наказанием. Иногда он не мог встать поутру. Лежал недвижно, следя на потолке отраженье тускло-желтого фонарного света. В круге света висела старая люстра, пять рожков. Он считал рожки: раз, два, три, четыре, пять. Досчитаю до пяти и встану. Ненавистный снег. Ненавистный участок. Ненавистная работа. Ненавистная Москва.
Вычистив участок, Митя возвращался в дворницкую коммуналку, набирал воды в ржавый чайник, ставил на синий огонь на чадной кухне, дожидался, пока у чайника из носика повалит белый густой пар, подхватывал за ржавую ручку и заваливался к себе. Только его и видели, и слышали.
Что он делал один, весь целый нищий день? Лежал на полу на старом матраце. Думал. Ничего не думал. Спал. Писал картины. Огромное пустое время неслось мимо него, свистело в ушах, как свистит ветер.
Так проходил день. Митя проваливался в сон и просыпался, сосал луковицу, если не было хлеба, и из его рта всегда пахло луком. Лук хоть как-то, странно и горько, утолял голод. Когда на безумную голову Москвы опускался темно-синий плат вечера, расшитый россыпями фонарных и оконных огней, Митя вставал с матраца, кряхтя, одевался, брал под мышку два-три уже высохших холстика и шел продавать их на Старый Арбат. Иной раз у него что-нибудь да прикупали. Гордость распирала его. Он, слушая урчанье в животе, под ребрами, немедленно шел в кафе, выстаивал мучительную очередь, где стояли, ждали своей очереди такие же люди, богатые и бедные, простые и непростые, чтобы бегло и невнятно поесть, – втеревшись наконец в зал, плюхался за столик, наборматывал официанту все самое дорогое, что значилось в меню, – и, когда официант, подобострастно сгорбившись, притаскивал на подносе странному нищему, бедно одетому пареньку роскошную изысканную еду, что заказывали только господа с туго набитыми кошельками – шницель по-пельзенски, ветчинный завиток, красную икру, – Митя равнодушно, гордясь собой, выбрасывал ему на поднос сразу весь свой арбатский заработок и съедал все, стоящее на столе, до крохи.
Он ценил крохи. Он ценил хлеб. Он подбирал хлебные крошки со стола, брал их с ладони губами, как лошадь овес. На грязной, прокопченной кухне он, криво усмехаясь, каланчой маячил над газовой плитой, склонялся над сковородкой, как над иконой. Он знал цену еде, ибо уже умел умирать с голоду. И это уменье его нисколько не радовало. Он возненавидел голод. Он презирал нищету. Он был нищий человек, и он слишком болезненно переживал это. Он хотел с этим покончить. Он не знал, как.
Он ждал от Москвы чудес, и Москва подарила ему чудо. Слишком страшное; совершенно неожиданное. Черный сюрприз. Однажды в коммуналку явились гости. Его сосед, дворник Флюр, хлопнул его по плечу: давай, Митька, двигай ко мне, ребята пришли, кореша, принесли водку «Абсолют»! Митя молча сидел за столом; он рассматривал, и его рассматривали. Три морды, вчера из тюрьмы. «Флюр, есть дельце одно. Поможешь?» Вот Митя поможет, осторожно отмахнулся Флюр.
Почему он пошел с той троицей на дело? Он не мог бы сказать. Из любопытства? Из страха? Они поднялись по старой лестнице, позвонили в старую дверь. Старческий голос спросил: кто-о-о-о? Слесаря, сказал хриплый голос, канализацию прочистить! Дверь приоткрылась, ногу тут же всунули в щель, дверь отжали, ворвались. Митя как ослеп; он не видел, как стариков душили подушками, слышал только хрипы. «Ты! Что стоишь! Снимай картинку! Бежим! Быстро!» Он шагнул к стене и сорвал с гвоздя старинную картину в позолоченном багете. На картине голые мужчина и женщина убегали из сада, от деревьев с изумрудной листвой, с горящими алыми и желтыми плодами. За их спинами стоял огненный Ангел, воздымал сверкающий золотой меч.
Они живой кучей выбежали на площадку к лифту, нажали кнопку. Лифт подошел, и кто-то слишком рано рванул на себя дверь. Трое ввалились в железный ящик, и он грузно, с грохотом, гремя старыми цепями, обвалился вниз. Раздался короткий крик, и наступило молчанье. Митя стоял с украденной картиной под мышкой. Картина прожигала ему куртку.
Он скатился вниз по лестнице и даже не заглянул в шахту лифта. Ни стонов. Ни криков. Они умерли, ну и пусть, пусть умерли, думал Митя, хлопая дверью подъезда, не мое это дело, не мое, не мое.
Он принес краденую картину домой и задвинул ее за шкаф. Что с ней делать, он не знал. Погибшая бандитская троица хотела сдать ее антиквару. Митя смутно думал: не надо торопиться, надо ждать.
Однажды Митя шел по улице и увидел красочную, весело-аляповатую афишу. «ВЕРНИСАЖ ИГОРЯ СНЕГУРА! МОСКВА, ПРИХОДИ, ИГОРЬ ЖДЕТ!» Митя посмеялся над афишей, пошел прочь, потом вернулся и прочитал адрес, и какое метро. «ЦэДэХа, Октябрьская», – шептал он, и губы его хлестал белой плеткой снег. Он пришел домой и надел на себя все лучшее, что у него было: чистый свитер и не слишком рваные джинсы.
Центральный Дом Художника гудел, шуршал, шелестел, ахал, охал, восторгался, плевался, свистел, смеялся, шушукался, сплетничал, молчаливо замирал. Выставка Игоря Снегура, известного авангардиста шестидесятых годов, взбудоражила всю Москву. Мэтр не старел. Он как законсервировался в блистательной седобородой красоте, в юношеской живости подтянутого сухопарого тельца – низкорослый, с бородкой клинышком, с глазами как два бешеных свечных огня, Игорь работал как проклятый, как вол, выпуская из-под своей кисти, из-под неистового мастихина работы одну за другой. Он заваливал холстами посольства. Его полотна маститые галеристы показывали в Вене и Гамбурге, в Стокгольме и Нью-Йорке. На аукционе в Париже один его с виду невзрачненький холстик продался за пятьдесят тысяч евро. Игорь был одним из самых богатых людей в Москве. Он не кичился богатством. Он, сменивший четыре дома и пять жен, оставался все тем же – озорным, бесшабашным, щедрым; устраивал попойки и вечеринки с царским размахом, давал всем, кто попросит, сколько угодно и всегда – и вернуть не просил.
– Вы видели… видели… вон, на том холсте, справа?.. какое безобразие!.. Если искусство будет идти в эту сторону, и такими семимильными шагами…
– Бросьте! Художник создает свое пространство. Оно выше требований толпы. Толпа клянчит, канючит: сделай так, чтобы нам понравилось!.. А художник рычит: а выкусите!.. это вам понравится потому, что я – так!.. – сделаю…
Митя шатался от холста к холсту. Пялился, таращил глаза. Он понимал – он безмозглый щенок, и он не умеет в живописи ни черта. Надо учиться. А учатся, да, вот у таких, как Игорь. Ну не у арбатских же малеванцев, выставляющих народу на зализанных холстиках то сосенки и березки, то святого Георгия со змием, то обнаженную бессчетную русскую Венеру с дынными грудями и тыквенным животом, было ему учиться. Да, он уже умнел, если это понимал.
Около одного полотна он замер, не шевелился. На холсте не было ничего, кроме линий и пятен. Абстракция чистой воды. Пятна, линии, плоскости складывались в мелодию. Холст звучал. Митя слышал тихую музыку. Ему казалось – он сходил с ума. Испугавшись самого себя, он отступил от холста – и наступил на ногу маленькому человечку, тоже внимательно, рядом с ним, рассматривавшему картину.
– Недурно?.. – спросил человечек, вытянув палец вперед.
– Ого-го, – сказал Митя восхищенно. – Более чем. Я бы хотел так… писать.
Человечек повернулся к Мите живо.
– Вы художник?
– Боюсь, что нет, – сказал Митя скромно. – Пытаюсь быть… стать им.
– Приходите ко мне, – сказал человечек и быстро выдернул из кармана клетчатой ковбойки визитку. – Это не домашний адрес! Это мастерская. У меня квартиры нет. Мне мастерской достаточно, я там живу! Игорь меня зовут! Давай на «ты». В общем, закончится эта бодяга, мой вернисаж, приходи, прямо сегодня вечером, посидим, выпьем, я потом к тебе в мастерскую приду, погляжу твои работы. Эй, эй! – замахал он руками, заметив когорту операторов с камерами в руках и журналистов с диктофонами, надвигающихся на него угрожающе. – Ну вас к лешему!.. потом, потом… Ненавижу прессу и рекламу, – словно прося прощенья, повернулся он к оторопевшему Мите, – зачем людям лишняя информация?.. кто ее жрет, кто глотает ее?.. зачем я миру нужен?.. ну, картины, это да, о них и балакайте, а я-то тут при чем?..
Это был великий Игорь Снегур собственной персоной.
Митя слонялся по вернисажу допоздна, до закрытия Дома Художника. Потом погрузился в метро и поехал к Снегуру. Мастерская Снегура располагалась на Старом Арбате, в одном из живописных арбатских двориков, особенно красивых сейчас, зимой, заснеженных, искристо-сахарных. Подходя к мастерской, он услышал из открытого окна вопли, веселые крики, раскатистый смех, визги. Карнавальная ночь. Отмечают открытие. Тут полна коробочка, и это все великие люди, высокие гости. Снегур художник знаменитый, у него в мастерской, уж верно, бывает избранное общество, не отбросы… вроде него! «Вперед, отброс», – сказал он сам себе. Нажал на звонок. Звон вплыл в разливы смеха и тостов. Дверь распахнулась, чуть не сшибив Митю с ног.
– А! О! – завопил молодой упитанный боровок, заросший бородой, как первобытный охотник, в римской шелковой тоге, с просвечивающей в складках ткани волосатой грудью, с кавказским рогом в кулаке. – Еще гость!.. Живо, ноги от снега отряхай, переобуваться не надо, переобуешься на том свете в белые тапочки!.. Ха-а-а-а! Гоша!.. Гоша!.. Я не знаю этого Рембрандта!.. Что это за Микеланджело такой, а?!.. все мы тут, братан, – гении…
Он толкал Митю в спину, пока тот смущенно топал по коридору, сплошь увешанному картинами, и наконец втолкнул его в огромную, с высоким сводчатым потолком, комнату, полную пьяного нарядного народу. Вокруг огромного стола, уставленного изысканнейшей едой – Митя такую только во сне и мог увидать – и дорогими марочными винами и коньяками, толпились веселые и красивые, возбужденные выпивкой люди, звенели бокалами, поднимали рюмки, кое-кто – даже кубки и наполненные вином козьи и бычьи рога. Смазливенькая девочка лет восемнадцати металась около стола, подавала блюда, утаскивала, как мышь в нору, грязные тарелки, несла из глубин мастерской новые яства – красную икру в хрустальных салатницах, жареную миногу, паштеты, тонко нарезанную буженину.
– Знакомься, старик, – толстый первобытный парень подтолкнул Митю к хорошенькой козочке, – Танечка Снегур!..
– Вы… дочка?.. – вежливо спросил Митя, наклоняясь с высоты своего роста к милой девочке. Она обиженно вздернула обнаженные плечики, торчащие из смелого декольте.
– Я жена! – подняла носик и скрылась в глубинах мастерской. Там, за спинами пирующих, должно быть, располагалась кухня, где готовилась еда, – оттуда слишком вкусно пахло. Волосатый парень все так же, как глупого бычка, подтолкнул Митю к столу, налил ему рюмку коньяку, всунул в руку бутерброд с ветчиной.
– За Игоря, старик! – крикнул парень и поднял рог с вином над головой, и вино вылилось из рога и капнуло Мите на голову. – За гения русского авангарда! Гоша легендарный чувак, старик!.. И он еще не кончился!.. Он еще себя покажет будь здоров!..
– Спасибо, Слава! – крикнул с другого конца стола Снегур, ухватив за хвост тост. – Ты друг мой!.. я всегда это знал…
Митя оглядывался. Рядом с ним стояла – Игорь соорудил закусочный стол а ля фуршет – маленькая раскосая молодая женщина, похожая на японку. Она сильно подвела черной краской и без того раскосые глаза. Бурятка? Монголка? Казашка? Точеная фигурка, как фарфоровая… Живая статуэтка была ростом ему по пуп. Он улыбнулся. Она подумала, что он улыбнулся ей, и, коснувшись его руки осторожным и вместе влекущим жестом, улыбнулась тоже. Она была слегка пьяна – ровно настолько, чтобы быть очаровательной и раскованной, дышащей неслышно и жадно, как раскрытый от влаги цветок.
– Вы художник?
Ее голосок был тонок и робок. Речь – вежлива и проста. Он ей понравился, он понял это.
– Да. Начинающий. Я ученик Игоря. Дмитрий.
Он сам не знал, почему он ей наврал. Чтобы быть выше в ее глазах? Дворник такой дамочке не был нужен.
– А я мадам Канда. Я подруга Игоря. Я давно когда-то любила Игоря. А сейчас мы дружим.
– Канда?.. – Его брови взлетели.
– Я замужем за японцем. Мой муж крупный японский магнат. Он великий бизнесмен. Игорь великий художник, а Окинори Канда великий бизнесмен. Я могла бы выйти за Игоря. А вышла вот за Канда. И не жалею. Ничуть не жалею. – Она звонко, сухо рассмеялась. – Мой муж сейчас в Японии, я, к сожалению, не могу вас познакомить. Я тут одна. Давайте выпьем, Дмитрий… на брудершафт?..
Она сама, твердой маленькой ручкой, налила красивый зеленый ликер в маленькие рюмочки – и протянула одну Мите. Митя взял рюмку, как живого котенка за шкирку – осторожно, напуганно. Захватил рукой с дрожащей рюмкой локоть мадам Канда. Они, смущенно смеясь, выпили ликер, неуклюже, как бычки, стукнувшись лбами. Надо было поцеловаться. Он приблизил к жене восточного бизнесмена позорно, как у школьника, вспыхнувшее лицо. Она раскрыла губы. Он наложил на них свои. Их языки соприкоснулись. Он целовал ее так долго, что они оба задохнулись.
Когда они оторвались друг от друга, его прошибла великая мысль. Он покажет украденную картину богатой японской цаце. Может быть, она сама или ее загадочный муж купят антикварную бирюльку. Ишь, Канда-сан, какие губки. Такие бы – целовать еще и еще. Да не про вашу честь, господин Морозов. Потешились, и будя.
Он неистово хотел продолженья. Поглядел на нее. О, да и она тоже хотела!
Вокруг них гомонила роскошная вечерушка. Веселье расцветало, взрывалось смехом и криками. Там и сям звучали тосты – и торжественные спичи, и густо-пьяная бормотня. Художники расхристались вовсю. Первобытный мальчик Слава посадил на спину подвыпившую Танечку Снегур, как конь, и катал ее по гостиной. Сам Игорь, исчезнув на минуту в дальние комнаты, вылез оттуда в пушкинском цилиндре, утыканном длинными павлиньими перьями. Перья, отсвечивая темно-синими узорами с яркими золотыми глазками, блестя изумрудом и перламутром, призрачно мотались у Игоря на голове. Снегур выдернул одно перо из шляпы и, склонившись, клоунски-галантно преподнес зардевшейся от поцелуя мадам Канда.
– О, какая честь… Благодарю!.. Только я не знаю, куда его прикрепить…
– Павлинье перо нельзя дарить, Гоша, – назидательно, тяжело задыхаясь, сказал Слава, подгребший на четвереньках к мадам Канда, Снегуру и Мите, с хохочущей Танечкой на закорках, – павлинье перо, Гоша, знаешь, приносит несчастье… Человек, которому его дарят, может умереть в одночасье… И поэтому принявший подарок должен его… – он встряхнулся, как настоящий конь, и Танечка ударила его пятками по бокам, – …передарить!
Мадам Канда испуганно оглянулась на Митю. Митя стоял нахмуренный, сердитый, будто бы разгневался на кого.
Какого черта он здесь?! Это все забавы богатых. Это все Иной Мир, и он – не для него. Пусть их девочки катаются на их горбах, пусть слизывают их икру с их бутербродов. Ему пора восвояси. В дворницкую. К лопатам и метлам. Вот что надо писать. Жестокую нищую жизнь. А не хорошеньких голеньких дамочек, сидящих в гигантских морских раковинах, с жемчугами на пухлых шейках, с веерами из павлиньих перьев в кошачьих лапочках. Он до тошноты насмотрелся на такой китч на Арбате. Народ покупает дешевый китч. Богатеи жрут китч дорогой. “А это круто?” – единственный вопрос, который они задают, рассматривая пошлейшую обнаженку в престижной галерее, и, когда им отвечают – десять тысяч баксов, они, не задумываясь, выкладывают требуемое на стол, хотя на Арбате той же поделке красная цена – тысяча рублей. И арбатский нищий малевала получит тыщу, пойдет купит колбасы и выпьет. А модный живописец…
Мадам Канда сцепила перо в маленьком кулаке.
– Нет уж, я его никому не подарю, – весело и твердо сказала она. – Это мое! Я вставлю его себе в летнюю шляпу! Я произведу в Токио фурор!
Слава, с Танечкой на хребте, ускакал, озорно заржав, – жеребец, да и только. Танечка вцеплялась ему в волосы. Может быть, они спят все втроем, вчетвером, впятером, отчего-то зло подумал Митя. Шведские семьи. Суматра. Таити. Никакого Гогена не надо.
Жена далекого японца подняла к нему лицо. От ее губ одуряюще пахло дорогим ликером.
– Дима, – сказала она, и нежная улыбка взошла на ее губы.
– Митя, – поправил он. – Лучше Митя. Я так привык.
– Митя… – Она задохнулась. – Приходи ко мне. О, нет, никогда не приходи. Уходи отсюда сейчас же. И никогда не появляйся здесь. Я так хочу. Так будет лучше.
Он видел хорошо и ясно, как она испугана, очарована, пьяна.
– Мадам Канда, – сказал он и просунул руки ей под мышки, и сжал ее ребра, и слегка приподнял ее от пола. – Я хотел вас просить. Я сам хотел вас просить. Все это серьезно. Я не проходимец. Я не подлец. Вы не думайте. Я художник. Я хочу вас написать. Обнаженной. Все упадут, умрут. Вы видели когда-нибудь “Венеру перед зеркалом”? Многие художники писали. Вернее, пытались написать. Одному Тициану удалось. Я видел только репродукцию. Сталин когда-то продал подлинник к чертям собачьим в Америку, из Эрмитажа. Весь Эрмитаж плакал горько. Я напишу вас Венерой перед зеркалом. Это будет черт возьми. Японская Венера. Почему вы так похожи на японку?!
Он притиснул ее к своему животу, такую маленькую, милую. Он боялся ее сломать. В его голове билась одна мысль: картина, картина. Он покажет ей картину. Он всучит ей картину. Не надо будет напрягаться, мыкаться по Москве, искать поганого антиквара. Антиквар обманет. Эта красивая сучечка – никогда. Она в него уже влипла. Вклеилась, как муха в мед.
Она вскинула руки. Обняла его за шею. Отдернула руки, как от пламени. Отшагнула назад. Ее раскосое личико сделалось надменным, неподвижным, как у японской куклы, ротик сжался в красную брусничину.
– Я русская. Просто я слишком долго жила в Японии. Я привыкла так подкрашиваться. Чтобы там меня за свою принимали.
– Значит, вы притворялись?.. Лицемерили?..
– Мне так нравилось.
Она дышала так часто, взволнованно и хрипло, что он слышал ее дыханье.
– Мадам Канда, – сказал он, не трогая ее больше, не прикасаясь к ней. Он только глядел на нее. Он срывал с нее глазами все ее роскошные блесткие тряпки. – Я вас прошу. Это очень, очень важно. Вы даже не представляете, как. Приходите вы ко мне. У меня дома лежит одна вещь. Одна… картина. Я хочу, чтобы вы ее посмотрели. Это единственная дорогая вещь у меня. Она досталась мне по наследству. Она жила у нас в семье. Ее сохранили мои предки. Она чудом не погибла во всяких наших войнах и революциях. – Он облизнул сухие, складно врущие губы. – Вы увидите ее. Я прошу вас, поглядите на нее. Она стоит того, чтобы на нее поглядели… именно ваши глаза.
– Мои глаза?.. Что могут сделать мои глаза?..
Он сдернул с нее взглядом последние шмотки. Она стояла сейчас перед ним голая. И она понимала это. Она стала пунцовой, даже шея у нее вспыхнула красным огнем.
– Не только ваши глаза, – сказал он прямо, без обиняков. Он не умел долго лебезить. – Ваши деньги, мадам. Я нуждаюсь. Если бы вы купили ее. Это очень дорогая вещь. Слишком дорогая. Музейная. Может быть, это сенсация.
Раскосая куколка, задрав головку, пристально глядела на него. Он глазами раздвинул ей ноги, глазами вошел в нее. Она задышала чаще, зашевелилась, задвигалась чуть заметно взад-вперед, как если бы уже была под ним. Он глазами чувствовал, гладил ее кожу, ощущал жар ее женского пульсирующего нутра. Она маленькая, у нее все там, внутри, маленькое, тесное, жаркое, обнимающее его крепко и больно. Ее рот полуоткрылся, и взглядом он поцеловал ее рот.
– Вы колдун!..
– Я человек. Вы придете? – Он назвал переулок. – Дом напротив кондитерской, первый подъезд, квартира пять… не пугайтесь, там все на лестнице загажено… бомжи ночуют… и запах такой, кошки, моча… не для ваших ноздрей…
Ничего, понюхаешь, дамочка, весело подумал Митя. Ты привыкла обниматься с Токио, а тут приходится ложиться под грязную Россию. Но это и твоя Россия, мадам Канда. Твоя собственная. Твое родовое поместье, все в мусоре, снегах и дождях, в пустых ящиках из-под водки, ночью валяющихся в магазинных дворах, как деревянные скелеты, и дворникам их надо старательно собирать и жечь, жечь. И костры встают – до черного холодного неба.
– Я приду, – сказала мадам Канда беззвучно. – Я верю тому, что ты сказал. Я приду. У меня самой дом в Токио как музей. Весь в старинной живописи. Я собираю живопись. Я и правда понимаю в картинах. Как ты догадался. Я полюбила живопись с тех пор, как мы с Игорем расстались. Я боюсь полюбить тебя. Я старше тебя на сто лет, мальчик.
– Не на сто, – сказал он, задыхаясь. Его колено коснулось ее живота, затянутого в блестящую праздничную материю. Едва он коснулся ее, она выгнулась и застонала. – На каких-нибудь двадцать пять, не больше.
Он надрался на той вечерушке у Снегура, и пьяный пошел провожать мадам Канда. От мастерской Игоря до “Арбатской” они шли, как раненый и медсестра с поля боя. Они добрели только до “Праги”. Мадам Канда отцепилась от Мити, легонько ударила его по руке. Ее черные, раскосо подкрашенные глазки сияли под норковой шапочкой, иней высеребрил мех, ее ресницы, воротник драгоценной шубы.
– Не ходи за мной!.. Тут у меня машина на стоянке!.. Я доеду, а ты дойдешь!.. Пешком дойдешь… в милицию тебя не заберут… а то я не выдержу, увезу тебя к себе… Я приду к тебе смотреть картину, слышишь?!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.