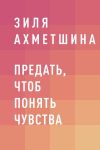Автор книги: Елена Сапогова
Жанр: Общая психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
«Когда я открыл для себя Руанду, такой страны не существовало. Во всяком случае, для всего остального мира. Одна из беднейших стран на земле, однако ни войн, ни голода, ни природных катаклизмов – ничего такого, что могло бы привлечь внимание средств массовой информации или подвигло бы продюсеров организовать там рок-концерт.
Я прибыл туда в феврале 1993 года. Всё было уже предопределено. Как умирающий, который не падает только благодаря нервному напряжению, Руанда жила энергией ненависти. Ненависти противостояния этнического меньшинства – тутси, стройных и утончённых, и хуту, приземистых и коренастых, составлявших 90 % населения страны.
Я начал свою гуманитарную миссию на стороне угнетённого народа тутси. По другую сторону баррикады находилось ополчение хуту, вооружённое ружьями, дубинками и мачете. По всей стране они избивали и убивали граждан, сжигали их жилища – всё совершенно безнаказанно. В составе организации «Земля надежды» мы ездили по стране, привозили провизию и медикаменты, но были вынуждены вступать в переговоры перед каждым блокпостом хуту и всё равно приходили слишком поздно. ‹…›
Конец 1993
Улицы Кигали содрогались от сообщений «Свободного телерадиовещания Тысячи Холмов», которое призывало резать «тараканов». Этот вой преследовал меня повсюду, даже в диспансере, где я спал. Он звучал на улицах, в зданиях, вместе с удушливой жарой проникая сквозь трещины в стенах.
1994
Предпосылки геноцида множатся. В страну ввезено 500 000 мачете ‹…› Ничто не может сдержать «Власть хуту» – ни правительство страны, ни ООН, приславшая миротворцев, которые ни во что не вмешиваются ‹…›
Апрель 1994
‹…› Взорвался самолёт президента хуту Жювеналя Хабияримана ‹…› это послужило сигналом к началу резни. «Вы слушаете «Радио Тысячи Холмов». Я уже выкурил с утра косячок. Приветствую парней на баррикадах… Ни один таракан не должен от вас ускользнуть!»
‹…› В Кигали повсюду слышится звук, который я никогда не смогу забыть: звук мачете, которыми с угрозой и упоением скребут по мостовой. Лезвиями чиркают по камням, прежде чем вонзить в тело, а затем окровавленные клинки с визгом выдёргивают из жертвы.
Всех иностранцев эвакуировали, но «Земля надежды» решила остаться. Мы расположились во французско-руандском центре культурного обмена, где размещались французские солдаты. Сюда же приходят и тутси, ища убежища и защиты, но солдаты уже покинули это место, и мне приходится объяснять несчастным, что здесь им никто не поможет и что Бог мёртв.
‹…› У меня перед глазами до сих пор стоят полностью вырезанные посёлки с ручьями крови. Я снова вижу беременных женщин со вспоротыми животами и человеческие зародыши, размазанные по стволам деревьев. Вижу изнасилованных молоденьких девочек – чтобы не подхватить СПИД, выбирали исключительно девственниц. Сначала с ними забавлялись ради удовольствия, затем с помощью палок им внутрь загоняли бутылки, которые потом разбивали во влагалище.
Не могу сказать, когда в первый раз у меня проявились болезненные симптомы. Скорее всего, это случилось в конце мая во время операции по очистке территории, когда сжигали гниющие трупы. А может быть, и позже, когда началась операция «Бирюза» ‹…› Одно несомненно: приступ случился в лагере беженцев, там, где гниение, разложение и болезни продолжили то, что было начато геноцидом.
Сначала отнялась левая рука. Было похоже на инфаркт. Но специалист из «Врачей без границ» вынес свой вердикт: в моём случае симптомы не были вызваны органическими причинами. Другими словами, всё происходило у меня в голове. Меня отправили на родину в Центральную больницу Святой Анны в Париже.
Я не сопротивлялся, я не мог говорить. Мне казалось, я принял кошмар, свыкся с кровью. Они как будто стали частью меня – так человек приспосабливается жить с пулей, застрявшей у него в мозгу. Но я ошибся, пересадка не удалась, и началось отторжение. Оно проявилось в параличе, что было первым признаком депрессии, которая вскоре поглотила меня целиком.
В больнице Святой Анны я пытался молиться. Но каждый раз это кончалось истерикой и рыданиями. Я плакал так, как не плакал никогда в жизни. Целыми днями. Вместе с душевными муками приходило физическое, почти животное успокоение.
Я заменил молитву таблетками, что, как мне казалось, довершило моё разрушение. Моё мировосприятие – это моя вера. Воздействовать на него – значит совершать сделку с совестью, то есть с Богом. Вот только осталась ли во мне вера? Я больше не чувствую в себе никакой убеждённости, никакой сдерживающей силы, никаких барьеров. Достаточно открыть передо мной окно, и я не задумываясь прыгну вниз.
Сентябрь 1994
Изменение курса лечения. Меньше таблеток, больше психоаналитических сеансов, Я, говоривший о своих грехах только священнику, поверявший все свои сомнения только Господу, должен был выворачивать душу наизнанку перед безразличным специалистом, в котором уж точно не было ничего высшего. Даже его молчание было зеркалом, в котором созерцала себя моя совесть. Уже сама идея казалась мне чудовищной, основанной на агностическом упрощённом понимании отчаяния человеческой души.
Ноябрь 1994
Независимо от моей воли и вопреки всему появились признаки улучшения. Паралич отступил, истерики с рыданиями возникали всё реже, стремление к самоубийству утихло. От двадцати таблеток в день я перешёл к пяти и снова мог совершать молитвы, сопровождаемые, правда, невнятным бормотанием и обильным слюноотделением. Антидепрессанты в прямом смысле слова заставляют меня пускать слюни…
Я вновь обрёл путь к Богу и стал удаляться при мысли простить Ему то, чему был свидетелем. Я вспомнил об одной фразе, сказанной моим наставником в Риме: «Истинный секрет веры не в том, чтобы простить, а в том, чтобы просить прощения у мира, такого, какой он есть, за то, что мы не смогли его изменить».
Январь 1995
Возвращение в реальный мир. ‹…› Я был готов заниматься чем угодно, лишь бы быть среди людей. Центр богословского образования в Дроме, зная о моём состоянии, положительно ответил на мой запрос. Я не скрывал своего заболевания.
Меня взяли на должность архивариуса. ‹…› С помощью ежедневной горсти таблеток и визитов к психоаналитику в Монтелимар два раза в неделю я кое-как держусь. Мне удаётся скрывать свою депрессию, которая даже здесь – особенно здесь – вызвала бы неловкость и стеснение.
Иногда припадки возобновляются. Я дёргаюсь, меня сотрясает нервная дрожь. Или наоборот, моё сознание застывает, как погасшая звезда, наступает апатия, и я пальцем не могу пошевелить. Это может продолжаться часами. Я сижу, раздавленный мыслями, которые поглощают меня целиком: смерть, потусторонний мир, неведомое… В такие минуты Бог опять умирает.
Но вот воспоминания никуда не деваются. Несмотря на все предосторожности, очередной приступ всегда застаёт меня врасплох. Как ни стараюсь я держаться подальше от радиоприёмников, телевизоров и любых источников подобных звуков, стоит мне только заслышать помехи в эфире, как я тут же испытываю непереносимую тошноту и спазмы в желудке. «И пусть ни один таракан от вас не скроется!» Я бегу в туалет и вместе с рвотой извергаю из себя всё – желчь, страх, трусость, пытаясь избавиться от них навсегда, но всё заканчивается истерикой и рыданиями.
Ещё один пример. Я попросил разрешения питаться отдельно от других, чтобы не слышать стук приборов, скрежет и лязг металла. Даже звук стула, передвигаемого по паркету, мысленно возвращал меня на улицу Кигали: убийцы свистят и улюлюкают, а во рвах растут горы тел, которые уже невозможно сосчитать… Прежде чем начать корчиться, я испускал крик и приходил в себя уже в медчасти под воздействием транквилизаторов. Лишнее доказательство того, что я не выздоровел и уже никогда полностью не поправлюсь. Пересадка не удалась, однако не было никакой возможности извлечь инородное тело.
Январь 1996
Я ушёл из центра богословия и обосновался в заброшенном монастыре в Верхних Пиринеях. Попытался разобраться в самом себе. Высшее знание. Божественный Глагол. Среди монахов я снова обретал силу, надежду и жизнеспособность. Но лишь до того дня, когда обыденность не стала мне в тягость. После всего, что мне довелось увидеть, невозможно было стоять на коленях и говорить с Небом, зная, что на земле царит ад. Здешние монахи в вопросах души были послушниками. Я пребывал в иных пределах. Я видел истинное лицо человека – с содранной кожей, обнажёнными мышцами и торчащими нервами. Его неумолимую, упрямую ненависть. Его ненасытную страсть к насилию. Человека надо излечить от этого зла, я же ничего не могу сделать, живя здесь в тиши, в отдалении от мира. ‹…›
Сентябрь 1996
Так я присоединился к «Вороньему острову» – поступил в Высшую школу инспекторов полиции в Канн-Эклюз ‹…› По всем предметам я получал высшие баллы ‹…› Никаких проблем. Даже со спортом ‹…› Жизнь аскета и вкус к лишениям сделали из меня грозного противника. К тому же в конце занятий, на стажировке, в боевых условиях в полной мере проявилось моё главное достоинство – чувство улицы. Интуитивное чувство места, инстинкт преследования, понимание психологии преступника… И особенно дар маскировки. ‹…›
Июнь 1998
В возрасте тридцати одного года я закончил Канн – Эклюз – лучшим в своём выпуске. Первое место давало мне преимущество в выборе вакансии. Через несколько дней меня вызвал к себе директор.
– Вы просите направить вас на работу в ОБПС – Отдел по борьбе с проституцией и сутенёрством? ‹…› Это очень своеобразный вид деятельности. Не уверен, что субъектам, с которыми там придётся сталкиваться, нужен полицейский с такими дарованиями, как у вас. ‹…›
– Вы не поняли. Это они мне нужны.
Сентябрь 1998
Я погрузился в пучину порока. ‹…› Среди коллег я слыву трудоголиком и карьеристом. ‹…› Но никто не знает истинной подоплёки моих поступков. Этот первый этап, связанный с похотью, – только один из многих. Первый круг ада. Я хочу узнать зло во всех его проявлениях, чтобы вернее его победить.
Однако окружающие, как всегда, неверно понимают моё душевное состояние. Я счастлив. ‹…›
Моя болезнь так и не прошла. Даже в центре Парижа, на Страсбургском бульваре или на площади Пигаль, я по-прежнему вздрагиваю от невнятного бормотания рации или от скрежета о тротуар сгружаемых ящиков. Но я придумал, как с этим сладить: рассматривая насилие в прошлом сквозь призму насилия в настоящем» (Гранже, 2008, с. 97–108).
Анализ первого текста показывает, что речь идёт о ситуации, в которой темпорально совмещены внезапность перипетии и до сих пор не обнаруживавший себя внутренний изъян самой личности. Неблагоприятная ситуация обнаруживает и вызывает к жизни этот порок личности, оборачиваясь при этом разрушительными последствиями, которые, впрочем, фатально не переворачивают самовосприятие, сохраняя личности шанс при определённых обстоятельствах восстановить эмоциональное благополучие.
Для таких ситуаций, как думается, подходит ещё один греческий термин – инфандис, обозначающий факт, настолько недостойный и компрометирующий, что его невозможно ни обсудить с кем-либо, ни обнародовать – его следует только удерживать в глубинах собственной биографической памяти, чтобы он не «взорвал» привычный и транслируемый другим образ «Я». В отличие от хамартии, инфандис может быть вытеснен в бессознательное и никогда отчётливо не прорываться в семантике личных историй. Хамартия же – всегда продукт закольцованной на одном предмете рефлексии, она всегда факт сознательного фокусирования, никогда не покидающий сознания.
Второй текст демонстрирует переходный характер сложившихся для героя обстоятельств с иной стороны: он иллюстрирует длительность, стереоскопичность и сложность преодоления психологических последствий, к которым привело попадание в перипетию. Растянутое во времени, это преодоление дало начало частным трансформациям моральной, личностной, эмоциональной сфер человека, хотя и не изменило его коренным образом. В данном случае перипетии не за что было «зацепиться» в характере человека и укорениться в нём. Кроме того, этот текст указывает на принципиальную преодолимость последствий попадания в перипетии.
По сравнению с перипетиями и инфандисами, хамартии являют собой более фундаментальное, хотя и значительно более редкое явление семантики личной жизни. Пытаясь разобраться в их психологической природе, обратимся к примерам. Первый – это фрагмент из романа У. Стайрона «Выбор Софи», героиня которого, Софи Завистовская, страшной ценой выжила в Освенциме, собственными руками отдав в газовую камеру дочь Еву, когда гестаповцы поставили её перед нечеловеческим выбором – оставить в живых только одного своего ребёнка из двух. Её жизнь, конечно, физически и даже социально продолжилась, но пережитый ужас, трагическая вина и ужасающая её саму память неизгладимо травмировали личность. Сама жизнь сделалась для неё невозможной: хамартия лишила её не просто счастья, но самой возможности принять то, что вообще может дать человеку жизнь – любовь, радость, творчество, веру в справедливость мироустройства, взаимность… И Софи добровольно уходит из жизни, поскольку иного способа искупления и восстановления исходного бытийного порядка она не видит.
«Название “Освенцим-Аушвиц”, шёпотом проползшее по купе, наполнило её таким страхом, что она едва не потеряла сознание ‹…› В первой половине дня пришла весть об участи, постигшей сотни и сотни евреев из Малькини, которые ехали в передних вагонах. “Всех евреев – в фургоны”, – пришла ‹…› Виктору, записка, которую он громко прочел в полумраке и которую Софи, настолько отупевшая от страха, что она даже забыла утешения ради прижать к себе Яна и Еву, тотчас мысленно перевела для себя: “Всех евреев отправили в газовые камеры” ‹…› Много позже, пытаясь восстановить в памяти эту минуту, Софи пришла к выводу, что, наверное, и сама потеряла сознание, ибо помнила уже только, как полуослепшая от яркого света стояла на платформе с Яном и Евой перед хауптштурмфюрером доктором Фрицем Йемандом фон Нимандом. ‹…› Доктор объявил:
– Одного ребенка можешь оставить при себе.
– Bitte? – Сказала Софи.
– Одного ребенка можешь оставить при себе, – повторил он. – Другого отдай. Которого оставляешь?
– Вы хотите сказать, я должна выбрать?
– Ты же не еврейка, а полька, поэтому тебе дается право выбрать.
Поток её мыслей захлебнулся и остановился. Она почувствовала, как у неё подгибаются колени.
– Я не могу выбрать! Не могу! – Она закричала. О, как отчётливо помнила она свой крик! Истязаемые ангелы никогда не кричали так в аду. – Ich kann nicht wählen! – Кричала она.
Доктор заметил, что привлекает к себе внимание.
– Заткнись! – Приказал он. – Выбирай, и быстро. Выбирай, чёрт бы тебя подрал, или я их обоих отправлю туда. Живо!
Она не могла этому поверить. Она просто не могла поверить, что стоит, не чувствуя боли, обдирая колени, на бетонной платформе, так крепко прижав к себе детей, что казалось, их плоть должна врасти в её плоть, несмотря на разделявшую их одежду. Она не верила – никак не могла поверить, словно лишилась рассудка. ‹…›
– Не заставляйте меня делать выбор, – услышала она собственный молящий шепот, – я не могу выбрать.
– Тогда обоих – туда, – сказал доктор своему помощнику. – Nach links.
– Мама! – Услышала она тоненький, пронзительный голосок Евы, когда, оттолкнув от себя ребёнка, она, пошатываясь, неуклюже поднялась с колен.
– Берите малышку! – Выкрикнула она. – Берите мою дочку!
И тогда помощник доктора – осторожным, мягким жестом, который Софи тщетно будет пытаться забыть, – потянул Еву за руку и повел прочь, к легиону обречённых, дожидавшихся своей судьбы. А перед мысленным взором Софи навсегда остался подёрнутый пеленой образ девочки, которая с мольбой все смотрела и смотрела назад. От крупных обильных солёных слез Софи почти ослепла, и ей не запомнилось выражение лица Евы, за что она до конца своей жизни будет благодарна судьбе. Ибо, если быть до конца честной, в глубине души она сознавала, что не могла бы этого вынести – её и так чуть не до безумия доводило воспоминание о маленькой фигурке, исчезавшей вдали.
– Ева так и ушла, прижимая к себе своего Мишу и свою флейту, – сказала мне Софи, заканчивая рассказ. – И многие годы потом я не могла слышать этих двух слов и не могла произносить их ни на одном языке ‹…›В общем, я понимаю, я не должна считать себя плохой из-за того, что я так сделала. Я теперь вижу: это было – ну, понимаешь – не в моей власти, и всё равно так страшно просыпаться утром и сразу вспоминать об этом и жить с этим. Если прибавить ещё это ко всем моим другим скверным поступкам, становится совсем невыносимо. Просто невыносимо. ‹…›Но я не знаю, – произнесла под конец Софи, глядя па меня сухими глазами ‹…› – Не знаю, что есть лучше: знать, что твой ребёнок умер, даже так очень страшно, или знать, что твой ребёнок жив, но ты никогда, никогда больше его не увидишь? Я не знаю, что лучше. А если бы я сделала выбор, чтобы Ян пошёл… пошёл налево вместо Евы. От этого что-нибудь изменилось бы? – Она помолчала, глядя сквозь ночь на темные берега Виргинии, куда мы держали путь, такой умопомрачительно далёкий во времени и пространстве от преследовавшего её проклятия, от её собственной, даже и в тот момент непостижимой для меня судьбы. – Ничто не изменило бы ничего, – сказала она. Софи не склонна была к театральным жестам, и впервые за все месяцы, что я знал её, она повела себя так странно: приложила руку к груди и пальцами словно приподняла некий покров, обнажая бесконечно истерзанное – насколько это можно представить себе – сердце. – Только вот это, по-моему, изменилось. Оно так настрадалось, что стало каменное» (Стайрон, 1993, с. 630–657).
Следующие два фрагмента, не менее сильные по эмоциональному накалу, – личные истории из нашей консультативной практики (имена респондентов и героев их рассказов изменены).
«То, что я хочу рассказать, случилось давно, в конце 60-х, во время летних школьных каникул. Мне было тогда лет девять-десять, наверное, большой уже мальчишка по тогдашним меркам. Мы жили на окраине областного центра – в таком ленивом, тихом, спокойном предместье, где никогда ничего особенного, и уж тем более криминального, не происходило. Мы, мальчишки, наслаждаясь вольницей, летом целыми днями ватагой носились в лесопосадках, играли на пустырях и свалках, бегали на речку и, несмотря на запреты родителей, совершали вылазки к железной дороге и на трассу.
Мы тогда крепко дружили с двумя ребятами, были просто неразлучной троицей – я, Игоряша и Мишаня. С Мишаней мы даже жили в одном доме, а все трое учились в одном классе. Тем летом вдруг сначала один пацан из соседней школы, а потом другой – из соседнего с нами дома – бесследно исчезли. Ушли из дома гулять, и всё – больше их никто не видел. Никакой надёжной информации, что случилось, у нас, конечно, не было, и слухи начали ходить устрашающие: поговаривали, что в районе действует маньяк, который подстерегает мальчишек по дороге на станцию или на полутёмных аллеях в парковой зоне, что действует банда, похищающая детей для медицинских опытов или чтобы продать их за границу… Кто-то рассказывал, что были свидетели тому, как мальчишек заталкивали в движущийся на медленном ходу автомобиль, который потом скрывался в неизвестном направлении. Это, конечно, пугало. Сразу, как те ребята пропали, милиция стала больше патрулировать район, даже наши отцы по вечерам пару раз ходили в самостийные засады, надеясь поймать преступника, а матери строго запрещали выходить нам одним из дома. Потом, вроде, эти случаи прекратились, и, хотя никого не поймали, всё стало забываться само по себе. Лето шло к концу, и сидеть дома нам было невмоготу. В детстве память короткая, к тому же, эти истории казались не имеющими к нам прямого отношения… Ну, как это обычно бывает – думаешь, что с тобой ничего подобного случиться не может, просто потому что ты – это ты.
И вот однажды, уже на исходе августа, за несколько дней до школы, мы с ребятами играли в прятки. Водить выдалось Игоряше. Поскольку он знал все мои потаённые местечки, я нашёл новое отличное место в кустах акации напротив старых гаражей. Я просидел там довольно долго, когда издалека на дороге увидел Игоряшу. Он был один и шёл, внимательно поглядывая по сторонам, разыскивая меня и надеясь, что я как-нибудь себя выдам. Он был ещё довольно далеко от меня, когда перед ним из проулка выехал автомобиль, серая «Волга». Он остановился рядом с Игоряшей, и мне показалось, что оттуда его о чём-то спросили. Он шагнул поближе… а потом всё произошло очень быстро: я увидел, что распахнулась задняя дверь, оттуда вышел какой-то дядька почему-то с какой-то цветной тряпкой в руке, и Игоряша очень быстро исчез в этой двери. Мне послышался короткий вскрик, дядька, уже без тряпки, снова сел в машину, и она тронулась. Я некоторое время в замешательстве просидел в кустах, наблюдая, как она удаляется, и за эти несколько секунд страшная правда вперемешку с ужасом наваливалась на меня…
Я ведь мог тогда выскочить из кустов, создать шум, мог закричать, позвать на помощь, я мог запомнить номера… Потом, когда всё стало ужасным и однозначным, я мог ещё всё рассказать милиционеру, опрашивающему ребят, которые последними видели Игоряшу… Но я ничего не сделал. Я и сейчас вижу себя, стоящего в одиночестве в мягкой дорожной пыли, и подпрыгивающий на ухабах зад серой «Волги»… Мне даже иногда кажется, что в заднем стекле я видел Игоряшу, его вскинутые руки… Я не сделал ничего. Потом, находясь в каком-то странном ступоре, я, стараясь, чтобы меня никто не видел, задворками побежал домой.
Часа через два ко мне пришёл Мишаня с ужасной новостью о пропаже Игоря, спрашивал, куда я подевался… Они думали, что мы были вместе, и оба пропали… Ну, собственно, так оно и было… Он – пропал, и меня, по крайней мере, такого, каким я был раньше, тоже не стало. Я, как-то даже особо не задумываясь и не готовясь к этому, наврал Мишке, что у меня схватило живот, и, вместо того, чтобы прятаться, я ушёл домой, никому ничего не успев сказать… Не знаю, поверил ли он мне тогда, мы никогда об этом не говорили – ни тогда, ни после, но после этого случая наша “не разлей-вода-дружба” как-то сама собой пошла на убыль, словно Игорь унёс её с собой, словно он и был скрепой наших отношений. Мы стали отдаляться друг от друга. А когда он с родителями переехал на новую квартиру в центр, я испытал странное облегчение, хотя это произошло, наверное, уже года через два после этой истории. Помню, что когда Мишка смотрел на меня, рассказывая об исчезновении Игоря, я испытывал какое-то странное чувство – как зомби, хуже, чем умер. Всё казалось больным, подозрительным, тягучим и неестественным, как в замедленной съёмке. Когда Мишаня всё-таки ушёл, я тихо просидел до прихода родителей, рисуя за столом машинки. Они уже обо всём знали и обсуждали это весь вечер, даже не обращая внимания на то, что я почти не участвую в разговоре… Может быть, мама считала, что я был в шоке от случившегося, ведь пропал мой близкий друг… Думаю, родители никогда не задумывались о моей причастности к тому случаю, они твёрдо верили, что меня там и близко не было и даже подумать не могли, что я мог что-то знать, что могло бы помочь в розысках, и не рассказать об этом. Мама тогда надавала мне кучу запретов. Они, понимаете, считали меня хорошим, порядочным, настоящим… тем, кто не мог бы поступить так трусливо и подло. А я, оказывается, был совсем другим. Я – мог и поступил. И чем дальше в прошлое уходила эта история, тем меньше я мог поделиться ею – и с ними, и с кем бы то ни было ещё. Ни Игоря, ни преступников тогда не нашли. Не помню, но, кажется, и мальчишки больше у нас не пропадали. Я остался безнаказанным, но лучше бы тогда небеса обрушились на меня. Или я бы потерял дар речи.
Я ничего не сказал ни милиционеру, ни родителям, я, как мне кажется, тогда ничего вразумительного и самому себе не сказал… Плохо помню, что было дальше, память сохранила только образ горько и тихо плачущей игоряшиной матери, уронившей голову на руки и вытирающей слёзы скомканным головным платком… У неё такая толстая красивая коса вокруг головы была обёрнута, и она растрепалась… Всю жизнь помню это. Наверное, мы с матерью ходили к ним. Там я особенно остро чувствовал себя предателем, негодяем и… изгоем. Вот кем я и стал – самоизгоем.
До сегодняшнего дня я никому и никогда об этом случае не рассказывал. Но с того момента мне как будто подменили жизнь… Или душу вынули, и я стал пустым изнутри. До того происшествия я был смешливым, дурашливым, непосредственным, дружелюбным парнишкой, верящий в “один за всех, и все – за одного”… А потом для меня как будто началось даже не чёрно-белое, а серое, выцветшее, сумеречное кино, а не продолжилась живая нормальная жизнь… Жил, конечно, но как бы уже не своей жизнью. Не скажу, что ощущал груз на сердце или какие-то особые муки совести… Нет, тут другое… А вот что, я даже сказать затруднюсь… Не жил, а “отбывал жизнь”… как в футляре был или в мешке, где вынужден дышать своими же испарениями. Никого к себе близко подпустить не мог. Не столько боялся, что и его предам, сколько боялся себя открыть. Да, в общем, может, и себя боялся, не верил в свою хорошесть. Не мог до конца доверять самому себе, как будто из меня в любой момент могло вылезти чёрное облако и всё затмить – и разум, и сердце. Мой детский поступок всё время у меня стоял за спиной, как бы я не старался забыть о нём, оправдать себя, объяснить самому себе, ну почему, почему, почему я сделал то, что сделал… Почему? Ну, ведь не сволочь же я последняя? Но это не дало мне быть счастливым, быть самим собой… И я себе всё время открывался с какой-то мерзкой стороны, воспринимая себя всё гаже и гаже. Я даже наказывал себя всей дальнейшей жизнью, не давал себе быть счастливым. Внешне-то это, конечно, никак не проявлялось, вы же видите, до кого я дослужился… По молодости даже хотел покончить с собой, дважды пытался, но не смог. Кишка тонка. Как тогда оказалась тонка, так и потом… Вот она, тяжесть греха. Думаю, никто до конца не понимает, что такое грех, а вот я понимаю…» (Андрей Б., 64 года).
«В моей семье было четверо детей, я – старшая и единственная девочка. Все братья были намного младше меня. Когда родился последний, Хенрикас, мне уже шёл семнадцатый год. Родители часто оставляли меня присматривать за братьями, и всю свою юность я мучилась из-за того, что в то время, когда все мои подружки-ровесницы отправлялись погулять, на танцы или в кино, я могла выбирать лишь между тем, чтобы вовсе никуда не ходить или брать с собой Римантаса, Альгиса или Хенрикаса – и так всю жизнь, по очереди. Братья были моими вечными спутниками, они всегда ошивались где-то поблизости, что бы я не делала, с кем бы я не была. Конечно, я их любила и привыкла ко всему этому, даже мои друзья и ухажёры принимали тот факт, что я почти никогда не бываю одна, но всему же есть предел, и я страстно мечтала уехать из семьи, освободиться от этих обязанностей, выйти замуж и жить самостоятельной жизнью. И, наверное, из-за этого-то однажды и случилось то, что навсегда сломало мне жизнь. После случая, о котором я хочу рассказать, я навсегда осталась одна – сама по себе, как мне тогда и хотелось.
В тот год Хенрикасу исполнилось почти пять лет. Было воскресенье, и мы с моим парнем Яном собрались погулять на взморье. Дело молодое, и наши намерения совершенно не включали в себя Хенрика, за которым мама попросила приглядеть, пока она со старшими съездит в город в универмаг. Кажется, им тогда надо было купить школьную форму к новому учебному году, и с тремя шустрыми мальчишками ей, конечно, было не сладить, хотя Хенрику-то больше хотелось поехать с ними, чем гулять с нами по взморью. Его не взяли, он разобиделся на всех, гулять и вовсе не хотел, но деваться ему было некуда – пришлось пойти с нами.
Стоял август, было тепло, мы были влюблены и, конечно, нам хотелось где-то уединиться. Мы старались отойти от брата подальше, целовались, стараясь, чтобы он не очень-то видел, что мы делаем. Он медленно, увязая в песке, сердито плёлся позади нас, время от времени поднывая, чтобы мы остановились, присели или поиграли с ним… Но ни мне, ни тем более Яну, было не до него. И когда мы дошли до “нашего места”, я дала брату немного мелочи, чтобы он поднялся вверх и купил себе мороженое в маленьком магазине, дав нам возможность хоть сколько-то времени побыть наедине… Раньше мне так не приходилось поступать, но тогда я решила, что ничего особенного не произойдёт, если он поднимется и спустится к нам назад, дав нам возможность хоть сколько-то побыть вдвоём. Я ему строго-настрого наказала купить мороженое и сразу же вернуться к нам, никуда не сворачивая, и ждать нас в условленном месте. Уже тогда мне почему-то показалось, что Хенрик всё понял – ну, что он нам не нужен… и не так уж ему хотелось этого мороженого… Но я была одержима стремлением выпроводить его, и он, грустно покивав мне своей светлой головёнкой и зажав мелочь в кулаке, полез наверх… Не успел он скрыться из виду, как мы упали в объятия друг к другу… В тот момент я, видимо, забыла всё… даже то, о чём нельзя было забывать ни за что на свете…
Когда мы очнулись, я почти сразу поняла, что прошло намного больше времени, чем мне казалось, и уж тем более чем нужно, чтобы купить мороженое и вернуться. Но Хенрика в условленном месте не оказалось. Не было его и нигде поблизости. Он, в принципе, был послушный мальчик, и поначалу я даже не подумала, что с ним могло что-то случиться. Более того, я тогда даже посчитала, что он решил отомстить нам и где-то специально спрятался, чтобы попугать нас. Мы с Яном стали звать его, но безрезультатно. Меня охватила паника, мы стали бегать и искать его, спрашивая редких прохожих, не видели ли они маленького мальчика в коричневой вельветовой курточке… Никогда не забуду ту смесь отчаяния, ненависти к себе, вины, страха, которую я тогда переживала… Не найдя брата, мы вернулись домой, где я, рыдая, рассказала почти всю правду вернувшемуся с работы отцу… Он сразу потащил меня в милицию, чтобы я рассказала, где именно всё произошло… Весь вечер и всю ночь все в округе искали Хенрика на побережье… Это была самая кошмарная ночь в моей жизни, давшая начало череде таких же тяжелых дней и ночей.
Хенрика не нашли, и больше никто никогда его не видел – ни живым, ни мёртвым. Осталась какая-то незаживающая в нас неопределённость: он погиб? утонул? потерялся? был несчастный случай, последствия которого кто-то скрыл? сел на автобус и куда-то уехал? Это – незаживающая рана. Мне до сих пор иногда снятся сны, что он где-то остался жив и внезапно появляется уже взрослым…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.