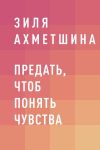Автор книги: Елена Сапогова
Жанр: Общая психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Глава 8. «Вещность» и «обитаемость» автобиографического пространства
Я хотел бы рассказать о себе, отталкиваясь от предметов, с которыми мне пришлось иметь дело в течение пяти минут или пятнадцати лет. Я уверен: они честнее расскажут обо мне, чем я сам. Предметы не врут. Они указывают на гордыню, слабость, мечты, мании и секреты. ‹…› Я не могу поверить, что предметы управляют нашей жизнью с такой таинственной силой. Мы их покупаем, продаём, ломаем, забываем, привязываемся к ним, используем, воруем, выбрасываем, сжигаем, дарим, закрываем на ключ, подвергаем всяческим испытаниям. Но, в конечном счете, они нами управляют. Я вспоминаю афоризм Рене Шара: «Слова знают о нас то, чего мы не знаем о них». Мне кажется, то же самое можно сказать о вещах.
Эжен, «Долина юности»
Если возникнет необходимость, всю жизнь можно уложить в одном-единственном чемодане. Спросите у себя, что вам действительно нужно, и ответ удивит вас самих. Вы запросто отбросите неоконченные проекты, неоплаченные счета и ежедневники, чтобы хватило места для фланелевой пижамы, которую вам нравится надевать дождливыми вечерами, камушка в виде сердца, подаренного вашим ребёнком, и потрёпанной книжонки, которую вы перечитываете в апреле каждого года, потому как влюбились, когда читали её впервые. Оказывается, важно не то, что вы накопили за долгие годы, а то немногое, что вы можете унести с собой.
Д. Пиколт, «Похищение»
Рассказывание о себе – занятие сколь увлекательное, столь и трудное. То, что во внутреннем плане рассказывающего субъекта предстаёт наглядно, понятно и убедительно, при линейном повествовании требует многочисленных объяснений, комментариев, уточнений и апелляций к возможному сходному опыту слушающего. И этот опыт не только событийный, но и «вещный», а вещи – столь же нестойкая и уходящая натура, как и случаи, происшествия и приключения самой жизни. Вот, например, как об этом пишет А. Тарковский в стихотворении «Вещи» (1957):
Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?
Где «Остров мертвых» в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?
Где Надсона чахоточный трёхдольник,
Визитки на красавцах-адвокатах,
Пахучие калоши «Треугольник»
И страусова нега плеч покатых?
Где кудри символистов полупьяных?
Где рослых футуристов затрапезы?
Где лозунги на липах и каштанах,
Бандитов сумасшедшие обрезы?
Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось…
Во внутреннем пространстве каждого человека «бытуют» предметы и персонажи, возведённые им на уровень символов. Развёртываясь в ментальной и повествовательной деятельности субъекта, «распаковывая» своё психологическое содержание, эти объекты способны наглядно представлять созерцанию фрагменты запечатлённой жизни, раскрывать содержание многообразных субъективных миров человека (как говорил Э. Паунд, «из ничего ткётся великое полотно»). В этом плане вещи и персонажи автобиографических пространств обладают своеобразным психологическим измерением: мемориальным, экзистенциальным, лирическим, эстетическим, эмоциональным и т. д. Все эти измерения способны реконструировать для человека и событие, и ситуацию, и обстоятельства, и отношение к ним в конкретный момент его жизни, но, главное – его устойчивые, почти вневременные, интегральные переживания по их поводу: человек может забыть, что именно он кому-то сказал или не сказал, что и как он когда-то сделал или не сделал, но он никогда не забудет того, что он чувствовал. Такие вещи служат целям объективации персонального содержания и фрагментов значимого для самого субъекта, то есть экзистенциального, опыта.
Вещи, входящие в общую биографическую канву, фиксируют нечто значимое для личности, соотнесенное с её подлинностью. Но «вещность» и «обитаемость» внутреннего пространства автобиографирования, как и сам факт его существования – одна из тех проблем, которые в психологии практически не изучаются, и не только потому, что они полагаются в большей степени культурологическим, антропологическим или социологическим, чем психологическим, предметом. Скорее, это связано с тем, что в психологии, занятой по преимуществу человеком, вещи традиционно воспринимаются как немые атрибуты повседневности, её привычных социальных практик, являющиеся в большей степени фоном, свидетелями, чем участниками происходящих событий.
Вообще, для современного «глобального» и консумеристски ориентированного мира вещность повседневности часто выступает чем-то временным, преходящим и почти неуместным для серьёзного изучения. Но ведь ещё П. А. Сорокин, описывая общую модель социального действия, говорил, что в ней есть: 1) мыслящие, действующие и реагирующие люди – акторы, 2) значения, ценности и нормы, благодаря которым люди действуют, осознавая их и обмениваясь ими, и 3) открытые действия и материальные артефакты, которые объективируют и социализируют эти нематериальные значения, ценности и нормы (Сорокин, 1992, с. 193). За вещью, таким образом, всегда стоит специфически человеческая ценность, значение, она объективирует их в себе. Может быть, поэтому сейчас наблюдается некий ренессанс в анализе повседневности (Вахштайн, 2007), оказываются востребованными и широко цитируемыми работы А. Шюца, П. Бурдье, Г. Гарфинкеля, Э. Гидденса, И. Гофмана, Б. Латура, Д. Ло и др., сместивших фокус гуманитарного внимания к повседневным взаимодействиям, обыденным, рутинным социальным практикам и феноменам «жизненного мира» человека. Эти работы сделали возможным возвращение феноменологии материального мира в социологические, антропологические и психологические исследования (Социология вещей, 2006).
Трудно отрицать, что некоторые вещи и персонажи удостаиваются в автобиографических дискурсах особого запоминания и символизации, поскольку могут быть превращены индивидуальным сознанием в нечто «надвещное» – нечто сверх того, чем они являются по своей физической, вещной природе. Взаимодействуя, человек и вещи образуют особый символический порядок, которому уникальным образом подчиняются автобиографирование, самопонимание, самопрезентация. Это вовсе не означает, что человек специально создаёт особый класс «объективаторов» – «материализаторов» – «символизаторов» своей жизни с целью долговременной фиксации собственных умонастроений, жизненных ориентаций и пр. Как раз наоборот – некоторые вещи как бы «запоминают себя сами», впитывая признаки значимых, достопамятных для субъекта происшествий и состояний.
Приведём в качестве примера историю из работы С. Б. Адоньевой:
«Анна Дмитриевна Лукичева ‹…› рассказала мне ‹…› историю о своём брате. ‹…› Её младший брат до войны поступил в военное училище и в начале войны сразу же попал на фронт. В последнем письме, которое семья от него получила, он писал, что их часть стоит у какой-то реки. Семья после получения письма собрала ему посылку с гостинцами. После отправки посылки долгое время не было никаких вестей, а потом посылка вернулась обратно, так как адресат пропал без вести. Когда они её распечатали, она оказалась наполненной речной галькой. Анна Дмитриевна пояснила, что галька появилась в посылке потому, что содержимое кто-то вынул, а вес посылки должен был быть сохранён. Но это пояснение не умалило случившегося с ними переживания. Речка, о которой было написано в письме, и речная галька в посылке превратили историю в нечто большее, чем просто история. Речка, повторенная дважды, превратилась в Лету и вернула нас к переживанию того, что мы, как и все люди, и сейчас, как в каждый момент своей жизни, находимся на берегу Реки» (Адоньева, 2011, с. 71).
Как легко убедиться, речная галька в этом трагическом эпизоде совершенно определённо превратилась в «знак беды», однозначно несущий значения смерти, утраты, печали, тоски, несправедливости и т. п. определённым людям (и только им). Уникальным, неповторимым образом она приняла в себя содержание психологических переживаний членов семьи и никогда впоследствии не утратила его – галька «сама себя запомнила», задав пониманию себя новое символическое направление и перейдя из именной позиции в предикативную. Утратив эту позицию, речная галька перестала указывать на реку, камни и пр., а стала адресовать определённую группу людей к иной понятийной области – смерти, утраты, горестных переживаний.
Приведём ещё один показательный пример из нашего консультативного архива:
«Мой отец умер больше двадцати лет назад, но день его смерти я очень хорошо помню. Это было солнечное сентябрьское воскресенье, один из тех прекрасных дней бабьего лета, когда на душе царит тихая радость, успокоение, когда “душа смягчается”, радуясь последнему теплу, свету, голубизне неба, дуновению ветра. Мы собирали на даче сливу, работали дружно, споро, с удовольствием, много смеялись, рассказывали друг другу всякие истории, пели песни под радио, строили планы на вечер… Вечером этого дня его не стало. Вся собранная слива осталась на даче в ведёрках, корзинках, мисках и, когда я вернулась через несколько недель на дачу одна, вид этой сливы вызвал во мне необыкновенные по силе трагические переживания. Я несколько часов неостановимо прорыдала, сидя на полу посреди этих корзинок и мисок, из каждой сливы ко мне возвращался тот сентябрьский день, на меня смотрели, жалили меня, упрекали меня горестные воспоминания. Раньше я очень любила сливу, но после смерти отца долгое время не могла не только есть её, даже на сливовые деревья смотреть не могла, не приближалась к ним. И сейчас цветущая слива для меня – “эмблема печали”, расставания, слёз, душевной боли. Конечно, я, как все, ем сливу, но с особым чувством – как погребальную еду, как наказание, как напоминание… Слива ввергает меня в печаль, в ощущение глубокой трагичности жизни» (Елена С., 54 года).
Думается, что подобные случаи может припомнить любой человек, и при этом он будет мысленно опираться на эти своеобразные «вещезнаки», отсылающие его в иные пространства-времена-смыслы-настроения, создающие «вневременное настоящее» личности и являющиеся своеобразными центрами, «гермами» повествования. Вещи из этих историй в своё время для каждого изменили ситуацию, не меняясь сами, но и не сохраняя своего предыдущего смыслового содержания (Гегель говорил, что знак есть пирамида, в которой прячется чья-то чуждая ей душа). Они приняли на себя несвойственное им значение, чтобы из вещного мира перейти в психологическое пространство субъекта.
В таких вещах, если можно так выразиться, есть нечто ритуальное для личности, не дающее ему утратить связи с самим собой-прошлым, сохраняющее «инвестиционные вклады» в построение самого себя. Вероятно, в случаях распада личности, утраты памяти, трагических диффузий идентичности и пр. вещи автобиографического пространства становятся своеобразными «якорями» аутентичности.
Вероятно, вслед за М. Фуко (1977) можно даже сказать, что эти вещи являются конструктивными элементами своеобразных автодискурсивных формаций, определяющими то, что, вместе с чем и может ли вообще быть рассказано о себе. В каком-то смысле вещь фиксирует не только характеристики рассказчика и его жизни, но и «творит» себе адресата автобиографического нарратива – того, кому и зачем это может быть рассказано, ведь то, что произведёт впечатление на одного человека и раскроет ему именно то, что хочет рассказчик, может совершенно не произвести впечатления на другого или раскрыть рассказчика с нежелательной (смешной, глупой, сентиментальной, пафосной, наставительной) стороны. Рассказывание о памятных вещах создаёт слушателю и своеобразный «горизонт ожидания».
Рассматриваемые вещи в каком-то смысле лиминальны, они находятся как бы на границе между объективным и субъективным пространствами, выполняя посредническую функцию между прошлыми фрагментами опыта и значимыми переживаниями, идеями, ценностями субъекта. Если воспользоваться метафорой Ж. Делеза, все они расположены в «складке» – своеобразном провале между вещным, материальным миром и психологическим пространством субъекта: вещь переходит туда, меняя своё значение для субъекта, но может и вернуться в объектный мир, утратив «навязанные» им смыслы, перестав быть для человека «собеседниками».
Каков психологический механизм впитывания вещью характеристик экзистенциального опыта субъекта? Можно предположить, что речь идёт о временнóм совмещении и семантическом наложении двух рядов происшествий. Один ряд образован значимым происшествием внутренней жизни субъекта (переживанием обиды, растерянности, злости, счастья, отчаяния и т. п. – чего-то, что занимало человека, было в фокусе его самосозерцания), второй – неким внешним происшествием, внезапно прервавшим, «выбросившем» его из рефлексии внутреннего (услышанным, увиденным, узнанным, сделанным и т. п. в пределах переживаемого контекста) и создавшим в нём своеобразный семантический «просвет».
Фактически, это внешнее происшествие «выдёргивает» на время человека из привычного герменевтического круга, возвращаясь в который позже человек застаёт в нём немного иной порядок – новое соотношение переживаемой ситуации как целого и составляющих её частей. Оба происшествия должны пересечься по общей «горячей точке» (инсайт, «удар» по эмоциям, переживание парадокса случившегося и т. п.), быть в чём-то подобны друг другу, быть встроенными друг в друга по какому-то общему признаку (иначе они бы никогда не совместились), то есть, как говорит У. Джеймс, они должны быть «вовлечены» (involvement) друг в друга. Их временная сцепка по этому общему признаку образует новое смысловое единство – смысловую синтагму, создающую «Я-этого-события». Предлагаемый механизм, фактически, есть частный вариант ассоциативного механизма, и мы разделяем идею, что для функционирования человеческого сознания нет ничего более мощного, чем аналогия.
Чтобы пояснить нашу мысль, воспользуемся контекстом одного из примеров, приведённого в работах В. С. Вахштайна (Вахштайн, 2007; Социология вещей, 2006).
Представим себе ситуацию, когда мы, отягощенные мыслями о сложностях в отношениях с близким человеком, на фоне усталости, накопленного раздражения трудового дня, сутолоки, многолюдности и пр., случайно слышим в переходе метро музыку, допустим, «Песню Сольвейг» Э. Грига. Её грустная мелодия в целом отражает наше состояние, совпадает с ним – поэтому-то, собственно, мы её и слышим, она не пролетает мимо незначимым фоном. Именно это как бы навязываемое извне смысловое движение на какое-то время выбрасывает нас из собственных переживаний, переключая ментальный фокус. В. С. Вахштайн пишет: «Вы как бы приподнимаетесь над ситуацией; то, что до этой секунды казалось навязчиво присутствующим (шум поездов, сутолока, гомон разговоров идущих рядом людей) отступает на второй план, становится менее заметным. Сам ход времени изменяется и подчиняется теперь течению мелодии – вы убыстряете или замедляете шаг. Все, что волновало вас до этой секунды, кажется малозначимым, теперь совсем другие предметы обращают на себя ваше внимание. Когда мелодия заканчивается или вы удаляетесь от нее настолько, что больше не можете распознать, повседневность “возвращается”, обрушиваясь звуками, прикосновениями, запахами, которые до того были вытесненными переживанием Иного» (Вахштайн, 2007, с. 7–8).
Музыка Э. Грига, как не зависящее от нас, бытующее вне нас произведение, живёт и развивается в одном с нами пространстве-времени по своим собственным законам, и, переключившись на неё от своих мыслей, мы «подключаемся» к этому её развитию, скользящему от грусти к светлой печали. И эта новая размерность, когда мы возвращаемся в собственную реальность, становится её новым измерением: джеймсовский «поток сознания» временно разрывается, и место разрыва, превращения непрерывности в дискретность, «сращивается» новой смысловой синтагмой. Новое смысловое единство «мелодия + мои переживания» остаётся зафиксированным сознанием как событие. Так «Песня Сольвейг», придав некий новый импульс нашей рефлексии, нашему пониманию ситуации, превращается в персональный артефакт, в нечто достопамятное нашего внутреннего мира.
На это обращал внимание и А. Шюц (2003), когда говорил о том, что движение от одной плоскости реальности к другой предполагает изменение напряжения сознания. Выход в одну реальность и возвращение к другой сопровождается семантическим скачком, изменением «порядка существования», и вот такие скачки, создавшие новую, «пограничную», «импульсную» синтагму (а по А. Шюцу, страты реальности обычно непроницаемы друг для друга, представляя собой «конечные области смысла»), как думается, и становятся «метками самоосознания» и «вещами» (в широком смысле слова) автобиографических дискурсов. Здесь, видимо, стоит добавить, что если собственная текущая реальность не вполне устраивает субъекта, и он совершает многократные движения в другие «страты» (мечты, сны, игры, фантазии, теоретизирование, вымыслы и пр. – достаточно вспомнить попытку А. Бергсона расположить все «планы бытия» на континууме от действования до сновидения), то настоящая реальность субъективно приравнивается к другим, приводя даже к их неразличению. Об этом, в частности, говорит И. Гофман (2003), и мы наблюдали это в консультативной практике в сотворении респондентами «легенд о себе».
Именно в этих насыщенных личными контекстами вещах человек «опознаёт» и фиксирует собственную индивидуальность, самобытность проживаемой жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, каков внутренний ценз в автобиографических дискурсах таких вещей, как сделанный своими руками предмет, вещь, купленная на первую зарплату, часы, подаренные в день свадьбы и в тот же день остановившиеся, рисунок, сделанный кем-то для нас на тетрадном листочке в клетку, маленькая паспортная фотография, оставшаяся на память о большой любви, прядь волос первенца, перевязанная ленточкой, «перевернувшая» самоощущение книга, постоянно приходящая на память музыка, слова материнского напутствия, чьи-то жесты, внешность, одежда или стилистика поведения, которым мы начали подражать, выстраивая самого себя. Они всегда с нами, составляя наше «вневременное настоящее» – не старея, не девальвируя, не уничтожаясь.
Это и многое другое наделяется значимыми для личности смысловыми сверххарактеристиками, несущими в себе мощный нарративный потенциал. Как пишет А. Шюц, «смысл – это не качество, присущее определённому опыту, возникающему в нашем потоке сознания, а результат интерпретации прошлого опыта, увиденного из настоящего сейчас при рефлексивной установке» (Шюц, 2003, с. 4). Метафорически можно сказать, что у подобных артефактов появляется своя особая жизнь и собственная история, петляющая где-то среди других историй человека.
Опыт консультативной работы показывает, что в автобиографических дискурсах довольно часто встречаются «рассказы о вещах» и «рассказы о других», представляющие собой завершенные вставки в их текст и призванные эксплицировать содержание собственного «Я» через объективированную форму – через предметы и образы:
«Этот гребень со мной со студенческих лет – уже больше двадцати лет, и почти как талисман, хотя сейчас почти никто гребни не носит – старомодно это. Мои родители на двадцатилетие брака ездили отдыхать на Мальту и оттуда привезли мне его в подарок – он костяной, с перламутровыми вставками, очень удобный. Я была от него в восторге, хвасталась им, любила показывать, но как-то сразу суеверно опасалась давать его в чужие руки, даже на время. Это последнее, что я снимаю, когда ложусь спать, и, просыпаясь, каждый день вижу его на прикроватной тумбочке. Он создаёт мне ощущение надёжности, стабильности моей жизни и является источником хорошего настроения на весь день. Несколько раз мне казалось, что я его потеряла, но я переворачивала всё вверх дном и всегда находила, куда бы он не девался. Сейчас, конечно, он уже потерял былой вид, потрескался, некоторые вставочки уже были подклеены, некоторые и вовсе выпали, орнамент стёрся, сама кость как-то вытерлась и побелела, но я его всё равно ношу каждый день. Он как-то родственен моим волосам, как-то по-особому держит их, как никакие другие заколки. Он уже почти как часть меня, и уж точно он помнит всю мою жизнь. Я с ним познакомилась с мужем – до сих пор помню его глаза, когда я вытащила гребень из причёски, и вся моя грива рассыпалась перед ним. Я закалывала им волосы во все ответственные моменты – верю, что он всегда приносил мне удачу. Даже когда я лежала в больнице, я попросила, чтобы мне его привезли из дома, чтобы он просто так лежал возле меня – с ним я быстрее выздоравливаю. Когда случается что-то плохое, я им расчёсываю волосы и успокаиваюсь, он будто подсказывает мне верные решения. Я иногда думаю, что если с ним что-то случится, то это и будет конец моей жизни…» (Людмила О., 60 лет).
«Это было в семидесятых годах, когда мне было лет десять-двенадцать. Папа повёз меня в Москву, в кукольный театр Образцова. Это само по себе было событием для моей детской жизни – электричка, метро, московские улицы, театр, куклы, – но рассказать я хочу о другом. Мы сели в метро, и напротив меня с краю сидела молодая женщина, как я теперь думаю, лет тридцати. Я нашла её настолько красивой, что не могла просто глаз отвести. Понимала, что нехорошо глазеть, но женщина меня не замечала. У неё была пышная причёска из вьющихся каштановых волос, сколотая шпильками в пучок. Завитки спадали по обеим сторонам лица и слегка развевались от сквозняка. У неё было милое грустное лицо, нежный розовый рот, большие глаза, опушенные ресницами, минимум косметики. Она сидела, засунув руки в карманы бежевого короткого пальтеца и скрестив стройные ноги в потёртых сапожках. Через локоть свешивалась маленькая сумочка, тоже не новая, но какая-то очень миленькая. Вот не знаю, поверите ли вы, но во мне, девчонке, вдруг возникло странное чувство, что это я – только лет через двадцать. Так странно было думать об этом – встретить свою взрослую ипостась. Я помню это чувство и сейчас очень отчётливо. Та женщина в метро отчётливо возникает перед глазами всегда, когда я думаю об этом. И я почему-то тогда подумала, что у неё что-то случилось, может быть, она рассталась с любимым человеком или у неё кто-то умер. Такая светлая печаль, равнодушное безразличие к тому, какое впечатление она производит на окружающих, были в её облике. Мыслями она мне казалась где-то очень далеко, и эта её собственная милота ею самой вовсе не осознаётся, настолько она “съедена” печалью. Ещё я тогда подумала, что она лимитчица, не знаю, почему. Столько лет прошло, а я это отчётливо помню. Может быть, потом я неосознанно всегда подгоняла себя под это своё воспоминание. Та женщина воплотила в себе какой-то мой внутренний образец женственности, я чувствовала внутреннее сходство с ней – не внешнее, а глубинное, сходство судеб, если хотите. И, главное – она была как природа: такая естественная, несделанная красота была во всём её облике. Наверное, это был какой-то стиль, образец женщин семидесятых, но он мне подошёл, я его “узнала” для себя, и он стал и моим… если вы понимаете…» (Елена С., 54 года).
Для подобного «вещеведения» М. Н. Эпштейн предложил даже выделить особую сферу гуманитарного знания – «реалогию» (от лат.
«res» – вещь), предметом которой должен стать анализ «единичных вещей и их экзистенциальных смыслов в соотношении с деятельностью и самосознанием человека» (Эпштейн М. Н., 2003, с. 346). Так, он пишет: «При обосновании реалогии как области знания можно воспользоваться идеями Г. Риккерта о построении “индивидуализирующих” наук, которые, в отличие от “генерализирующих”, имеют дело со смыслом единичных явлений» (там же, с. 349). И нарративная, и экзистенциальная психология, безусловно, являются индивидуализирующими дисциплинами, во многом даже – науками частных, конкретных, единичных случаев, поэтому выделение подобного раздела в психологии нам также представляется возможным.
Двигаясь в наших рассуждениях далее, отметим, что эти новые смысловые синтагмы, объективированные и символизированные вещами и персонажами, выступают в качестве индивидуальных прецедентов, своеобразных «скреп» (Л. И. Гришаева) и «накопителей» опыта, необходимого человеку, чтобы переживать себя уникальным самой собой («символы самости»). Не являясь ничем особо примечательным для других, они в индивидуальном сознании человека обретают максимальный смысловой и эмоциональный вес за счёт приписанной им связанности с его собственными внутренними интенциями, желаниями, представлениями, образцами, опытом, индивидуальным временем. Так, Р. Барт, рассматривая преподносимый женщине букет роз как символ влюблённости, говорил, что это – розы, «отягощенные чувством». Воспользовавшись этой метафорой, мы можем сказать о пространстве автобиографирования, что в нём присутствуют предметы, «отягощенные личностными смыслами», а потому превращающиеся в персональные знаки и символы. «Смысл выступает в роли лекала, по которому из повседневности «вырезаются» события» (Вахштайн, 2007, с. 11).
Собственное «бытие вещи» в мире субъекта рассмотрено в работах В. Н. Топорова, который, в частности, говорит: «“веществовать” значит и оповещать о вещи, то есть преодолевать её вещность, превращаясь в знак вещи и, следовательно, становясь элементом уже совсем иного пространства – не материально-вещественного, но идеально-духовного» (Топоров, 1993, с. 70). Д. Хармс когда-то написал, что вещи имеют для человека четыре «рабочих» и одно «сущее» значения: «Первые четыре суть: 1) начертательное значение (геометрическое), 2) целевое значение (утилитарное), 3) значение эмоционального воздействия на человека, 4) значение эстетического воздействия на человека» (Жаккар, 1995, с. 103). Пятое же «определяется самим фактом существования предмета», и это значение есть «свободная воля предмета» (там же, с. 104).
В повседневном обиходе каждый человек «отягощен» тем или иным количеством вещей, которые удовлетворяют его разнообразные потребности. «Быть нужной» – принципиальное свойство любой вещи, которая, в отличие от природных объектов, создана людьми и для людей. Но «нужность», «используемость» вещи может быть разной, и в каждой вещи ровно «столько бытия, сколько в ней актуальности» для субъекта (Гайденко, 1985, с. 27). В контекстах нашего рассуждения речь идёт о такой нужности и актуальности, когда через вещь, как говорит М. Хайдеггер, «издалека даёт о себе знать приближение самого бытия» (цит. по: Топоров, 1993, с. 73).
Прецедентная вещь в индивидуальном сознании фиксирует фрагмент значимого для него бытия, она «несёт в себе мир, его образ» (там же, с. 86), создавая индивидуальную когнитивно-эмоциональную базу, смыслоёмкие прецедентемы (Голубева, 2009), которые сами по себе могут актуализировать прецеденты других типов. Это обусловлено тем, что вещи и персонажи, фигурирующие в автобиографических дискурсах, содержат в себе прецедентное значение – непосредственно связанное с пережитым происшествием, хотя и уже отдалённое от него по времени, переживание и представление о событии, предмете речи, образе, его качестве или свойстве. Таким образом, их важнейшая нужность состоит в их отсылочности – адресации к значимым для субъекта событиям, переживаниям, мыслям, стереотипам, эталонам, идеалам и пр. Собственно, такие элементы можно считать и единицами ментальности, «ключами», открывающими путь как к сознанию, так и к бессознательному конкретного субъекта, поскольку они сообщают друг другу своеобразную «энергетику родства» (там же) – ощущение связанности, сходства, смежности разных фрагментов опыта.
Так же, как в искусстве есть жанры вещной живописи, пейзажи, натюрморты, призванные «останавливать» для зрителя определённые мгновения бытия, создавая «вневременное настоящее», так и в автобиографических текстах вещи выступают символами определённых событий, случаев, происшествий. Каждая из них в процессе автобиографирования может быть своеобразным «триггером», запускающим работу памяти, фантазии и наррации. Через вещь, хранящуюся в сознании, человек достигает, как минимум, двух своеобразных и уравновешивающих друг друга целей. Во-первых, вещь создаёт ему «“космическое” чувство, переживание своей причастности космическому, бесконечному, вселенским ритмам, усвоение новой “далевой” перспективы» (там же, с. 88). Человеку, видимо, принципиально свойственно возводить некоторые вещи в ранг символа и тем самым придавать определённому жизненному содержанию сверхсмысл.
Во-вторых, через вещь переживается «любовь к родному пепелищу» – к себе, к своей жизни, привычкам, образу жизни, «к быту, его мелочам, к той атмосфере, которая создается вещами и которая превращает их из простой совокупности, беспорядочного набора в близкий душе и осмысленный порядок, жизненную опору»: «“сентиментальное” отношение к вещам, как и связанное с этим чувство приобщения к ним человека и его жизни, также, как правило, основано не на “пользах”, получаемых от них, и функциях вещей, но на их признаках, внутренне пережитых человеком и соотнесенных им с теми или иными моментами своей жизни» (там же, сс. 88, 91). В этом случае вещь, утрачивая часть своих вещно – физических признаков, насыщается признаками «человеческими», и человек тем самым закрепляет, объективирует некоторые фрагменты и переживания своей жизни, а вещи начинают приобретать «вневещное» измерение, вступая на территорию психологического, ноосферного, культурного, символического (Байбурин, 1989; Лосев, 1990).
И тогда вещь начинает свидетельствовать не столько о себе самой, сколько о человеке, рассказывающем о ней. Вещь выступает как принадлежность субъекта, «своя» для него. Интересно, что «в древнерусском языке слово “вещь” исконно значило “дело”, “поступок”, “свершение”, “слово” – и это значение, привходящее и в современную интуицию вещи: в каждом предмете дремлет что-то “вещее”, след или возможность какого-то человеческого свершения…» (Эпштейн М. Н., 2003, с. 346).
«Вселенная вещей» у каждого своя, и все они существуют по собственным законам, имеют свою «морфологию» и «синтаксис». Анализ биографических историй показывает, что, во-первых, довольно часто в ней есть своеобразная иерархия: для кого-то максимально притягательными смыслами обладают зеркала, для кого-то – часы, ключи, очки, шахматы, книги, игрушки, фотографии и т. д. – такие предметы, как правило, «скитаются» из рассказа в рассказ. На высших ступенях этой иерархии помещаются предметы-носители символических для личности, «больших» смыслов. Через эти предметы можно выйти на обобщенное, интегральное понимание человеком самого себя, на его жизненный модус, стратегию, экзистенциальный проект. Во-вторых, такие вещи воспринимаются как имеющие свой особый «внутренний мир», «душу», хотя и противопоставленные обладателю, но всё же связанные с ним. В-третьих, вещь наделяется особой духовной энергией, аккумулирующей в себе опыт личности. Через символизацию вещи человек приобщается к чему-то большему или, по крайней мере, иному, чем он сам, подчиняет себя не только собственному внутреннему порядку, но и каким-то вне его находящимся законам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.