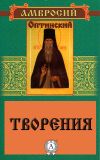Текст книги "Старец Амвросий. Праведник нашего времени"

Автор книги: Евгений Поселянин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
ГЛАВА XI
КОНЧИНА
С утра 21 сентября старец был слаб, а к концу дня не мог уже слышать пения и чувствовал озноб.
На следующий день он стал жаловаться на боль в ушах, но еще занимался монастырскими делами, кое-кого принимал и шутил. Затем 23-го опять принимал, хотя уже плохо слышал и еле мог говорить. Ходившей за ним инокине он сказал: «Это последнее испытание – потерял слух и голос». Но и тут его слово о «последнем испытании» не было понято.
Положение с каждым днем ухудшалось, но при малейшем облегчении старец принимал сестер.
2 октября уехал доктор, выписанный из Москвы. Он сказал, что болезнь идет правильно, и все были спокойны. 4 октября старец исповедовал иеромонаха Иосифа, который после исповеди вернулся в скит. В наступившую ночь о. Иосиф долго не мог заснуть и в это время слышит, будто кто-то явственно произнес: «Старец умрет».
О. Амвросию стало совсем плохо 6-го числа. Весь день 7-го он провел в ужасных душевных страданиях. Казалось, ничто не подаст малейшего утешения. Можно думать, что через это страдание старец, жаждавший как бы крестной муки, прошел для того, чтоб испытать всю полноту ее, в подражание Христу, воскликнувшему на Голгофе: «Боже мой, Боже мой, вскую Мя еси оставил».
Страдание это было так тяжко, что, при всем своем почти сверхъестественном терпении, старец сказал шамординской настоятельнице: «Чувствую то, чего во всю жизнь мою не испытывал».
Видя положение старца, духовник его, белый священник о. Феодор, сказал ему:
– Батюшка, вот вы умираете. На кого обитель свою оставляете?
– Обитель оставляю Царице Небесной, а я свой крест позолотил, – был ответ старца.
Некоторым лицам были посланы депеши о болезни о. Амвросия; среди них – великому князю Константину Константиновичу, приезжавшему за несколько лет до того к старцу и сохранившему о нем на всю жизнь светлое и глубокое воспоминание. Великий князь за время болезни прислал в Оптину две телеграммы.
8-го числа положение настолько ухудшилось, что послали в скит за скитоначальником о. Анатолием и о. Иосифом. Больной от слабости не мог говорить и объяснялся знаками. К вечеру приехал московский доктор, нашедший положение безнадежным.
К ночи он был особорован. Чин соборования совершали о. Анатолий, о. Иосиф и о. Феодор. Во время совершения таинства старец лежал без сознания. Тяжелое дыхание его было слышно за две комнаты. По окончании соборования сестры стали по три входить к старцу, чтоб взглянуть в последний раз на свою покидающую их радость. С трудом сдерживая рыдания, они молча кланялись старцу в ноги, целовали руку его, лежащую без движения и горевшую огнем, смотрели ему в лицо, чтоб запечатлеть в памяти дорогие, светлые, невыразимо утешительные черты его, и тотчас выходили в противоположную дверь.
Ночью он пришел в сознание и пожатием руки давал понять окружающим, что узнает их. В два часа ночи он был приобщен о. Иосифом. Сперва, при поднесении ему Даров, он несколько раз отстранял их рукой; не могли понять, почему он так делает, и спрашивали его, но он не мог говорить. Наконец догадались, что он желал, чтоб о. Иосиф перекрестил его собственной его рукой, которую он не мог поднять. Ему показали дароносицу, он жестом объяснил, что может глотать; сперва ему дали иорданской воды, которую он проглотил, и тогда его приобщили.
Затем весь день он был в сознании и промолвил раз подошедшей к нему настоятельнице, ласково на нее глядя: «Плохо, мать!»
Все эти дни ему служили скитский монах о. Иоил и старец келейник о. Исайя.
Из Оптиной приехал проститься со старцем настоятель, архимандрит Исаакий. При виде страдающего старца он заплакал. О. Амвросий его узнал и, устремив на него глубокий, проницательный взгляд, поднял руку и снял с себя шапочку. Таково было их последнее свидание.
В конце жизни старца они должны были разно мыслить об отъезде старца из Оптиной, и в настоятеле болезненно отдавалось то умаление, которое от этого отъезда терпела Оптина. Но все время совместного служения, от годов общего подчинения о. Макарию до той поры, когда один стал старцем, а другой – настоятелем, они прожили в чувствах взаимной приязни и взаимного понимания.
Что совершалось в душах бедных шамординских обитательниц, когда они узнали, что надежды никакой?
В церкви безостановочно служили молебны с коленопреклонением, и с воплями молившиеся просили у Бога выздоровления старца.
К вечеру этого предпоследнего дня его жизни от Калужского губернатора пришла телеграмма, что 10 октября преосвященный Виталий выезжает в Шамордино.
Состояние старца все ухудшалось, он лежал неподвижно все в одном положении. И. Ф. Черепанов, продежуривший около старца всю эту последнюю ночь его жизни, передавал, что его глаза были устремлены кверху, а уста шевелились, читая молитву.
Казалось бы, хоть теперь умирающий старец мог надеяться на то одиночество, которого так жаждала и так мало получала при жизни его душа. Но шамординские сестры снова стали подходить к нему, уже не целуя его руку, по одиночке, только кланяясь ему в землю. Одна из них рассказывала, что, войдя к старцу и поклоняясь ему, она почувствовала на себе тот особенный его взгляд, которым он иногда смотрел, и старец провожал ее глазами до двери.
К утру следующего дня старец находился при последнем издыхании. Он лежал без движения, глаза опустились вниз и остановились на одной точке, дыхание было спокойное и редкое, пульс все слабел.
Видя, что конец близок, о. Иосиф отправился в скит, чтоб привезти одежду для погребения. Там в келье о. Амвросия хранились приготовленные им для своего погребения мухояровая старая мантия, в которую он некогда был облачен при пострижении, и власяница, и холщовая рубашка старца Макария, его учителя. На этой рубашке была собственноручная надпись о. Амвросия: «По смерти моей надеть на меня неотменно».
«Целый век свой я все на народе, – говорил о. Амвросий, – так и умру».
Действительно, у дверей комнаты, где он отходил, толпился народ, и много людей присутствовало при его последнем вздохе.
Вот как описывает очевидица, вошедшая в келью старца за двадцать минут до его отхода, его последние минуты:
«Когда я вошла, на коленях подле него стоял о. Исайя (келейник). О. Феодор (по прочтении в последний раз в 11 часов дня канона Божьей Матери на исход души) осенял старца крестом. Остальные присутствовавшие тут монахини стояли кругом. Старец начал кончаться. Лицо стало покрываться мертвенной бледностью, дыхание становилось все короче и короче. Наконец он сильно потянул в себя воздух, минуты через две это повторилось. Затем он поднял правую руку, сложил ее для крестного знамения, донес ее до лба, потом на грудь, на правое плечо и, донеся до левого, сильно стукнул об левое плечо – видно, потому, что это стоило ему страшных усилий, и дыхание прекратилось. Потом он вздохнул в третий и последний раз».
Это было ровно в 11 час. 30 мин. утра в четверг 10 октября 1891 г.
Уже душа его, отделившись от изнеможенного тела, ликуя, неслась, как из темницы, в объятия Бога, Которого он так верно и самоотверженно возлюбил. А вокруг все стояли, не двигаясь, еле дыша, боясь нарушить словом происходившее перед ними священное торжество. Они не понимали в ту минуту, сон перед ними или правда. А старец лежал перед ними, сияя светолепной красотой, чудный, светлый, с улыбкой на сомкнутых навеки устах.
К чему говорить о вопле, который поднялся через несколько времени по монастырю в то время, как иноки обряжали его тело.
Тотчас были разосланы телеграммы о его кончине. Великий князь Константин Константинович ответил следующими полными мысли словами: «Всею душою разделяю скорбь вашей святой обители об утрате незабвенного старца и радуюсь с вами об избавлении его праведной души».
Депеша, посланная Калужскому владыке, не застала его: в самую минуту кончины старца он сел в Калуге в карету, везшую его в Шамордино. По слабости здоровья, на полпути он остановился в Лютикове монастыре, где собирался и ночевать. Он под вечер сидел, беседуя с настоятелем, и упомянул о старце Амвросии, причем неодобрительно о нем отозвался за его будто бы нежелание выехать из Шамордина. Во время этого разговора келейник подал телеграмму. Прочтя ее, игумен заплакал, и на вопрос архиерея, какое известие он получил, он передал архиерею депешу.
– Это что же такое? Старец скончался? – промолвил смущенно преосвященный.
– Как видите, владыко.
Тогда архиерей, обратившись к иконам и всплеснув руками, воскликнул:
– Боже мой! Что же это такое? Неисповедимы судьбы Господни!
Еще более был он удивлен, когда узнал, что старец Амвросий скончался в половине двенадцатого дня, именно в то самое время, когда он садился в Калуге в экипаж, чтобы выехать в Шамордино.
Он решил теперь ехать прямо в Оптину, а в Шамордино прибыть к отпеванию старца.
Между тем в Шамордине около полуночи тело старца положено было в простой, обитый черной простой материей гроб, который был накрыт еще более простым, ветхим, общим для всех монастырских покойников, покровом. Такова была воля старца.
В эту же ночь был расшит покров, скрывавший его лицо, и сестры могли еще раз взглянуть на незабвенные его черты. Он лежал с тем чудным выражением привета, с которым после долгой разлуки встречал своих детей.
Его выражение было прекрасно схвачено рясофорным скитским монахом Д. М. Болотовым, который много раз воспроизводил лик старца в гробу с тем же обаятельным сходством, с каким он нарисовал портрет в схиме своей сестры, первой шамординской настоятельницы, монахини Софьи.
По всем направлениям, по грунтовым дорогам и на поездах направлялось множество людей на похороны старца. В Шамордино сошлось до восьми тысяч.
Между Оптиной и Шамордином возникли пререкания по поводу места погребения о. Амвросия. Шамординские, понятно, желали сохранить у себя дорогие останки, а Оптина настаивала на своих правах. Пришлось послать депешу Святейшему Синоду, и от первенствующего члена его, митрополита Исидора, было получено в ответ распоряжение хоронить старца в Оптиной.
Панихиды у гроба старца служились все ночи напролет, по желанию сестер и народа. Народ приносил платки, куски холста и другие вещи, просил прикладывать их к телу старца и принимал их обратно, как святыню. Многие матери прикладывали к гробу своих детей.
13-го утром прямо в церковь прибыл преосвященный Виталий. Его не ждали, так как полагали, что он раньше с дороги отдохнет. У гроба шла панихида, и, когда он входил, по окончании «Непорочных» – «Благословен еси, Господи», – пели «аллилуйя».
Когда внезапно сестры увидели архиерея, приезд которого так долго ожидался при жизни батюшки, тогда вспомнились им разные его слова: «конец сентября и начало октября», «мы пропоем ему аллилуйя», «мы потихоньку будем говорить», «приготовьте в церкви место, где мне стоять». И совершилось воочию свидание – этого старца, встречавшего бездыханным во гробе, при рыдающих распевах «аллилуйя», своего начальника.
Сестры не выдержали. Пение прервалось, послышалось громкое рыдание, и долго не могли они оправиться и пропеть преосвященному «входную».
В этот день архиерейским богослужением была совершена заупокойная литургия и затем отпевание старца.
Еще на одну ночь тело оставалось в Шамордине.
Нельзя не привести некоторые сновидения, которые имела одна из шамординских сестер. В них как бы излиты и все сокровища их бесхитростной, детской веры, и их безграничная любовь к старцу.
«За несколько времени до кончины батюшки видела я, будто стою в прекрасном саду. На высоких деревьях трепещут листики, и всякий листок все повторяет молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». В саду будто стоит светлый храм. Вошла я в него и вижу: купол у него недостроен. И подумала я: как этот храм не окончен? Тогда послышался мне голос: «Это жилище приготовлено для старца Амвросия и скоро будет окончено».
«А как батюшка уже умер, видела я, что стоит гроб. И вот спустились четыре ангела в белых ризах – такие блестящие на них ризы, – а в руках у них свечи и кадило. И спросила я: «Почему это они, такие светлые, спустились ко гробу батюшки?» Они мне ответили: «Это за то, что он был такой чистый». Потом спускались еще четыре ангела в красных ризах, и ризы их были еще красивее прежних. И я опять спросила, а они ответили: «Это за то, что он был такой милостивый, так много любил». И еще спустились два ангела в голубых ризах невыразимой красоты. И я спросила: «Почему они спустились ко гробу?» И мне ответили: «Это за то, что он так много пострадал в жизни и так терпеливо нес свои кресты».
14 октября гроб после обедни и панихиды был поднят на носилках сестрами и сперва обнесен вокруг церкви и соборного фундамента, и затем шествие тронулось в Оптину.
Погода была ненастная. Дул жестокий ветер, и непрерывно лил дождь.
На следующий день я ехал этим путем и никогда, кажется, не видал такого царства глубокой, невылазной липкой грязи.
Все заметили и говорили вслух как о замечательном знамении, что на всем протяжении многоверстного пути при порывистом ветре и дожде не угасли зажженные свечи, которые несли около гроба.
Несмотря на ужасную погоду, гроб несли все время на руках, попеременно оптинцы и шамординские, иногда и миряне. Часто служили литии. В селах, при перезвоне колоколов, священники в облачении с хоругвями и иконами выходили навстречу из церквей. Когда приближались к деревне Стенино, в версте от Оптиной, уже темнело. Тут встречали козельские – духовенство и граждане.
Медленно-медленно подходило шествие к монастырю, и что-то необыкновенное было в нем. Высоко над головами, в таинственно-трепетном мерцании свечей черный гроб, чуть колыхаясь, точно плыл по воздуху, а всю окрестность заволокло черной тучей народа.
На Жиздре, которую обыкновенно переезжают на пароме, был наведен теперь временный мост. На монастырском берегу ждала братия оптинская с иконами, хоругвями и зажженными свечами, и к месту для встречи гроба шел, не обращая внимания на грязь и дождь, поникнув головой, ближайший ученик старца, о. Иосиф, безотлучно 30 лет при нем находившийся.
Вот черный гроб вступил в ряды духовенства в блестящих ризах и черную толпу монахов, народ, встречавший и провожавший гроб, смешался, и при пении певчих, громком перезвоне колоколов, окруженный развевающимися хоругвями, великий старец Амвросий вернулся в ту обитель, в которую 52 года назад вступил, как беглец из мира.
На другой день, 15 октября, было совершено погребение старца за алтарем Введенского собора, рядом с о. Макарием, его наставником.
ГЛАВА XII
ПОСЛЕДНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Я приехал в Оптину к вечеру, в день похорон, узнав о печальном событии лишь накануне, из газет.
Вернувшись из летнего отсутствия, закончившегося посещением Оптиной, в Москву к началу лекций, я жил обычной жизнью. В сентябре я видел на короткое время К. Н. Леонтьева, который был в Москве проездом на постоянное новое жительство в Сергиевский Посад, у Троицкой лавры. Перед тем как он покидал Оптину, старец постриг его в тайный постриг с именем Климента. Он сделал мне на это несколько намеков, на которые я, по спешности моего посещения, не обратил внимания. Больше я его не видел, так как он вскоре скончался, пережив своего старца всего лишь несколькими неделями.
Леонтьев не говорил ничего тревожного о положении о. Амвросия, так что я был совершенно за него спокоен.
В начале октября я видел необыкновенный сон.
Мне казалось, что я нахожусь среди великого народного множества, сошедшегося для какого-то светлого торжества. Я и мои близкие сидели на какой-то трибуне у края большой дороги, которая впадала в реку. Я сознавал во сне, что река эта – Ока, и, как это бывает иногда во сне, Ока была в то же время и дорога. Я, с радостью и любовью глядя на народ, говорил себе: «Это русская земля всколыхнулась!» – и весь был полон ожидания чего-то громадного, что должно было совершиться.
Послышался гул множества колоколов, какой бывает в Москве в Пасхальную ночь, и по дороге, которая вместе была и Ока, стал приближаться к нам громадный крестный ход. Небо поднялось как-то выше, и солнце заиграло радостнее. Что-то тянуло меня туда, навстречу этому медленно двигавшемуся ходу, и, выскочив из трибуны, я побежал по дороге, которая была также Ока.
Я миновал кресты, иконы, хоругви и все бежал дальше, туда, где, как я чувствовал, было то самое главное, ради чего собрался весь этот народ, и гудели колокола, и радостнее играло солнце… И вот оно, наконец. По дороге навстречу мне двигалось что-то.
Это было не живой человек и не мощи. Оно было само и имело вид человека, покрытого с головой черными тканями, и какое-то невыразимое обаяние влекло меня к этому явлению, и я чувствовал, что оно – самое дорогое для меня в жизни. Оно приблизилось наконец ко мне, и я упал на колени, прижимаясь лицом к черному покрову, и несказанное блаженство переполнило всю мою душу, и я перестал что-либо сознавать, кроме величайшего и безграничного счастья…
Я забыл тогда же об этом сне и вспомнил его с удивительной ясностью лишь по кончине старца. Не был ли лично для меня этот сон вещий, и не ответил ли он заранее на разные, возникшие потом во мне вопросы…
14 октября я после ранней прогулки ясным прекрасным утром вернулся домой и вошел в столовую, где был приготовлен утренний завтрак для меня одного, так как я должен был отправиться на лекции. Я стал небрежно просматривать газету и уже собирался равнодушно отложить ее в сторону, как мой взгляд в столбце телеграмм был привлечен словом «Калуга».
Я посмотрел на эту депешу, какие-то странные слова кольнули меня в глаза, сперва я не поверил и отвел зрение от этих ужасных кратких строк. Но они были несомненны. Это было известие о кончине о. Амвросия.
Не понимая ничего, с какой-то странной пустотой в голове и груди, я пошел к себе в комнату, держа в руке роковой газетный лист, и долгое время сидел как пришибленный.
На следующее утро при ужаснейшей погоде я выехал на лошадях из Калуги в Оптину. Дул пронзительный ветер, шел не переставая докучный дождь. Ямщики рассказывали, как бились предыдущие дни с лошадьми, которые брались нарасхват вследствие громадного проезда в Оптину.
Под однообразный шум дождя и однообразный всплеск грязи под копытами лошадей я вспоминал всю историю моих отношений к старцу, всякое его слово ко мне. Я знал, что мне не встретить никогда более в жизни подобного человека. Как все сочеталось в нем в изумительной гармонии, чтобы создать неповторяемое явление! Кроме его святости, сколько было в нем чисто человеческих счастливых свойств! Его прекрасная, утешительная внешность, доброта и ласковость его взгляда, прелесть его улыбки, задушевность, общительность, сердечность его обхождения, его привлекательнейший характер – все это еще возвышало неотразимое впечатление, которое производила его личность.
Вокруг меня была коренная Россия – безграничный горизонт, щетины сжатых полей, серые деревни, белые храмы, и я чувствовал, как сливался простой правдивый образ старца с фоном этой русской природы.
Когда мы подъезжали к Оптиной, нам стали попадаться телеги с сидящими на них монахами; эти безмолвные черные фигуры были живым олицетворением безутешной скорби.
Вот уже и место оптинского парома, где теперь наведен мост, еле выдержавший накануне тяжесть многочисленной толпы. Быстро я занял номер и, узнав, где похоронен старец, пошел в монастырь.
Сбоку больших памятников старцев Льва и Макария была разрыта земля, возвышался небольшой, неправильной формы холмик, и на нем, в мягкой, не улежавшейся еще земле, стояло небольшое распятие с горящей лампадой. Там лежал он, отдыхая после полувека неустанного труда.
Я знал, что иду к могиле, но все же вид свежего надгробия изумил и поразил меня.
От могилы старца я пошел к монастырскому благочинному. Там услышал я много подробностей о последних днях старца.
Между прочим, у благочинного я встретился со скитским монахом о. Иоилом, жившим по хозяйственным делам в Шамордине во время пребывания там старца и ходившим за старцем в последнее время.
Он рассказал, что как-то перед болезнью старец сделал ему легкий выговор по случаю какого-то недоразумения. В один из последних дней, когда старец не мог уже говорить, его как-то раз подняли, и в числе державших его был о. Иоил. Старец с чрезвычайной лаской посмотрел на него и положил голову ему на плечо, очевидно желая загладить то впечатление, которое в о. Иоиле могло оставить его замечание.
При всей тяжести этой ничем не заполнимой утраты, душа переживала какую-то светлую радость. Конечно, то была радость освободившейся из уз его души, которую он, и теперь, более, чем когда-либо, думавший о своих детях, сообщал им. И позже мне приходилось ощущать эту высокую радость у гроба близких, много в жизни пострадавших, праведно живших и с великими упованиями отошедших людей.
Невыразимо прекрасны были эти дни. От его могилы тихо побредешь в скит, точно еще полный его присутствием. И живое чувство вечности возбуждают устремившиеся к нему громадные сосны векового бора, обхватившего скит, и, прислушиваясь к их шепоту, так и кажется, что каждая из них, как добрый инок, творит не переставая Иисусову молитву.
А в ските, где каждое дерево разубрано серебристым морозом, сколько бесконечных о нем разговоров и воспоминаний. И казалось в эти часы, что и сам ушел со старцем с земли и витаешь где-то близко к нему в блаженных областях духа.
На возвратном пути я заехал в Шамордино и попал ко всенощной.
Я спокойно стоял в полуосвещенной церкви, как ко мне подошла одна знакомая монахиня и сказала: «Смотрю на вас и спрашиваю себя: вы ли это или ваша тень? Помните ваш спор со старцем, что вы долго не будете в Шамордине?»
Тут только вспомнил я об этом моем споре и о том, как сбылись надо мной его слова: «А вот будет причина, и очень даже скоро сюда приедешь».
В ночь на 19 октября выезжал я из Шамордина, чтобы захватить в Калуге утренний поезд на Москву, так как к вечеру мне неотложно нужно было поехать домой.
Морозило. Проезжая за Перемышлем на пароме Оку, я сквозь дремоту и из-под поднятого верха смутно слышал, как тяжело замерзавшая плотная вода ударяется о дно парома. Когда мы ранним утром подъехали вторично к Оке перед самой Калугой, оказалось, что речка только что стала и переправиться нельзя.
Я ужасно волновался.
В часе езды был желанный поезд, а тут приходилось беспомощно ждать неизвестно чего. Тщетно я предлагал бывшим на берегу людям, чтоб меня перевели через реку, настилая доски. Никто не брался. Тогда мысленно я обратился с просьбой о помощи к почившему старцу.
Вскоре после того прибежали мне сказать, что есть место, по которому можно пробиться в лодке. И я поспел на поезд.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.