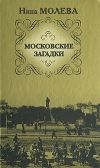Текст книги "Неизвестный Шекспир. Кто, если не он"

Автор книги: Георг Брандес
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава 38
«Гамлет», Джордано Бруно и Монтень. – Этнографические предпосылки
Вместе с новеллистическими, драматургическими и историческими впечатлениями созданию драмы о Гамлете способствовали впечатления философского, полунаучного характера. Гамлет – самая глубокомысленная, самая богатая рефлексией из шекспировских пьес; от нее веет философским духом, а потому естественно было заняться рассмотрением вопроса, под чьим воздействием могли возникнуть здесь размышления о жизни и смерти, о тайнах бытия.
Некоторые исследователи, как, например, Чишвиц и Кениг, пытались установить преобладающее влияние Джордано Бруно на Шекспира. Подробности вроде сатирических выходок Гамлета перед королем по поводу мертвого Полония (IV, 3), указывающие на круговорот в природе, навели их на мысль об итальянском ученом. Порою они даже считали возможным усмотреть прямое соответствие между оборотами речи у Гамлета и у Бруно, так, например, в том, как оба они выражаются о детерминизме. В одном месте, подчеркивая необходимость, с которой все совершается в мире, итальянский мыслитель говорит: «Какова бы ни была предназначенная для меня вечерняя пора, когда наступит изменение, я, пребывающий во мраке ночи, ожидаю дня; те же, которым светит день, ожидают ночи. Все то, что существует, находится или здесь, или там, близко или далеко, теперь или после, одновременно или чередуясь одно с другим». Подобным же образом выражается и Гамлет (V, 2): «И воробей не гибнет без воли Провидения. Не после, так теперь; теперь, так не после; и если не теперь, так когда-нибудь придется же. Быть готовым – вот все».
Бруно говорит: «С абсолютной точки зрения нет ничего несовершенного или злого; оно кажется таковым лишь по отношению к чему-либо другому, и то, что есть зло для одного, может быть благом для другого». Гамлет говорит (II, 2): «Само по себе ничто ни дурно, ни хорошо; мысль делает его тем или другим».
Как только внимание критиков обратилось на Джордано Бруно, они не замедлили изучить не только его философские и популярные сочинения, но даже его драматические пьесы в поисках образцов для Шекспира, и им посчастливилось найти параллели и аналогии, которые хотя и были сами по себе слабы и незначительны, но которых не хотели считать случайными, так как было известно, что во времена Шекспира Джордано Бруно жил в Англии и вращался в обществе самых выдающихся людей. Однако, как скоро было предпринято более точное и многостороннее исследование этих обстоятельств, то вероятность какого-нибудь воздействия свелась почти к нулю.
Джордано Бруно находился в Англии с 1583 до 1585 г. Он прибыл туда из Франции, где обучал Генриха III искусству Луллия[15]15
Раймонд Луллий – философ XIII века.
[Закрыть], – механическому, мнемотехническому методу разрешения всевозможных научных проблем, и имел от него рекомендательное письмо к французскому посланнику в Лондоне, Мовисьеру, в доме которого был принят как друг семьи в течение всего своего пребывания в Лондоне. Он познакомился со многими из самых знаменитых англичан, с Уэлсингемом, Лейстером и Борлеем, с Филиппом Сиднеем и его литературным кружком, но вскоре переехал в Оксфорд с тем, чтобы преподавать там и распространять дорогие его сердцу доктрины: мировую систему Коперника, в противоположность господствовавшей в Оксфорде птолемеевской, и учение о том, что одна и та же жизнь животворно проникает все на земле, атомы и организмы, растения, животных и людей, и, наконец, вселенную. Он рассорился с оксфордскими учеными и едко осмеял их в вышедшем вскоре после того диалоге «Пир в среду на первой неделе поста», где вообще отзывается крайне неодобрительно об английской непросвещенности и английских нравах. Грязь на лондонских улицах и обычай передавать за столом стакан из рук в руки, так что все пьют из одного стакана, вызывали у него почти столь же сильное негодование и презрение, как упорство, с каким университетские педанты отвергали учение Коперника.
Шекспир мог прибыть в Лондон никак не ранее того года, когда Бруно покинул Англию, и поэтому не мог с ним встретиться. Итальянский мыслитель не оказал никакого влияния на умственную жизнь своих английских современников. Даже Филипп Сидней не признавал его учения, и имя его вовсе не упоминается в составленной Гревиллом биографии Сиднея, хотя Гревилл часто видался с Бруно. В доказательство того, как бесследно прошло в Англии посещение Бруно, Брунгофер, изучивший этот вопрос, приводит тот факт, что в бодлеевской библиотеке нет ни одного документа и ни одного сочинения того времени, где встречались бы какие-нибудь сведения о пребывании Бруно в Лондоне или Оксфорде. Полагали, что Шекспир, тем не менее, прочел его философские трактаты по-итальянски. Это, конечно, возможно; но в его «Гамлете» нет ничего, что указывало бы на это и что не могло бы быть вполне объяснено и в том случае, если бы он не имел о них ни малейшего понятия.
Единственное выражение у Шекспира, звучащее совершенно пантеистически, – впрочем, вероятно, благодаря простой случайности, – это me prophetic soul of the wide world (пророческая душа бесконечного мира) в 107-м сонете; единственные места, заключающие в себе нечто, хотя нисколько не совпадающее, но все же аналогичное с учением Бруно о превращении существующих в природе форм, это – циклические сонеты 56, 106, 223. Если в этих местах есть вообще какое-либо отношение к Джордано Бруно, то оно должно находиться в связи с тем, что Шекспир услыхал в это время об учении великого итальянца, воскресшего как раз в этот момент в памяти англичан вследствие мученической смерти мыслителя на костре в Риме (17 февраля 1600 г.). Если бы Шекспир изучал его сочинения, то, между прочим, он получил бы какое-нибудь понятие о системе Коперника, оставшейся ему неизвестной; зато нетрудно предположить, что из разговоров он получил приблизительное и неполное представление о философии Бруно, и что это представление породило вышеупомянутые философские мечтания. Между тем все то, что в «Гамлете» хотели возвести к влиянию Бруно, имеет гораздо более близкое отношение к писателям, литературное и философское воздействие которых на Шекспира не подлежит ни малейшему сомнению.
Как известно, единственная книга, о которой мы знаем с достоверностью, что она была личной собственностью Шекспира, это – «Опыты» Монтеня в переводе Флорио, издание in-folio, Лондон, 1603 г.
Какую роль сочинение Монтеня играло в английском обществе того времени, явствует из многочисленных свидетельств. Что эта книга произвела весьма сильное впечатление и на самого великого человека в этом обществе, это легко предположить, ибо в то время немного было таких книг, как книга Монтеня, и, пожалуй, не было ни одной, где так ярко сказывался бы не автор, а человек, человек непосредственный, многосторонний и столько же богатый дарованиями, как и противоречиями.
Помимо «Гамлета» влияние Монтеня несомненно сквозит еще в одном месте у Шекспира; в то время, как поэт создавал «Бурю», он должен был лежать у него на столе. Сравните «Бурю» (II, 1):
Гонзало.
В противность всем известным учрежденьям
Развил бы я республику мою.
Промышленность. Чины б я уничтожил,
И грамоте никто бы здесь не знал;
Здесь не было б ни рабства, ни богатства,
Ни бедности: я строго б запретил Условия наследства и границы;
Возделывать поля или сады
Не стали б здесь; изгнал бы я металлы,
И всякий хлеб, и масло, и вино.
Все в праздности здесь жили б, без заботы.
Это почти буквальное заимствование из «Опытов» Монтеня (I. ch. XXX):
«Есть народ, у которого нет никакого вида торговли, нет понятия о литературе, нет науки о числах, нет даже по имени начальства или государственной власти, нет слуг, нет богатства или бедности, нет контрактов, нет наследства, нет разделов, нет занятий, кроме праздности… нет земледелия, нет металлов, нет употребления вина или хлеба…»
Так как есть, следовательно, возможность доказать, что Шекспир был знаком с «Опытами» Монтеня, то аналогии между некоторыми местами в этой книге и некоторыми местами в «Гамлете» могут с известным правдоподобием быть объяснены не одной случайностью. Если эти места в трагедии попадаются уже в издании 1603 г., то следует предположить, что Шекспир был знаком с французским подлинником или, что в высшей степени вероятно и вполне согласуется с обычаем того времени, имел случай ознакомиться с переводом Флорио до выхода его в свет. Дело в том, что в те дни книга нередко ходила в списках по рукам знакомых автора лет за пять, за шесть до того, как предлагалась публике. Шекспир же должен был принадлежать к числу знакомых автора вследствие близких отношений Флорио к дому Саутгемптона; книга была, впрочем, внесена уже в 1599 г. в каталог книгопродавцев, как приготовленная к изданию.
Флорио родился в 1545 г. от итальянских родителей, которым пришлось эмигрировать вследствие того, что они были вальденсы. Сам он совсем акклиматизировался в Англии, учился в Оксфорде и там давал уроки итальянского языка, несколько лет состоял на службе у графа Саутгемптона и был женат на сестре поэта Самюэля Дэниеля. Каждую книгу своего перевода «Опытов» Монтеня он посвящал каким-нибудь двум дамам из высшей знати. Между ними встречаются имена Елизаветы, графини Рутленд, дочери Филиппа Сиднея, леди Пенелопы Рич, сестры графа Эссекса и знаменитой своей ученостью и грацией леди Елизаветы Грей. Каждую из этих дам он воспел в посвященном ей сонете.
Всякий помнит в «Гамлете» незабвенные места, в которых великий ум, погрузившийся в вопросы о жизни и смерти, дал своим мыслям о беспощадности разрушения или, как это можно было бы назвать – цинизме мирового порядка, в одно и то же время резкое и потрясающее выражение. Таковы, например, слова Гамлета (V, 1): «Почему не преследовать воображению благородный прах Александра до пивной бочки, где он замажет ее втулку? Александр сделался прахом – землею; из земли делается замазка и т. д.; быть может, Александром замазали пивную бочку, а Цезарем законопатили стену в ограждении от изморози и сквозняка». Та же тема варьируется в жестокой шутке Гамлета о червях, поедающих Полония за ужином: «Дело возможное удить червяком, который ел короля, и скушать потом рыбу, проглотившую червяка; таким образом, король может прогуляться по пищеварительным органам нищего».
В этих местах хотели видеть воздействие Джордано Бруно; подобный взгляд возможен, как это метко развито в небольшой брошюре Роберта Бейерсдорфа, лишь в силу предположения, будто учение Бруно было атомистическим материализмом. Между тем это учение есть пантеизм, постоянно провозглашающий единство Бога и природы. Даже атомы имеют у Бруно свою долю духа и жизни; не механическое их соединение производит жизнь; нет, они – монады. Подобно тому, как основным настроением в цитированных выражениях Гамлета является цинизм, так основным настроением в словах Бруно является энтузиазм. Из сочинений Бруно («De la Causa» и «La Cena de la ceneri») приводили три места с целью доказать их соответствие словам Гамлета об изменении материи. Но в первом из этих мест Бруно говорит о превращении существующих в природе форм и о том, что во всех составных телах живет множество индивидуумов, остающихся бессмертными по разложении этих тел; в третьем он говорит о земном шаре, как об огромном организме, обновляющемся совершенно так же, как животные и люди, через изменение материи.
Все сходство между этими местами и взрывами горечи у Гамлета сводится к тому, что и эти последние имеют своей темой превращение форм и изменение материи в природе. Но дух, в котором говорит об этом Гамлет, представляет коренное различие с Бруно. Бруно хочет констатировать, что душевный элемент пронизывает и то, что по виду всецело принадлежит миру материи; Гамлет хочет, наоборот, показать, как жалко и тленно человеческое существование.
Между тем как раз в этих пунктах Гамлет очень близко подходит к Монтеню; у последнего довольно часто встречаются обороты, подобные приведенным выше; он упоминает имя Суллы, как Гамлет имена Александра и Цезаря, и если сопоставить его выражения с выражениями Шекспира, то совпадение будет поразительное. Гамлет говорит, например, что Полоний за ужином, где не он кушает, а его кушают.
Гамлет (IV, 3): «Конгресс политических червей только что за него принялся. В области съестного этот червячишка – единственный монарх. Мы откармливаем животных, чтобы откормить себя, а себя – для червей. Жирный король и тощий бедняк – только различные кушанья, два блюда для одного стола. Этим все кончается».
Монтень (livre II, ch. XII): «Не нужно кита, слона или крокодила или других подобных животных, из которых довольно одного, чтобы покончить со множеством людей. Достаточно крохотных вшей, чтобы принудить Суллу отказаться от диктатуры. Сердце и жизнь великого и победоносного императора, это – завтрак для маленького червячка».
Мы видели, что слова Гамлета об относительности всякого воззрения хотели произвести от Бруно. В действительности они ближе подходят к Монтеню. Когда Гамлет (впервые в издании in-folio), по поводу возражения Розенкранца против реплики «Дания – тюрьма», говорит (II, 2): «Само по себе ничто ни дурно, ни хорошо; мысль делает это тем или другим. Для меня Дания – тюрьма», – то у Монтеня мы встречаем это почти дословно (livre I, ch. XL):
«То, что мы называем злом или страданием, не есть само по себе зло или страдание; лишь наше представление придает ему это свойство».
Мы видели, что слова Гамлета о его смерти: «Не после, так теперь, теперь, так не после и т. д.» хотели вывести из слов Бруно в посвящении его «Candelojo»: «Все существующее находится либо там, либо здесь, либо близко, либо далеко, либо теперь, либо впоследствии, либо раньше, либо позже». Но та же мысль, которая у Гамлета находит себе конечное выражение в словах: «Быть готовым – вот все», – встречается с тем же самым заключением у Монтеня в 19 главе его первой книги: «О том, что философствовать – значит учиться умирать», – главе, послужившей вообще основой для рассуждений Гамлета на кладбище. Здесь говорится о смерти так:
«Нет места, откуда бы она ни приходила. Она угрожает всегда. Неизвестно, где ожидает нас смерть; будем ждать ее всюду… Я постоянно бываю приблизительно настолько подготовлен, насколько это возможно. Надо всегда быть в сапогах, всегда быть готовым пуститься в путь… Что нам за дело до того, когда это будет, раз это неизбежно!»
Затем встречаются яркие точки соприкосновения между знаменитым монологом «Быть или не быть» и тем местом у Монтеня (livre III, ch. XII), где он передает главное содержание защитительной речи Сократа. Сократ предполагает, как известно, различные возможности: смерть есть или улучшение нашего состояния, или уничтожение нашего существа; но и это будет улучшение, если мы вступим в долгую и мирную ночь, так как самое лучшее, что мы знаем в жизни, это – спокойный и глубокий сон без сновидений. В положительное улучшение нашего состояния посредством смерти Шекспир, по-видимому, не верил; Гамлет не предполагает его даже, как нечто возможное, но зато поэт заставляет его остановить свои мысли на вечном сне и на мучительной возможности ужасных сновидений. По временам у Гамлета мы как бы чувствуем подлинник Платона в изложении Монтеня. Во французском тексте говорится об удовлетворении, которое нам доставляет мысль, что в будущей жизни «мы не будем иметь дела с несправедливыми и подкупленными судьями». Гамлет говорит об освобождении от «притеснения тиранов и обиды гордого». Несколько строк, прибавленных к изданию 1604 г., прямо напоминают одно место в переводе Флорио.
Можно, привести много совпадений в употреблении имен и оборотов речи, совпадений, не имеющих, однако, настоящей силы доказательства. Там, где Монтень изображает анархическое состояние, среди которого протекла его жизнь, слова «Все рушится вокруг нас» переданы у Флорио замечательно поэтическим выражением «АН is out of frame» (все выходит из своих рамок). Это имеет известное сходство с оборотом речи, которым Гамлет (впрочем, еще в издании 1603 г.) изображает смутное время, наступившее вслед за смертью его отца: «The time is out of joint» (время вышло из своих суставов). Быть может, это сходство случайно, но, как один из многих других сходных пунктов, оно указывает на то, что Шекспир был знаком с переводом ранее его выхода в свет.
Сверх того, сначала Рештону (в «Shakespeare’s Euphuism», 1871 г.), а позднее и Бейрсдорфу удалось привести немало параллелей к «Гамлету» в «Эвфуэсе» Лилли и как раз в тех пунктах, где другие исследователи видели влияние гораздо далее отстоящего от Шекспира Джордано Бруно. Бейерсдорф заходит подчас чересчур далеко, стараясь приписать чтению «Эвфуэса» такие мысли у Шекспира, видеть в которых результат этого чтения значило бы прямо оскорблять поэта. Но по временам встречается действительная аналогия. Утверждали, будто король там, где он хочет представить Гамлету безрассудство его чрезмерной скорби об умершем отце (I, 2), ищет доводов к утешению в философии природы Бруно. В действительности же письмо Эвфуэса к Ферардо по поводу смерти его дочери заключает в себе как раз те же аргументы.
Полагали, что когда Гамлет (II, 2) говорит о «мерзавце-сатирике», посмеявшемся в книге, которую принц читает в эту минуту, над дряхлостью стариков, поэт должен был иметь в виду одно место из «Spaccio» Бруно, где старые люди охарактеризованы, следующим образом: «Те, у кого снег на голове, а на челе морщины». Но если, наконец, под «мерзавцем-сатириком» и подразумевается какой-нибудь определенный автор, что весьма нелепо предполагать, то Лилли подходит под это наименование, ибо всюду, где в «Эвфуэсе» старики дают молодежи благие советы, они неизменно являются с «белыми волосами и слезящимися глазами», и Эвфуэс, точь-в-точь как Гамлет, заставляет умолкнуть почтенного джентльмена, нравоучительные рассуждения которого представляются ему ничем иным, как завистью одряхлевшей старости к крепости, свойственной молодым людям, и чьи умственные способности кажутся ему столь же слабыми, как его ноги.
Наконец, жестокие слова Гамлета к Офелии и его презрительные выражения о женщинах: «Непрочность, женщина твое названье!» – хотели возвести к диалогу Бруно («De la Causa», IV), где педант Полиннио выступает женоненавистником. Но все сходство заключается в том, что здесь женщина, в силу ортодоксального богословского толкования, является причиной всяких бедствий как виновница первородного греха. Между тем во многих местах «Эвфуэса» встречаются выражения, несравненно более близкие к словам Гамлета. Если, например, Гамлет на вопрос Офелии, что он хочет сказать, отвечает (III, 1): «То, что если ты добродетельна, так добродетель твоя не должна иметь дела с твоей красотой», то в «Эвфуэсе» сказано совершенно одинаково: «Твоя покойная мать часто повторяла, что у тебя больше красоты, чем годится для женщины, которая должна быть добродетельна», и Ферардо говорит поэтому: «О, Люцилла, Люцилла, лучше бы ты была не так прекрасна!» Если Гамлет говорит о ничтожности женщин и их способности развращать мужчин («Умные люди знают хорошо, каких чудовищ вы из нас делаете»), то в «Эвфуэсе» есть совершенно соответственные обвинения женщин в лживости, ревности, непостоянстве («Я думаю, что женщины своей лживостью, ревностью и непостоянством сущее бедствие для мужчин») и в том, что они действуют на мужчин развращающим образом. Бейерсдорф, несомненно, прав и в том утверждении, что в словах Гамлета явственно слышен еще хитросплетенный стиль Эвфуэса в том месте, когда датский принц, дав Офелии совет насчет того, чтобы добродетель ее не имела дела с ее красотой, прибавляет: «Красота скорее превратит добродетель в распутство, чем добродетель сделает красоту себе подобной».
В «Гамлете», как и в других пьесах Шекспира, встречаются следы особого рода атомистически-материалистического учения. В «Юлии Цезаре» Антоний в заключительных словах о Бруте буквально употребляет выражение: «Так были смешаны в нем элементы». В «Мере за меру» сказано (III, 1):
Не самобытна ты,
Но состоишь из тысячи атомов,
Из праха порожденных
Вспомним слова Гамлета (I, 2):
О, если б вы, души моей оковы,
Ты, крепко сплоченный состав костей,
Испарился в туман, ниспал росою!
И к Горацио (III, 2):
И ты благословен: рассудок с кровью
В тебе так смешаны.
Выше было замечено, как далеко отстоит эта вера в атомы, если только можно здесь признать таковую, от идеалистического учения Бруно о монадах. По всей вероятности, в приведенных цитатах лишь отразилось общераспространенное во времена Шекспира воззрение, что все свойства темперамента зависят от смешения соков. В этом, как и во множестве других пунктов, Шекспир более близок к народным воззрениям и менее напичкан книжной наукой, более наивен и менее метафизичен, чем хотели его сделать ученые исследователи.
Монтень и Лилли принадлежали к числу писателей, усердно читавшихся Шекспиром в то время, как «Гамлет» начал создаваться в его душе. Но, разумеется, он не ради «Гамлета» совещался с ними. Ради «Гамлета» он прибегал к другим источникам, но то были не книги, а люди и народ, среди которого он ежедневно вращался. Так как Гамлет был датчанин, и судьба его завершилась в далекой Дании, имя которой пока еще не так часто произносилось в Англии, как стало произноситься благодаря браку нового короля с датской принцессой, то у Шекспира возникло естественное желание навести справки об этой малоизвестной стране и ее нравах.
В 1585 г. на сцене городской ратуши в Гельсингере выступили английские актеры, и так как мы имеем основание думать, что их труппа была та самая, которая в следующем гору играла при дворе, то среди ее членов должны были находиться три лица, принадлежавших в то время, как Шекспира начала занимать мысль о «Гамлете», к его актерскому товариществу и, вероятно, к его ближайшему кружку, именно – Вильям Кемп, Джордж Брайен и Томас Поп. Первый из них, знаменитый клоун, впоследствии состоял при труппе Шекспира от 1594 г. до марта 1602 г., когда он перешел на полугодовой срок в товарищество Генсло; не позже 1594 т. поступили в труппу и оба других актера.
Очевидно, от этих своих товарищей, быть может, одновременно и от других английских актеров, игравших в 1596 г. в Копенгагене под режиссерством Томаса Саквилла при коронации Христиана IV, Шекспир получил сведения о различных подробностях, касающихся Дании и, прежде всего, конечно, о датских именах, которые хотя и исковерканы наборщиками в различных текстах «Гамлета», но все же не до такой степени, чтобы их нельзя было узнать. В первом издании in-quarto мы встречаем имя Rossencraft, превратившееся во втором издании в Rosencraus, а в издании in-folio в Rosincrane и достаточно ясно показывающее, что оно есть старинное датское дворянское имя Rocencrans. Точно таким же образом мы видим в трех изданиях имя Gilderstone, Cuyldensterne и Guildensterne, в котором узнаем датское Gyldenstjerne, а имя норвежского посланника Voltemar, Voltemand, Valtemand, Voltumand – это все искажения датского Valdemar. Имя «Гертруда» Шекспир тоже должен был – узнать от своих товарищей, и им он заменил имя Geruth новеллы; во втором издании in-quarto оно, вследствие описки, превратилось в Gertrad.
Очевидно, под влиянием бесед с товарищами Шекспир и действие в «Гамлете» перенес из Ютландии в Гельсингер (Эльсинор), который они посетили и затем описали ему. Поэтому ему известен замок в Гельсингере, законченный постройкой лет за двадцать перед тем.
В сцене, где Полоний подслушивает за ковром, и где Гамлет, укоряя королеву в ее преступлении, указывает на портреты умершего и царствующего королей, хотели даже видеть доказательство того, что Шекспиру была до некоторой степени известна внутренность замка. Эта сцена часто играется таким образом, что Гамлет показывает матери висящий у него на шее миниатюрный портрет отца, но слова в драме не оставляют никакого сомнения в том, что Шекспир имел при этом в виду настенные изображения во весь рост.
Между тем от того времени сохранилось сделанное одним английским путешественником описание одной комнаты в Кронборге, где говорится: «Она увешана коврами из новой цветной шелковой материи без золота, на которых все датские короли изображены в старинных костюмах, смотря по обычаю различных времен, со своим оружием и с надписями, повествующими о всех их завоеваниях и победах».
Шекспир мог, следовательно, слышать об обстановке этой комнаты, хотя это мало правдоподобно. Что Полоний должен был подслушивать за ковром, подразумевалось само собой, а что в королевском замке висели портреты королей, это естественно было предположить, не зная даже наверное, что так действительно было в Дании. Зато, посылая Гамлета учиться в Виттенберг, Шекспир, вероятно, выбрал этот город на основании хорошо известного ему факта, что Виттенбергский университет, которого англичане избегали как лютеранского, был посещаем многими датчанами, и заставляя в первом и пятом акте сопровождать заздравные кубки звуками труб и пушечными выстрелами, он, без всякого сомнения, знал, что это датский обычай, и введением его в свою пьесу постарался придать ей местный колорит. В то время, как Гамлет и его друзья (I, 4) ожидают появления тени, раздаются звуки труб и пушечные выстрелы. Горацио спрашивает: «Что это значит, принц?» Гамлет отвечает:
Король всю ночь гуляет напролет,
Шумит, и пьет, и мчится в быстром вальсе.
Едва осушит он стакан рейнвейна,
Как слышен гром и пушек, и литавр,
Гремящих в честь победы над вином.
В последней сцене пьесы король согласно с этим говорит:
Дать мне кубки, пусть труба литаврам,
Литавры пушкам, пушки небесам
И небеса земле воскликнут хором:
Король за Гамлета здоровье пьет!
Шекспир не устоял даже против желания показать, что ему известна невоздержанность датчан в употреблении крепких напитков и проистекающие отсюда странные обычаи, ибо, как тонко заметил Шюк, для того, чтобы дать место в пьесе своим сведениям на этот счет, он должен был заставить уроженца Дании, Горацио, расспрашивать Гамлета, обычай ли это в стране ознаменовывать каждый заздравный кубок трубами и пушками?
В ответ на его вопрос Гамлет и говорит с Горацио, как с иностранцем, об этом обычае и произносит глубокомысленные слова, в которых высказывает сожаление о том, что один какой-нибудь недостаток может погубить добрую славу как отдельной личности, так и целого народа, и покрыть его имя позором, ибо очевидно, что эти обычаи, соблюдавшиеся на пирах, позорили датский народ в глазах лучших англичан.
Некто Вильям Сегар, главный герольдмейстер того времени, пишет в своем дневнике, под датой 14 июля 1603 г.: «Сегодня вечером король (Дании) взошел на английский корабль, где его ожидал банкет на верхней палубе, защищенной от солнца пологом из затканного серебром полотна. Каждый тост вызывал шесть, восемь или десять залпов из тяжелых орудий, так что за время пребывания короля на корабле было сделано 160 выстрелов».
О празднике, данном тем же королем в честь английского посланника, он пишет так: «Было бы излишне рассказывать о всех излишествах, которые тут имели место, и тошно было бы слышать эти пьяные застольные речи. Нравы и обычаи ввели это в моду, а мода сделала это привычкой, подражать которой нашей нации не подобает».
Речь идет о короле Христиане IV, которому в то время было 26 лет. Три года спустя, когда он посетил английский двор, то этот последний, бывший ранее вполне трезвым, успел заразиться той невоздержанностью, подражания которой так опасался для Англии почтенный автор дневника. Знатные дамы стали наравне с мужчинами обнаруживать сильное пристрастие к вину. Харрингтон с большим юмором описал празднества, в которых принимал участие датский король. Он рассказывает, что после обеда было дано большое мимическое представление, называвшееся Соломоновым храмом. Предполагалось представить прибытие царицы савской. Но, увы, дама, изображавшая царицу и готовившаяся преподнести их величествам драгоценные дары, споткнулась на ступенях, ведших к их трону, опрокинула все, что у нее было в руках: вино, желе, сладкие напитки, пирожки, пряности, – на колени датскому королю, сама же повалилась прямо в его объятия. Его попробовали обсушить.
Он встал, чтобы начать танцы с царицей савской, но, в свою очередь, упал перед ней и его пришлось уложить на постель в одном из внутренних покоев. Праздник продолжался, но большинство присутствующих падало и не могло подняться с пола.
Затем явились в процессии, богато разодетые, Надежда, Вера и Любовь. Надежда заговорила первая, но не могла произнести свою речь и удалилась, извинившись перед королем; Вера ушла, шатаясь, одной только Любви удалось преклонить колени перед монархом, но когда она стала искать Надежду и Веру, то оказалось, что обе они, мучимые рвотой, лежат в малом зале. Потом появилась Победа, но она торжествовала недолго, – ее должны были увести, как жалкую пленницу, и дать ей выспаться на крыльце; под конец показался Мир, начавший весьма немирно набрасываться со своей оливковой ветвью на тех, кто ради требований приличия хотел его вывести.
Таким образом, пристрастие к вину и прославление пьянства, как чего-то благопристойного и заслуживающего удивления, Шекспир счел датским национальным пороком. Ясно, однако, что здесь, как и в других пьесах, он отнюдь не имел в виду дать точную характеристику чуждого народа.
Не специально национальные черты интересуют его, а общечеловеческие, и не за пределами Англии ищет он моделей для своего Полония, своего Горацио, своей Офелии и своего Гамлета.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?