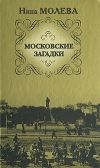Текст книги "Неизвестный Шекспир. Кто, если не он"

Автор книги: Георг Брандес
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава 43
Влияние «Гамлета» на последующие века
Если ныне живущие люди могут чувствовать заодно с Гамлетом, то, конечно, нет ничего удивительного в том, что драма имела шумный успех у современников. Всякий поймет, что знатная молодежь того века смотрела ее с восторгом, но что изумляет и что дает представление о свежей мощи Ренессанса и его богатой способности усваивать наивысшую культуру, это то обстоятельство, что «Гамлет» сделался столь же популярен в низших слоях общества, как и в высших. Любопытным доказательством популярности трагедии и самого Шекспира в следовавшие непосредственно за ее появлением годы могут служить заметки в корабельном журнале капитана Килинга, сделанные в сентябре 1607 г на корабле «Дракон», встретившемся перед Сьерра-Леоне с другим английским судном, «Гектором» (капитан Хокинс), на пути в Индию. В этом журнале значится:
«Сентября 5 дня (у Сьерра-Леоне) я, в ответ на приглашение, послал на «Гектор» своего представителя, который там завтракал; после этого он вернулся ко мне, и мы давали трагедию о Гамлете. – (Сент.) 30. Капитан Хокинс обедал у меня, после чего мои товарищи играли «Ричарда Второго». – 31 (?). Я пригласил капитана Хокинса на обед из рыбных блюд и велел сыграть на корабле «Гамлета», что я делаю с той целью, чтобы удержать моих людей от праздности, пагубной игры и сна».
Кто мог бы представить себе «Гамлета» спустя три года после его выхода в свет столь известным и столь дорогим для английских матросов, находившихся в дальнем плавании, что они были в состоянии играть его для собственного удовольствия, и играть чуть не экспромтом? Можно ли вообразить более крупное доказательство самой громкой популярности? Трагедия о датском принце, разыгрываемая простыми английскими моряками на западноафриканском берегу, разве это не характерная иллюстрация культуры Возрождения? К сожалению, по всей вероятности, Шекспир ничего не знал об этом.
Возрастающее значение Гамлета в последующие века соответствует его значению для современников. В поэзии девятнадцатого столетия весьма многое ведет от него свое происхождение. Гёте истолковал и пересоздал его в «Вильгельме Мейстере», и этот пересозданный Гамлет напоминает собою Фауста. Когда Фауст был пересажен на английскую почву, тогда возник Манфред Байрона, как настоящий, хотя и отдаленный потомок датского принца. В самой Германии байроновский характер получил новую гамлетовскую (собственно, йориковскую) форму в едком и фантастическом остроумии Гейне, в его ненависти, его юморе и умственном превосходстве. Берне первый изъясняет Гамлета, как немца современной ему эпохи, постоянно вращающегося в заколдованном круге и не находящего удобного момента для действия. Однако он чувствует темноту пьесы, и у него встречается следующее тонкое выражение: «Над картиной висит флер. Мы хотели бы снять его, чтобы лучше рассмотреть картину, но сам флер набросан той же кистью».
Поколение, к которому во Франции принадлежал Альфред де Мюссе, и которое он изображал в своих «Confessions d’un enfant du siecle», – нервное, воспламеняющееся, как порох, с преждевременно подрезанными крыльями, без поприща для своей жажды деятельности и без энергии в проведении своей исторической задачи, многим и многим напоминает Гамлета. И самый, быть может, превосходный из мужских образов Мюссе, Лорензаччио, делается французским Гамлетом, опытным в притворстве, медлительным, остроумным, мягким в обращении с женщинами и, тем не менее, оскорбляющим их жесткими словами, болезненно стремящимся искупить каким-нибудь действием ничтожность своей дурной жизни и действующим слишком поздно, без всякой пользы, в порыве отчаяния.
Гамлет, бывший за несколько столетий до того молодой Англией и представлявшийся некоторое время для Мюссе молодой Францией, сделался в сороковых годах тем именем, которым, по пророческому слову Берне, окрестила себя Германия. «Гамлет, – пел Фрейлиграт, – это Германия, в ворота которой строго и безмолвно каждую ночь входит погребенная свобода».
Одновременно с этим, но особенно спустя лет двадцать после того, гамлетовский образ, в силу родственных политических условий, приобрел преобладающее влияние и в русской литературе, где его можно проследить, начиная с произведений Пушкина и Гоголя и кончая Гончаровым и Толстым, между тем как в творчестве Тургенева он прямо занимает главное место. Но миссия мстителя в сознании Гамлета отсутствует здесь; центр тяжести перенесен на несоответствие между мыслью и делом вообще.
И во время расцвета польской литературы в этом столетии был момент, когда поэтам хотелось сказать: Гамлет – это мы. Глубокие черты его характера встречаются около половины текущего столетия у всех польских поэтических умов, у Мицкевича, Словацкого, Красинского.
С самой юности они находятся в его положении. В их мире связь времен распалась, и они должны вновь связать ее своими слабыми руками. Все они, как Гамлет, чувствуют силу своего внутреннего пламени и свое внешнее бессилие; благородные по рождению и по образу мыслей, смотрящие на окружающий их строй, как на один великий ужас, склонные в одно и то же время к мечтам и к действию, к рефлексии и опрометчивым поступкам.
Как Гамлет, видели они свою мать, страну, которой они обязаны жизнью, в руках чуждого властителя. Двор, доступ к которому им порой открывается, пугает их, как двор Клавдия путает датского принца, как двор в «Искушении» Красинского пугает молодого героя поэмы. Эти потомки Гамлета жестоки, как и он, к своей Офелии, они покидают ее, когда она их любит всего горячее; подобно ему и они отправляются в ссылку, в далекие, чужие земли, и когда они говорят, они притворяются, как и он, облекают в метафоры и аллегории смысл своих речей. К ним подходят слова Гамлета о самом себе: «Берегись, во мне есть что-то опасное».
Специально польская черта в них – это то, что не рефлексия, а поэзия отнимает у них силы и ставит перед ними преграды. Тогда как немцы этого типа гибнут жертвой рефлексии, французы – жертвой распутства, русские – жертвой лени, иронического отношения к самим себе или малодушного отчаяния, поляков сбивает с пути и заставляет жить в стороне от жизни их воображение.
Характер Гамлета представляет, как известно, множество различных сторон. Гамлет – скептик, он – человек, осужденный на бездеятельность своей совестливостью или осторожностью, он – человек мозга, частью действующий нервно, частью, вследствие нервности, неспособный действовать, и, наконец, он – мститель, притворяющийся безумным для того, чтобы тем лучше совершить дело мести. Каждая из этих сторон проявляется у польских поэтов. Проблески чего-то гамлетовского встречаются во многих образах, созданных Мицкевичем, в Валленроде, Густаве, Конраде, Робаке. Густав говорит языком философского безумия; Конрад предается философским грезам; Валленрод и Робак в целях мести притворяются или надевают на себя чужой костюм, последний же из них убивает, как и Гамлет, отца своей возлюбленной. Гораздо более крупную роль играет гамлетовский характер у Словацкого. Его Корджан – это Гамлет, вдохновленный миссией мстителя, но не имеющий сил ее исполнить. Радикально задуманному польскому гамлетовскому типу у Словацкого соответствует консервативно задуманный Гамлет у Красинского. Герой «Небожественной комедии» Красинского имеет немало общих черт с датским принцем. Он наделен болезненной чувствительностью и воображением Гамлета. Он охотник до монологов и занимается драматическим искусством. У него крайне чуткая совесть, но он может совершать жестокие поступки. За нелепую мнительность его природы судьба карает его сумасшествием его жены, приблизительно так же, как Гамлета за его притворное безумие постигает кара в виде действительного помешательства Офелии. Но этого Гамлета снедает более современная пытка сомнения, нежели Гамлета эпохи Возрождения. Последний сомневается в том, есть ли дух, за которого он ополчается, нечто более, чем привидение. Когда граф Генрих запирается в «замке Пресвятой Троицы», он не уверен в том, что сама Пресвятая Троица есть нечто большее, чем призрак.
Иными словами, около двух с половиной веков после того, как образ Гамлета зародился в фантазии Шекспира, мы видим его живущим в английской и французской литературе и, как тип, властвующим над умами немецкого и двух славянских народов. И теперь, через 300 лет после его появления на свет, он поверенный и друг скорбящих и мыслящих людей во всех странах. В этом есть что-то необычайное. Таким проникновенным взором заглянул здесь Шекспир в недра своего собственного существа, а с тем вместе и в недра человеческой природы, и так уверенно и смело изобразил он во внешних чертах то, что видел, что целые века после того люди различных стран и различных племен чувствовали, как его рука лепила, словно воск, их природу, и в его поэзии видели, как в зеркале, свое собственное отражение.
Глава 44
Драматургия в «Гамлете». – Шекспир, Кемп и Тарлтон
Помимо всего прочего, «Гамлет» дает нам возможность неожиданно ознакомиться со взглядами Шекспира на его собственное искусство, как поэта и актера, и с положением и условиями его театра в 1602–1603 гг.
Если мы внимательно прочтем слова принца к актерам, то получим живое представление о том, почему современники Шекспира постоянно подчеркивают сладкий, медоточивый характер его искусства. Нам он может казаться размашистым, потрясающе патетическим, переступающим все пределы сравнительно с современными ему художниками, и не только такими стремительными и напыщенными, как Марло в начале своей карьеры, но и со всеми; он сдержан, умерен, исполнен прелести, эстетичен, как сам Рафаэль. Гамлет говорит актерам:
Если ты будешь кричать, как многие из наших актеров, так это будет мне так неприятно, как если бы мои стихи распевал разносчик. Не пили слишком усердно воздух руками, вот так; будь умеренней. Среди потока, бури и, так сказать, водоворота твоей страсти должен ты сохранять умеренность: она придаст тебе приятности. О, мне всегда ужасно досадно, если какой-нибудь дюжий, длинноволосый молодец разрывает страсть в клочки, чтобы греметь в ушах райка, который не смыслит ничего, кроме неизъяснимой немой пантомимы и крика. Такого актера я в состоянии бы высечь за его крик и натяжку. Пожалуйста, избегай этого».
1-й актер. Ваше высочество можете на нас положиться.
Гамлет. Не будь, однако же, и слишком вял; твоим учителем пусть будет собственное суждение…
Логически теперь должно бы следовать предостережение против опасностей чрезмерной мягкости. Однако, его нет. Вместо того, далее говорится.
Мимика и слово должны соответствовать друг другу; особенно обращай внимание на то, чтобы не переступать за границу естественного. Все, что изысканно, противоречит намерению театра, цель которого была, есть и будет отражать в себе природу; добро, зло, время и люди должны видеть себя в нем, как в зеркале. Если представить их слишком сильно или слабо, – конечно, профана заставишь иногда смеяться, но знатоку досадно; а для вас суждение знатока должно перевешивать мнение всех остальных. Я видел актеров, которых превозносили до небес, и что же? В словах и походке они не походили ни на христиан, ни на жидов, ни вообще на людей; выступали и козлогласовали так, что я подумал, какой-нибудь поденщик природы наделал людей, да неудачно. Так ужасно подражали они человечеству.
1-й актер. У нас это редко встретится, надеюсь.
Гамлет. Уничтожьте вовсе!
Таким образом, хотя Гамлет, по-видимому хочет в равной степени предостеречь против чрезмерной пылкости и чрезмерной вялости, предостережение против вялости тотчас же, однако, переходит снова в просьбу избегать преувеличения «козлогласованием», – того, что в настоящее время мы называем высокопарной трагической декламацией. Более всего заботят Шекспира опасности, сопряженные не с мягким, а с бурным исполнением.
Как мы уже ставили на вид, Шекспир выражает здесь не только свои стремления вообще, как драматурга, но дает формальное определение сущности драмы и обозначает ее цель, и, что довольно знаменательно, это определение точь-в-точь совпадает с тем, которое одновременно Сервантес в «Дон-Кихоте» вкладывает в уста священнику: «Комедия, – говорит этот последний, – должна быть, по мнению Туллия, зеркалом для человеческой жизни, образцом для нравов, изображением истины».
Шекспир и Сервантес, покрывшие блеском славы одну и ту же эпоху и умершие в один и тот же день, не знали о существовании друг друга, но, согласно с духом времени, заимствовали свое основное определение драматического искусства у Цицерона. Сервантес прямо говорит это; Шекспир, не желавший заставлять своего Гамлета щеголять ученостью, намекает на это словами «цель которого была, есть и будет».
И подобно тому, как устами Гамлета Шекспир высказался здесь о неизменной сущности и цели своего искусства, так, в виде исключения, он излил здесь свои временные художнические огорчения, свое уныние по поводу положения, в котором как раз в этот момент находился его театр. Мы уже касались выше сетований поэта на конкуренцию, в которую именно в это время вступила с шекспировским актерским товариществом детская труппа из хоровой школы собора св. Павла, игравшая на сцене Блэкфрайрского театра. Эти сетования нашли себе выражение в разговоре Гамлета с Розенкранцем. В них слышится такая досада, как будто шекспировская труппа на некоторое время совсем пришла в упадок. Много, наверное, способствовало этому то обстоятельство, что самый популярный ее талант, знаменитый комик Кемп, как раз в 1602 г. покинул ее и, как мы уже упоминали, перешел в труппу Генсло. Кемп с самого начала играл все крупные комические роли в пьесах Шекспира – Петра и Балтазара в «Ромео и Джульетте», Шалло в «Генрихе IV», Ланселота в «Венецианском купце», Клюкву в «Много шума из ничего», Оселка в комедии «Как вам угодно». Теперь, когда он перешел на сторону врага, его отсутствие горько оплакивалось труппой.
Его описание «Чуда девяти дней» и заносчивое посвящение книги показывают нам, каким самомнением он был заражен. Гамлет дает нам понять, что Кемп весьма часто раздражал Шекспира своей дерзостью, выражавшейся в его прибавлениях и импровизациях. В прежние времена комики могли, как о том свидетельствует текст пьес, так же свободно распоряжаться своими ролями, как итальянские актеры в импровизированной народной commedia delFarte. Богатое и безукоризненное искусство Шекспира не оставляло места для подобного произвола. Теперь, когда Кемп ушел из труппы, поэт из уст Гамлета послал ему вдогонку следующую стрелу:
Да и шуты пусть не говорят, чего не написано в роли: чтобы заставить смеяться толпу глупцов, они хохочут иногда сами в то время, когда зрителям должно обдумать важный момент пьесы это стыдно и доказывает жалкое честолюбие шута
Как видит читатель, эта выходка имеет, в сущности, общий характер, поэтому она могла быть сохранена, когда Кемп вернулся. Зато в следующих изданиях (значит, и в пьесе) вычеркнута другая, гораздо более резкая и несравненно более личная выходка, находящаяся в издании 1603 г., но оказавшаяся уже неуместной после возвращения блудного сына. Она трактует о комике, выдумки которого так популярны, что записываются джентльменами, любящими посещать театр; приводится целый ряд крайне слабых образчиков его шутовских речей, чистого буффонства клоуна из цирка, и, наконец, Гамлет добивает злополучного комика словами, что ему никогда в жизни не сказать остроты, как не поймать зайца слепому.
Известно, что артиста не так легко раздражить нападками на него самого, сколько горячими похвалами по адресу его товарищей по амплуа. Поэтому едва ли можно сомневаться в том, что Шекспир, заставляя Гамлета восхвалять умершего Йорика, имел в мыслях умершего Тарлтона, симпатичного и знаменитого предшественника Кемпа. Если бы Шекспир не имел известного умысла, определяя попавший ему в руки череп шута, то было бы так же натурально заставить этот череп принадлежать какому-нибудь старому служителю Гамлета. Но если поэт в первые годы своей деятельности на театральном поприще знал лично Тарлтона, и если грубое поведение Кемпа оживило в его памяти очаровательный юмор его предшественника, то естественно было с выходкой против Кемпа соединить горячее восхваление великого комика.
Тарлтон был похоронен 3 сентября 1588 г. Это вполне совпадает с указанием в первом издании in-quarto, что Йорик пролежал в земле около двенадцати лет. И лишь благодаря этому нам становится вполне понятен сильный взрыв чувства у Гамлета:
Я знал его, Горацио; это был человек с бесконечным юмором, с дивной фантазией. Тысячу раз носил он меня на плечах, а теперь – как отталкивают мое воображение эти останки! Мне почти дурно! Тут были уста, – я целовал их так часто! Где теперь твои шутки? Твои ужимки? Где песни, молнии острот, от которых все пирующие хохотали до упаду?
«Увы, бедный Йорик!» Сердечное восклицание, вырвавшееся по поводу его у Гамлета, сохранит бессмертной его память и тогда, когда позабудутся его изданные в свет фарсы. Он был народный шут, и шут придворный, и шут на сцене, всюду одинаково любимый; о нем рассказывают, что он говорил Елизавете больше истин, чем все ее капелланы, и лучше всех ее врачей умел лечить ее меланхолию.
Таким образом, в «Гамлете» Шекспир не только высказался с полной откровенностью о театральных делах, но произнес похвальное слово замечательному актеру после его смерти и дал великий пример доброго и достойного обхождения с даровитыми актерами при их жизни. Его датский принц стоит выше вульгарного предубеждения против них. Наконец, Шекспир прославил здесь саму драматическую поэзию, служение которой было делом, наиболее близким его сердцу, и наполняло собой всю его жизнь, прославил ее, сделав здесь драму радикальным средством, с помощью которого истина выходит наружу, так что справедливость может восторжествовать. Представление пьесы об убийстве Гонзаго есть та ось, вокруг которой вращается трагедия. С той минуты, как король себя выдал, прекратив представление, Гамлет знает все, что хотел знать.
Когда Иаков вступил на престол, «Гамлет» получил еще новый и живой интерес вследствие того, что королева Анна была датская принцесса. На великолепном празднике, устроенном 15 марта 1604 г. в честь короля Иакова, королевы Анны и принца Генри-Фредерика по поводу их торжественного въезда из Тауэра в Уайтхолл через Сити, с трибуны, воздвигнутой рядом с церковью St.-Mildred, был весьма оживленно и эффектно исполнен девятью трубами и одним барабаном датский марш «для того, чтобы угостить королеву музыкой ее родной страны». Что это был за марш, теперь неизвестно, но нет никакого сомнения, что с тех пор он стал играться во 2-й сцене 5-го акта «Гамлета», где введена трубная и барабанная музыка и где в наши дни в Theatre Francais так наивно играют «Kong Christian stod ved hojen Mast». «Kong Christian stod ved hojen Mast» (король Христиан стоял у высокой мачты) – современный датский гимн, сочиненный Иоганнесом Эвальдом в 1744 г. (он вставлен поэтом в его пьесу «Рыбаки») и положенный на музыку еще позднее Гартманном. Следовательно, в «Гамлете» этот гимн является комическим анахронизмом.
Глава 45
«Конец – делу венец». – Выходки против пуританства
Когда вследствие конкуренции дела труппы находились в том плачевном состоянии, о котором Шекспир говорит в таких горьких словах в «Гамлете», тогда оказалось необходимым поставить несколько комедий, чтобы внести некоторое разнообразие в репертуар мрачных трагедий, соответствовавших как нельзя лучше тогдашнему настроению поэта. Итак, пришлось поневоле писать комедии. Но время, когда был создан «Сон в летнюю ночь», миновало давно; душевное состояние, в котором была написана пьеса «Как вам угодно», оказалось давно пережитым, хотя с тех пор прошло вовсе не так много лет. Однако не было другого выбора. И вот Шекспир принимается за переделку старых литературных работ. Он обрабатывает пьесу «Вознагражденные усилия любви», о которой мы говорили выше. Первоначальная редакция этой пьесы нам в точности неизвестна. Мы можем теперь только выделить те рифмованные, юношески непристойные отрывки, которые принадлежали, без сомнения, к первому очерку. В заключительной реплике пьесы содержится, по-видимому, намек на ее первоначальное заглавие:
This is done.
Will you be mine, now you are doubly won!
(Дело сделано
Вы будете моею; теперь Вы вдвойне добыты).
Когда Шекспир приступил в молодые годы к разработке этого сюжета, он хотел сделать из него, без всякого сомнения, комедию. Теперь из этой темы не вышло комедии. То время, когда главная сила Шекспира заключалась в его комизме, прошло. Если нетрудно вообразить, что его последующие трагедии могли быть написаны Гамлетом, если бы он остался в живых, то автором двух пьес «Конец – делу венец» и «Мера за меру» мог быть Жак.
Во многих местах пьесы «Конец – делу венец», особенно в первых двух действиях, чувствуется очень явственно, что Шекспир приступил к этой работе тотчас после Гамлета.
В первой сцене графиня упрекает Елену за то, что она слишком беззаветно горюет о покойном отце. Точно так же порицает король Гамлета за то упорство, с которым он предается тоскливым воспоминаниям об усопшем отце. Далее, наставления, которые дает графиня сыну, отправляющемуся путешествовать во Францию, напоминают поучительные советы Полония, обращенные к уезжающему Лаэрту. Графиня говорит[16]16
Перевод Вейнберга.
[Закрыть]:
…Пусть будут
Твои дела достойны твоего
Высокого рожденья. Всех на свете
Люби, мой сын, немногим только верь.
И никого не обижай; будь страшен
Своим врагам, лишь силою своей,
А не ее употребленьем; друга,
Как жизнь свою, храни! Пускай тебя
В молчанье упрекают, лишь бы только
В болтливости ты не был обвинен.
Вспомните наставления Полония:
Не говори, что мыслишь,
И мысль незрелую не исполняй.
Будь ласков, но не будь приятель общий.
Друзей, которых испытал, железом
Прикуй к душе, но не марай руки,
Со всяким встречным заключая братство.
Остерегись, чтоб не попасться в ссору,
Попал – так чтобы враг остерегался;
Всех слушай, но не всем давай свой голос!
Обратите также внимание на многочисленные выходки против царедворцев и против придворной жизни, сближающие эту драму с «Гамлетом». Трудно представить себе лучший комментарий к известной сцене, где Полоний готов по желанию Гамлета найти, что облако похоже на верблюда, или хорька, или кита, или где Озрик, «принимавшийся и за грудь матери не без комплиментов», произносит свои заученные, кудряво-витиеватые фразы, нежели то место в нашей комедии (II, 2), где шут характеризует графине придворную жизнь такими словами:
Ну, да согласитесь, ваше сиятельство, что кого Бог наделил хорошими качествами, тот при дворе их может отложить в сторону. Кто не умеет шаркнуть ножкой, снять шляпу, поцеловать свою руку и сказать хоть какой-нибудь вздор – у того нет ни ног, ни рук, ни губ, ни шляпы и, говоря точнее, такой молодец для двора не годится!
Кое-где попадаются также обороты речи, напоминающие знаменитые реплики Гамлета. Так, в словах, с которыми Елена обращается к первому дворянину:
Thanks, sir, all the rest is mute.
(Благодарю вас, сэр; все остальное немо) —
невольно вспоминаются незабвенные предсмертные слова Гамлета:
The rest is silence.
(Остальное – молчание).
К более внешним признакам, позволяющим также приурочить эту пьесу к 1602 или 1603 г., относятся осторожные, тонкие нападки на пуритан, проходящие красной нитью через всю пьесу и показывающие, что в это время в душе Шекспира бушевало негодование на модное, чисто показное благочестие. Трагедия «Гамлет» рисует нам портрет первоклассного ханжи. Обратите, например, внимание на следующий ядовитый намек (III, 2):
Гамлет. Посмотрите, как весело смотрит матушка, а ведь и двух часов нет, как скончался отец мой.
Офелия. Нет, принц, уже четыре месяца.
Гамлет. Так давно уж! Так пусть же сам сатана ходит в трауре; я надену соболью мантию. Боже! Уже два месяца как умер и еще не забыт. Так можно надеяться, что память великого человека переживет его целым полугодом. Но, клянусь, он должен строить церкви, если не хочет, чтобы его забыли, как прошлогодний снег!
И здесь, в комедии «Конец – делу венец», Шекспир также имеет постоянно в виду своих святошествующих врагов. Он смеется устами шута как над протестантскими, так и над католическими фанатиками. Они исповедуют, правда, различную веру, однако в семейной жизни оба одинаково несчастны. Шут восклицает (I, 3):
Молодой пуританин Чарбон и старый папист Пойзам, как ни разнятся их сердца в вопросе о религии, головами все-таки сходятся между собой; они могут сшибиться рогами, как олени в стаде.
Несколько дальше он говорит:
Хотя честность не пуританка, но на этот раз она не сделает ничего дурного Она согласится надеть стихарь смирения на черную рясу своего гордого сердца!
Когда Лафе рассказывает Паролю о чудесном исцелении французского короля благодаря Елене, он смеется над теми, которые готовы увидеть в этом факте благодарный сюжет для религиозного трактата:
Лафе. Нет сомнения, что для света это новость.
Пароль. Непременно новость. Если хотите представить себе это наглядно, прочтите, как бишь это называется.
Лафе. «Проявление небесной силы в земном актере!»
Шекспир находил, по-видимому, большое наслаждение осмеивать вычурные заглавия благочестивых пуританских трактатов.
В этой политической тенденции, отмечающей одинаково «Гамлета», «Конец делу венец» и «Меру за меру», и в этой резкой оппозиции против все возраставшей религиозной строгости и религиозного ханжества многие видели, не без основания, красноречивое доказательство того, что Шекспир разделял в этот период недовольство правительства пуританами и папистами.
Хотя пьеса «Конец – делу венец» не дышит истинной веселостью, однако она напоминает во многих отношениях настоящие комедии Шекспира. Некоторые подробности сюжета похожи на «Венецианского купца». Подобно тому как Порция, переодетая адвокатом, выманивает у Бассанио перстень, который тот отдает так неохотно, так точно Елена, принимаемая в ночной темноте за другую, получает кольцо, которое она уже отчаялась когда-нибудь получить. В заключительной сцене как Бертрам, так и Бассанио должны признаться, что перстень – не у них. Оба одинаково негодуют на себя за эту потерю, и в обоих случаях развязка заключается в том, что кольца оказываются в руках их же собственных жен.
Однако еще более тесная связь существует между сюжетом этой пьесы и сюжетом комедии «Укрощение строптивой», хотя отношения тут совершенно обратны. В «Укрощении строптивой» мы видим, как мужчина покоряет сердце женщины качествами и свойствами своего пола, т. е. физической силой, грубостью, хладнокровием, бранью и ворчливостью. Напротив, в пьесе «Конец делу венец» автор рисует нам картину, как женщина привлекает к себе мало-помалу свойственными ее полу добродетелями и пороками, т. е. кротостью, добротою, хитростью, мужчину, избегающего ее так же искренно и решительно, как сопротивляется Катарина Петруччио. В обоих случаях молодые люди уже обвенчаны, прежде чем собственно действие открывается. Но так как Шекспир воспользовался для «Укрощения строптивой» старой комедией, а для пьесы «Конец – делу венец» – новеллой Боккаччо о «Джилетте из Нарбонны», переведенной в 1566 г. в сборнике Пентера «Дворец удовольствий», то не следует говорить о преднамеренном контрасте. Последний сюжет заинтересовал Шекспира главным образом потому, что давал ему возможность воспроизвести следующее редкое явление: молодая женщина сама ухаживает за мужчиной и тем не менее не лишается прелести своего пола.
Шекспир обрисовал фигуру Елены с какой-то нежной любовью. Словно пером его водило чувство сострадания, смешанного с удивлением. Глубокая искренняя симпатия веет в этой характеристике женщины, страдающей оттого, что ею пренебрегают. Шекспир знал по собственному опыту, как это больно. Все существо Елены дышит рафаэлевской красотой. Она привлекает и очаровывает всех при своем первом появлении. Все от нее в восторге, старики и молодежь, женщины и мужчины, все, исключая Бертрама, который ей дороже жизни. Король и старый Лафе самого высокого мнения о ней и о ее достоинствах. Мать Бертрама любит ее, как собственную дочь, даже больше, чем своего сына. Вдова итальянка так очарована ею, что едет с ней на далекую чужбину, чтобы только вернуть ей мужа.
Елена предпринимает все, чтобы только сблизиться снова с возлюбленным. Она показывает при этом такую изобретательность, которую редко можно найти в женщине. Она чистосердечно признается, что поехала лечить короля больше ради того, чтобы повидаться с Бертрамом. Как и в новелле, она получает от короля позволение выбрать, в случае удачного лечения, мужа среди придворных. Но у Боккаччо король наводит героиню на эту мысль, в пьесе – она сама выражает это желание. Так страстно любит она того, кто не уделяет ей ни одной мысли, не дарит ее ни одним взглядом. Когда он отрекается от нее, она не желает – в противоположность Джилетте – достигнуть насилием своей цели. Просто, бескорыстно, благородно восклицает она:
Исцелены вы, государь, и этим
Я счастлива. Об остальном прошу
Не хлопотать.
Когда Бертрам объявляет ей после свадьбы, что должен ее покинуть, она не возражает, она не желает даже разоблачать его предлога; когда он отказывает ей перед разлукой в поцелуе, она страдает, но страдает безмолвно. Когда она впоследствии узнает всю истину, она так поражена, что может произносить только отрывочные фразы и восклицания: «Мой супруг уехал навсегда!» – «Страшный приговор». – «Это горько» (III, 2). Она покидает родной очаг, чтобы не быть помехой, если ему вздумается вернуться. У нее гордый и твердый характер; но трудно вообразить себе более искреннюю и кроткую любовь. Лучшие реплики Едены написаны поэтом в более зрелые годы, что доказывается некоторыми особенностями метра и отсутствием рифм. Обратите, например, внимание на те стихи (I, 1), где Елена рассказывает о том, как образ Бертрама вытеснил из ее памяти образ покойного отца:
…Фантазия моя
Рисует мне одно лицо – Бертрама.
Погибла я: с Бертрамом улетит
Вся жизнь моя. Ах, точно то же было б
Когда бы я влюбилася в звезду,
Блестящую на небе, и мечтала
О браке с ней. Да, так же высоко
Он надо мной стоит Сияньем ярким
Его лучей могу издалека
Я греть себя, но в сферу их проникнуть
Мне не дано. И так моя любовь
Терзается своим же честолюбьем.
Когда ко льву пылает страстью лань,
Исход ей – смерть. Как сладостно и вместе
Мучительно мне было целый день
Быть рядом с ним, сидеть и эти брови
Высокие, и соколиный взгляд,
И шелк кудрей чертить себе на сердце
Том сердце – ах! что каждую черту
Прекрасного лица воспринимало;
Так хорошо. Теперь уехал он
И след его боготвореньем
Я освящу.
Если вы сравните стиль этого монолога с некоторыми рифмованными репликами Елены, изобилующими словами и антитезами в эвфуэстическом духе, то вы сразу почувствуете различие и поймете, какой длинный путь прошел Шекспир с того времени, когда писал этим юношеским стилем. Здесь нет претензий на блеск и остроумие. Здесь говорит сердце, любящее просто и глубоко.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?