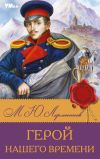Текст книги "Жизнь и смерть Михаила Лермонтова"
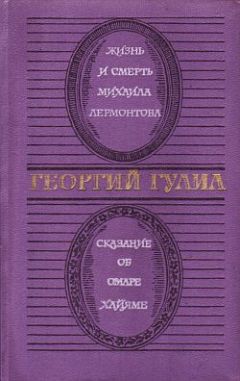
Автор книги: Георгий Гулиа
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
О глазах, о тяжелом взгляде поэта писали многие. Не думаю, чтобы приятель Панаева М. А. Языков (не путать с поэтом Н. М. Языковым) очень уж заинтересовал Лермонтова, притом настолько, что последний буквально не спускал с того глаз. Не вернее ли предположить, что поэт думал о своем и что «на пути его взгляда» случайно оказался Языков? Мне кажется, что от человека, который задумывал «Героя нашего времени», можно ожидать и не таких еще «странностей». Правда, я не считаю, что великие писатели должны непременно проявлять какую-либо «странность». Но разве углубиться в самого себя, в свои мысли даже на людях – такая уж это странность? Очень хорошо сказал о людях гениальных Сомерсет Моэм. Их он считал вполне нормальными, а всех прочих – отклонением от нормы.
Лермонтов писал Марии Лопухиной: «Я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга… Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими, как триумфом».
Поэт, казалось бы, на вершине славы. Он желанный гость даже там, куда его прежде не пускали. Тщеславие и самолюбие вполне удовлетворены. Лермонтов пишет совершенно откровенно об этом: «…Потому что я ведь тоже лев, да! я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы». Что же дальше? Может быть, так и плыть по этому «большому» течению светской жизни? К счастью, поэт этого не думает. Он недвусмысленно признается: «Я начинаю находить все это несносным». Ему снова хочется на Кавказ. Но на Кавказ, говорит поэт, не разрешили. «Не хотят даже, чтобы меня убили».
Как бы тесно ни был связан Лермонтов со «светским» обществом, с дворянством, которое в общем верховодило в этом обществе, поэт чувствует свое отчуждение. Он все-таки воитель, он все-таки непримирим с «жадною толпой, стоящею у трона». Как бы тесно ни связывала их общая пуповина – поэт не может найти общего языка с этими людьми, заполняющими великосветские салоны. Он угрюм, он нелюдим, у него дурной характер, он несносен… Но все это имеет прямое отношение только к его врагам, с которыми нет у него общих идеалов. И, наверное, никогда не будет, ибо чем дальше, тем «несноснее» становился характер поэта.
Краевский редактировал «Отечественные записки». С ним очень хорошо был знаком Михаил Лермонтов. Краевский первым напечатал поэта, сохранил многие его рукописи, рисунки и даже некоторые вещи, подаренные ему поэтом. (Я мельком уже говорил об этом.) Он достоин того, чтобы сказать о нем доброе слово, памятуя, что без хорошего, умного издателя писатель едва ли многого стоит. Особенно в наше время. Может быть, это сказано слишком сильно, но надеюсь, мои коллеги поймут меня.
Лермонтов – частый гость в кабинете Краевского. Он привозит сюда новые стихи. Он увозит отсюда новые, только что вышедшие книжки «Отечественных записок». В этом журнале принимали деятельное участие сам Белинский и многие видные литераторы того времени.
Панаев оставил нам описание одного случая. Случай этот очень любопытен. С одной стороны, он свидетельствует о творческой силе поэта, с другой – о мудрости его редактора. Я понимаю, что и то и другое имеет свои границы, но тем не менее…
Однажды утром заехал Лермонтов к Краевскому и привез ему новое стихотворение, которое начинается словами: «Есть речи – значенье темно иль ничтожно…» Я думаю, что многие знают наизусть это удивительнейшее произведение русской поэзии. Оно свидетельствует о гениальности его автора, а также о величайших возможностях русского языка. Это стихотворение нельзя постигнуть только разумом. Восприятие его должно идти и через сердце. Оно входит через вашу душу. И, не осознав еще полностью его великолепия и глубины, вы уже пьяны им и оно уже навсегда с вами. Таковы эти удивительные стихи.
Лермонтов прочел стихотворение Краевскому. Оно слишком лаконично, чтобы не привести его полностью. «Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желанья! В них слезы разлуки, в них трепет свиданья. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово; но в храме, средь боя и где я ни буду, услышав, его я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы ему я навстречу». Вот и все!
Лермонтов будто бы прочитал и ждал, что же скажет Краевский. И спросил нетерпеливо:
– Ну что, годится?..
– Еще бы! Дивная вещь.
Так ответил Краевский. Но у него было замечание. Всего одно: почему «из пламя и света», когда надо бы из «пламени и света»? Согласно грамматике.
Лермонтов задумался. Сел в сторонке. Взял перо. Но так ничего и не придумал. И сказал:
– Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук…
И Краевский напечатал. И представьте себе; сошло-таки с рук!
Лермонтов в редакции «Отечественных записок» встречается с Белинским. И не раз. А познакомились они еще на Кавказе, в Пятигорске, у Н. М. Сатина. Это было в 1837 году.
Однако Виссарион Григорьевич так и не раскусил тогда Лермонтова. И это просто удивительно. Не потому не раскусил, что плохо разбирался в людях, а потому, что Лермонтов претерпевал удивительные метаморфозы на пути от письменного стола к собеседнику.
Панаев пишет, что «Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило…»
Белинский становился в тупик.
– Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою, – говорил великий критик.
О Лермонтове не только судачат в петербургских салонах. Его хорошо знают литераторы. Его рукописные стихи читают студенты и разночинцы. Слава поэта идет по столице и выходит далеко за ее пределы. Разносят ее умные и просвещенные люди.
Василий Жуковский едет по железной дороге из Царского Села в Петербург с Виельгорским и читает по дороге «Демона» (еще неизданного). Записывает в своем дневнике: «5 ноября 1839, воскресенье. Обедал у Смирновой. Поутру у Дашкова. Вечер у Карамзиных. Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов». Панаев замечает: «Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями».
Да, верно, принадлежал к высшему обществу.
И не принадлежал.
«…Великий князь за неформенное шитье на воротнике и обшлагах вицмундира послал его под арест прямо с бала, который давали в ротонде царскосельской китайской деревни царскосельские дамы офицерам расположенных там гвардейских полков (лейб-гусарского и кирасирского), в отплату за праздники, которые эти кавалеры устраивали в их честь. Такая нерадивость причитывалась к более крупным проступкам Лермонтова и не располагала начальство к снисходительности в отношении к нему, когда он в чем-либо попадался».
Так пишет уже знакомый нам Лонгинов. И этот холодный, «беспристрастный» тон в его словах мне вполне понятен, если учесть, что именно Лонгинову принадлежит фраза: «Лермонтов был очень плохой служака». (Мы ее уже приводили.)
Но вот в декабре 1839 года его императорское величество отдает такой приказ: из корнетов – в поручики Лермонтова. И это за «ревность и прилежание» в службе.
Так кто же все-таки прав: Николай I или Лонгинов? Во всяком случае, ясно одно: первый живой поэт России Михаил Юрьевич Лермонтов наконец-то удостоен чина поручика.
А великий поэтический «чин»? Как же быть с ним? Это ему просто припомнят, когда снова сошлют в ссылку. Еще раз на Кавказ. В самую войну. Где черкесская пуля грозила сразить в зарослях кавказского предгорья…
Иван Сергеевич Тургенев знал Лермонтова. Сохранилось описание внешности поэта, принадлежащее его перу. Его нельзя не привести – столь оно выразительно и относится к тому периоду в жизни поэта, который мы сейчас рассматриваем. Вот оно, это описание:
«В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий… Внутренно Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза…»
Все это понятно, ибо речь идет не просто о гусарском офицере, но о поэте знаменитом. Это ему, поэту, не давали покоя пискливые маски.
Тургенев предположил, что, видимо, именно в эту минуту поэт задумывал свои поэтические произведения. В то время, когда ему не давали покоя. Когда казалось, что он особенно нелюдим и угрюм.
Евгений Баратынский расценил эти черты характера по-своему. «Что-то нерадушное, московское», – отметил он. «Человек без сомнения с большим талантом». Эти слова тоже принадлежат Баратынскому, поэту, другу Пушкина.
Лермонтов влюбляется в княгиню Марию Алексеевну Щербатову, урожденную Штерич. И не мудрено: красивая украинка могла пленить хоть кого. Об этом увлечении поэта по столице ходили даже анекдоты. Не удивительно: и Лермонтов и Щербатова слишком были на виду.
Поэт посвятил ей одно из своих замечательных стихотворений. Оно начинается так: «На светские цепи, на блеск утомительный бала цветущие степи Украйны она променяла…»
Насколько мне известно, Щербатова была последней любовью Лермонтова на милом севере. А может быть, по силе чувства – последней вообще.
Будучи на Кавказе, Лермонтов прислал свои стихи Краевскому. В 1837 году было напечатано стихотворение «Бородино». В 1838 году в условиях беспрерывных странствий по горам и долам Лермонтов окончательно обработал «Песню о купце…», которая была напечатана только после вмешательства Жуковского за подписью « – въ». Висковатов пишет по этому поводу: «Гр. Уваров, гонитель Пушкина, оказался на этот раз добрее к преемнику его таланта и славы… Все-таки разрешил печатание».
Когда же Краевский стал редактировать «Отечественные записки», выход которых возобновился 1 января 1839 года, Лермонтов сделался одним из активных авторов. В них он напечатал все свои основные прозаические произведения. Во второй и четвертой книжках появились «Бэла» и «Фаталист». Печатая «Фаталиста», «Отечественные записки» сообщали от себя: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе».
Вскоре к великим прозаическим творениям Гоголя и Пушкина присоединился «Герой нашего времени». Русская проза решительно продвинулась вперед, обретя большую психологическую глубину и утонченность.
Лермонтов столь же велик в прозе, сколь и в поэзии. Юрий Барабаш пишет: «Именно с Лермонтовым связано зарождение в русской литературе того направления, того течения, которое я условно назвал бы «неэвклидовым» и которое представлено Гоголем и Достоевским, я имею в виду лермонтовский напряженнейший драматизм, трагические противоречия, если угодно – даже изломы души, его огромную тягу к гармонии, цельности, чистоте (вспомните «Когда волнуется желтеющая нива…») и, вместе с тем, несомненную дисгармоничность его художественного и нравственного мира…»
Наряду с прозой, точнее, вместе с прозой, Лермонтов публиковал и стихи. Почти регулярно. О «Думе», написанной в это время, Белинский сказал следующее: «И кто же из людей нового поколения не найдет в нем разгадки собственного уныния, душевной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него своим воплем, своим стоном?» Это замечательная оценка! Есть еще одна оценка лермонтовской поэзии, данная Фридрихом Боденштедтом. Трудно пройти мимо нее, и я хочу привести ее здесь, хотя к автору ее мы еще вернемся. Вот она: «…Неопределенные теории и мечтания были ему совершенно чужды; куда ни обращал он взор(а), к небу ли, или к аду, он всегда отыскивал прежде твердую точку опоры на земле…» Боденштедт знал Лермонтова при жизни, хорошо понимал его поэзию и его поэтическую натуру.
Если до 1838–1839 годов Лермонтова сравнительно мало еще знала читающая публика, то после этих двух лет она близко познакомилась с ним по журнальным публикациям в пушкинском «Современнике» и «Отечественных записках».
Великолепным посредником в этом благородном деле был Краевский.
Стихи и проза поэта уже попадали в руки читателя. Конечно, мы должны ясно представить себе масштабы тех времен, когда тираж в несколько тысяч экземпляров считался вполне приличным, и тем не менее в России очень был велик интерес к поэзии. И самыми различными каналами, – среди которых важной была изустная информация, – сведения о поэтах и их произведениях проникали к широким слоям «читающей публики».
Я полагаю, что при всем критическом самоанализе Лермонтов хорошо понимал, кто он в русской поэзии. Он не мог не понимать. Отношение к нему Гоголя, Жуковского, Белинского и многих других корифеев русской литературы не должно было оставить в душе поэта никакого сомнения. Мне кажется, такие слова, как «преемник славы Пушкина», Лермонтов мог слышать не раз.
Стало быть, говоря по-нынешнему, ответственность его перед самим собой, перед собственным творчеством должна была повыситься. Я это в том смысле, что такой человек чуточку, – хотя бы чуточку, – должен поберечь себя ради любимого дела, ради родной литературы. Однако Лермонтов был слишком самим собой, чтобы беречь себя. Чего не было – того не было! Мы с вами сию минуту явимся свидетелями того, как слава поэтическая ничуть не сдержала взрывчатый характер и поведение поэта. Все осталось по-прежнему.
Муза в ответственные минуты «бытовых» перипетий слишком удалялась от Лермонтова.
Первая дуэль
Что такое дуэль?
Двое недовольных друг другом мужчин берут в руки кухенрейтеры и становятся у «барьеров». «Барьеры» могут быть на расстоянии десяти или пятнадцати шагов. По команде секундантов целят друг в друга и – стреляют. «Когда рассеется дым» – будет виден результат дуэли: кто убит, кто ранен или промахнулись оба… Особо жесткие условия дуэли описаны в «Герое нашего времени». Я напомню о них. Печорин говорит Грушницкому и его секундантам: «Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов». Итак, даже не десять, а шесть шагов! Расстояние, по-видимому, зависело от ожесточения противников.
Но дрались не только «на пистолетах». А шпаги? А сабли? Они тоже были в ходу. И достались они в наследство от времен д'артаньяновских. Если не ошибаюсь, именно от удара шпаги погиб на дуэли знаменитый французский математик Эварист Галуа. Это случилось с ним в двадцать один год. Все основные свои открытия он успел сформулировать в письме к другу за несколько часов до гибели…
В то время, которого касается наш рассказ, дуэли в России официально были запрещены. И тем не менее неугомонные и горячие головы продолжали стреляться и колоться. Приятно смотреть на подобное зрелище в кинотеатрах или читать у Дюма, но в жизни это, несомненно, было одной из форм изуверства и «законного» убийства. Мне грустно оттого, что приходится рассказывать о дуэли, в которой принял участие великий Лермонтов.
Дело обстояло так.
16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль произошло объяснение между Лермонтовым и сыном французского посланника в Петербурге Эрнестом де Барантом. Будто бы они оба ухаживали за графиней Щербатовой, причем счастье, кажется, повернулось лицом к Лермонтову. Молодая вдова благоволила к поэту. Особенно на балу у графини Лаваль. И это взорвало Баранта. Шан-Гирей пишет об этом так: «…Он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена».
Лермонтов не раздумывая отвечает французу (по словам Шан-Гирея):
– Это ничего не значит, я весь к вашим услугам.
Сам Лермонтов объясняет ссору в письме генерал-майору Плаутину таким образом: «…Господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного; я отвечал, что все ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такою же колкостью, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело. Тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались».
Лермонтов, несомненно, понимал истинную подоплеку дуэли. Он знал, что отец этого Баранта (обратите внимание – тоже посол!) выяснял в свое время, кого имел в виду Лермонтов в стихотворении на «Смерть Поэта» – одного ли Дантеса или «французов вообще». Лермонтов все это понимал и горячо выступил в защиту русской национальной чести. Он и не мог тут отступать.
Это случилось в среду. В четверг встретились секунданты. А в воскресенье дрались за Черной речкой.
Имеются материалы военно-судного дела, показания Лермонтова и Столыпина. Столыпин-Монго сообщал графу Бенкендорфу: «Несколько времени перед сим, л. г. гусарского полка поручик Лермонтов имел дуэль с сыном французского посланника барона де Баранта. К крайнему прискорбию моему, он пригласил меня, как родственника своего, быть при том секундантом. Находя неприличным для чести офицера отказаться, я был в необходимости принять это приглашение. Они дрались, но дуэль кончилась без всяких последствий».
Существует версия, что будто бы были приняты все меры для примирения дуэлянтов, но безрезультатно.
Какие же это меры? Кто принимал? Все это глухо доносится из мглы полутора столетий.
Что же касается «последствий» дуэли – они все-таки были: именно после дуэли Лермонтов снова оказался на Кавказе. Он уехал туда в ссылку, навстречу своей смерти.
Лермонтов прямо с Черной речки приехал к Краевскому. В воскресенье 18 февраля. Показал царапину. Панаев вспоминает: «Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский».
А что было за Черной речкой?
Лермонтова и Столыпина-Монго встретили Барант с его секундантом графом Раулем д'Англес. Положили драться на рапирах. «Дело» шло вяло. Наконец француз оцарапал Лермонтова ниже локтя. «Монго продрог и бесился». Стояли по колено в мокром снегу. Лермонтов попал острием в рукоятку рапиры Баранта, и рапира сломалась. Тогда принялись за пистолеты, поскольку один из дуэлянтов оказался безоружным. «Тот выстрелил и дал промах, – весело рассказывал Лермонтов Шан-Гирею, – я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались, вот и всё».
А если бы «не дал промаха»? Ведь бывало же и так? Например, 15 июля 1841 года…
Словом, Лермонтова арестовали. Содержался он в ордонанс-гаузе на Садовой улице. Кстати, это было недалеко от его квартиры.
18 апреля Александра Смирнова пишет Жуковскому: «Знаете ли вы, что Лермонтов сидит под арестом за свою дурацкую болтовню и неосторожность?.. до сих пор, еще дела его плохи… Софья Николаевна за него горой и до слез, разумеется». (Софья Николаевна Карамзина, дочь известного историка.)
Бабушка на ту пору была больна. Своим поступком Лермонтов явно не содействовал ее поправке.
В ордонанс-гауз никого не пускали – тюрьма все-таки. Но Елизавета Алексеевна добилась, чтобы разрешили Шан-Гирею навещать ее внука. Арестант не падал духом, читал стихи – например Шенье, Гейне и других, – играл в шахматы. Писал и сам стихи. Шан-Гирей указывает, что «Соседка» верно передает тюремную обстановку. На самом деле была соседка – дочь, притом хорошенькая, унтер-офицера. Лермонтов переговаривался с нею через решетку.
Именно в ордонанс-гаузе на Садовой произошла встреча с Белинским. Знаменитый критик навестил любимого поэта. Из сердца его до сих пор не испарился неприятный осадок от первой встречи с Лермонтовым в Пятигорске.
Чего ждал от этой встречи Белинский? Была ли это с его стороны простая вежливость? Или не мог он не повидать человека в беде, человека, чей талант был нужен русской литературе?
Опасался ли Белинский, что и на этот раз испытает чувство неудовлетворенности от встречи с Лермонтовым? Трудно сказать. Скорее всего, что да. Но не пойти он не мог, ибо Лермонтов был надеждой – великой надеждой – русской литературы!
Словом, Белинский проник к Лермонтову. Вернувшись, он рассказывал Панаеву:
– Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая?.. Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтере Скотте… Я смотрел на него – и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою… В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. И он перешел от Вальтера Скотта к Куперу… Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему…
Вот вам не какое-нибудь там царское или генеральское мнение о Лермонтове, но мнение самого Белинского. Можно ли сказать о человеке лучше и тоньше! Надо ли приводить еще какие-либо свидетельства о Лермонтове-человеке?!
Лермонтову в это время шел двадцать шестой год, а Белинскому было всего тридцать!
Лермонтов все еще сидел в ордонанс-гаузе. Бабушка болела, и болезнь ее усугубилась тревогою за судьбу внука. Шан-Гирей по-прежнему навещал Лермонтова, шахматные игры продолжались. Хотя бабушка и лежала, но тем не менее через своих знакомых делала все возможное для Михаила.
Военно-судное дело к весне закончилось и воспоследовало высочайшее решение: поручика Лермонтова сослать на Кавказ с переводом в армейский полк.
Что это значило? Изгнание – раз, тяготы армейской жизни плюс фронтовая обстановка плюс горские пули – два. Довольно суровое наказание для первого живого поэта России, только недавно вернувшегося из ссылки. А ведь современники писали: «Дуэль не имела дурных последствий». Может быть, эту главу можно было бы назвать так: «Первая и последняя дуэль»? Но мы-то знаем, что была и вторая. Последняя. И умер Лермонтов вовсе не от «черкесской пули», как ему многие пророчили. Смертоносная рука оказалась ближе – в собственном стане!
Жизнь поэта текла своим чередом, и слава его неслась и жила – своим. В этом одна замечательная особенность настоящей поэзии: человек умирает, но песни его остаются и живут.
Весною сорокового года в печати появились новые стихи Михаила Лермонтова, а главное – вышли первым изданием его «Повести». Они имели огромный успех: Лермонтов вознесся на самую высокую вершину литературного признания.
Как всегда, немедленно откликнулся Белинский. Он писал своему другу Василию Боткину: «Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь… О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина».
В другом месте Белинский пишет о Лермонтове тому же Боткину: «Он славно знает по-немецки и Гёте почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике. Кстати, дуэль его – просто вздор. Барант (салонный Хлестаков) слегка царапнул его по руке… Хочет проситься на Кавказ… Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его…»
Цензурное разрешение печатать роман «Герой нашего времени» было дано 19 февраля 1840 года. А поступила книга (первое издание) в продажу 3 мая. По еще до отъезда в Москву Лермонтов разослал своим друзьям свою книгу с надписями. Эти экземпляры, как видно, были авторские. А иначе он их не мог послать до 3 мая.
Белинский немедленно откликнулся на выход романа в свет. Он не мог не откликнуться. Не мог помедлить: не тот характер! И со всей страстью, всем пылом своей души великий критик выносит для всеобщего сведения свое суждение, которое навсегда останется образцом пристрастной объективности, образцом истины, если вообще можно говорить об истинах в литературе. «Наконец, среди бледных и эфемерных произведений русской литературы нынешнего года, – пишет Белинский, – произведений, из которых только разве некоторые имеют относительное достоинство, и только некоторые примечательные в отрицательном смысле, – наконец явилось поэтическое создание, дышащее свежею, юною, роскошною жизнью сильного и самобытного творческого таланта». Сказано точно и, несомненно, с учетом перспективы развития русской прозы. Далекой перспективы. Насколько хватал человеческий глаз. Это было сказано в «Отечественных записках». В 1840 году. И критик, полагая, что речь только-только началась о «Герое нашего времени», обещает читателю: «в отделении «критики» одной из следующих книжек «Отечественных записок» читатели найдут подробный разбор поэтического создания г. Лермонтова». Критик сдержал свое слово, и теперь мы не мыслим исследования творчества Лермонтова без статей Белинского. Воистину великая критика, достойная великого поэта!
Творчество Лермонтова – по форме, по сути самой, по подходу к явлениям общественной жизни – очень близко нам, людям второй половины двадцатого века. Леонид Мартынов в беседе со мной высказал любопытную мысль, которую я сейчас приведу. Он сказал: «Я Лермонтова, как это ни странно, постиг через современную поэзию, через Маяковского конкретно. В школе, как это бывает обычно, во мне росла неприязнь к классикам, которых приходилось учить наизусть. Приобщившись к годам четырнадцати к поэзии Маяковского, я вдруг «обнаружил» Лермонтова. Обнаружив, я полюбил его и его поэзию. Она стала мне близкой, как современная мне поэзия в ее лучших образцах».
Сергей Наровчатов пишет: «Иллюзия смыкается с действительностью, и Лермонтов живет среди нас… Сам я, когда писал эти заметки, почти физически ощущал, что Лермонтов жив и я живу рядом с ним».
Итак, Лермонтов уезжает на Кавказ. Он прощается со своими друзьями. И в первую очередь, разумеется, с Андреем Краевским. А. Панаева вспоминает: «У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз». Но не только. Далее мы читаем: «Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, переворошил у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась».
Примерно в это же время Лермонтов говорит графу Владимиру Сологубу на балу у графа Ивана Воронцова-Дашкова: «Послушай, скажи мне правду, слышишь – правду. Как добрый товарищ, как честный человек… Есть у меня талант или нет?.. говори правду».
Как всякому артисту в высоком смысле этого слова – даже Лермонтову, – нужно было признание, нужна была похвала. Требовалось ему дружеское слово, хотя и сам все прекрасно понимал. Да, и Лермонтов не мог обойтись без такого слова!
Перед своим отъездом из Петербурга поэт заехал проститься к Софье Карамзиной. Здесь были его друзья. Именно здесь, в этом доме, написал он стихи «Тучи». Написал стоя у окна, глядя на тучи. «Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную».
Висковатов, беседовавший с некоторыми участниками этого прощания, пишет: «Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажны от слез… Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома».
Так началась вторая ссылка Лермонтова на Кавказ. Апрельской порою 1840 года.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.