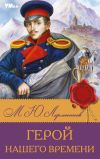Текст книги "Жизнь и смерть Михаила Лермонтова"
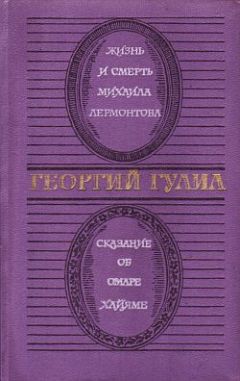
Автор книги: Георгий Гулиа
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
В Москве проездом на Кавказ
Опять, значит, по «прямой, как палка, дороге». Едет, едет, едет Лермонтов. Не шибко и не медленно. Особенно торопиться некуда. Да и незачем. Лето с каждым днем вступает в свои права. А точнее сказать – весна в полном разгаре, ведь уже конец мая… Тосно, Чудово, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Клин… Версты идут за верстами… День, ночь, день, ночь… Вот уж показалась Всехсвятская церковь… Скоро Москва…
Ехал по столбовой дороге провинившийся поручик Михаил Юрьевич Лермонтов. О чем думал он всю дорогу? Какие мысли посещали его? Чему улыбался в полудреме? Об этом мы можем только догадываться. Дневников он не вел. Ни для себя, а тем более – для потомства. Лермонтов жил, чтобы жить. По своему разумению. А не для того, чтобы оставлять «следы» для примечаний и комментариев академических сочинений.
Да, мы не знаем, о чем думал Лермонтов в эти дни. Но есть свидетельство Филиппа Вигеля. Он написал в Симбирск, что видел в Москве Лермонтова. «Ах, если б мне позволено было оставить службу, – сказал он мне, – с каким бы удовольствием поселился бы я здесь навсегда». Так якобы сказал поэт Вигелю. Мне кажется, что это близко к истине. А почему бы действительно не поселиться здесь Лермонтову, где он «родился, так много страдал, и там же был слишком счастлив».
Что же делает поэт в Москве?
Навещает родственников, друзей и просто знакомых. Его видят в великосветских салонах, в салонах литературных и просто салонах. И в ресторанах. В Яре, например. Я думаю, что в этом нет ничего особенного для молодого человека, обладающего достатком и вскоре готовящегося покинуть Москву. Покинуть, чтобы оказаться на «диком» Кавказе, где бог знает что может произойти с каждым. Тем более что идет война – нескончаемая, кровавая.
А. Мещерский вспоминает: «Лермонтов преприятный собеседник и неподражаемо рассказывал анекдоты».
«Вообще в холостой компании Лермонтов особенно оживлялся и любил рассказы, прерывая очень часто самый серьезный разговор какой-нибудь шуткой, а нередко и нецензурными анекдотами…»
Кто бы ни вспоминал Лермонтова, – в ком живо чувство юмора, – никто не говорит об оскорбительном тоне его речей. Только два-три человека в какой-то мере отмечают его язвительность. Да и те оговариваются, что Лермонтов тут же прекращал колкости и мигом извинялся, если замечал хотя бы подобие обиды на лице своего собеседника. Я хочу обратить особенное внимание именно на эту сторону его характера, ибо события двух-трех последних дней жизни поэта будут связаны с этой его чертой – действительной или выдуманной.
Можете вы представить себе Михаила Лермонтова оскорбляющим честь или достоинство своих друзей или просто собеседников? Того самого Лермонтова – автора «Маскарада», «Думы», «Смерти Поэта», «Героя нашего времени» и так далее, и так далее?
Думаю, что нет…
В Москве Лермонтов присутствовал на именинах Гоголя. Это любопытный момент. Гоголь счел нужным пригласить на обед молодого Лермонтова. Сергей Аксаков пишет в «Истории моего знакомства с Гоголем»: «Приблизился день именин Гоголя, 9-ое мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина… На этом обеде… были: И. С. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Арамфельд и Редкин и многие другие… Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно…»
А вот еще одно свидетельство, касающееся тех же именин. Оно принадлежит Юрию Самарину: «Я увидел его… на обеде у Гоголя… Это было после его дуэли с Барантом… Он узнал меня, обрадовался… Тут он читал свои стихи… Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление…»
Вот каким воспринимали его умные и проницательные люди. Это очень важное для нас обстоятельство. Его мы должны будем принять во внимание, когда вплотную подойдем к самому страшному событию в жизни поэта…
Гоголь, как это видно из вышеприведенных свидетельств, не только читал Лермонтова, но и знал его лично. Говорят, что и Пушкин читал Лермонтова, но в глаза не видел. Так же как Лермонтов Пушкина. Висковатов приводит высказывание Владимира Глинки о том, что якобы, прочитав некоторые стихи Лермонтова, Пушкин признал их «блестящими признаками высокого таланта». Белинский вскользь замечает, что Пушкин застал и якобы оценил талант Лермонтова. Все это, может быть, правда, по мы предпочли бы иметь на руках какое-либо письмо Александра Пушкина, адресованное, например, Краевскому.
Бывал в эти дни поэт и в доме Мартыновых в Москве. Имеются воспоминания князя Мещерского, в которых он описывает свою встречу с Лермонтовым в семье Мартыновых. (В это время сам Мартынов был на Кавказе.) Говорят, Мартынов перешел из гвардии в драгуны главным образом из-за великолепной кавалерийской формы. «Я видел Мартынова в этой форме, – пишет князь Мещерский, – она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой…» Это любопытное замечание: «был занят своей красотой…» И это о мужчине, об офицере! И заметьте – ни слова об уме, о духовных способностях. И такое не только у князя Мещерского, но и во всех других воспоминаниях о Мартынове.
Однажды, войдя в гостиную Мартыновых, Мещерский «заметил среди гостей какого-то небольшого роста пехотного армейского офицера, в весьма нещегольской армейской форме, с красным воротником без всякого шитья». Мещерский признается, что не обратил внимания на «бедненького офицера». Офицер, решил он, попал сюда, в «чуждое ему общество», совершенно случайно… Вечер шел своим чередом. «Я уже было совсем забыл о существовании этого маленького офицера, – продолжает князь Мещерский, – когда случилось так, что он подошел к кружку тех дам, с которыми я разговаривал. Тогда я пристально посмотрел на него и так был поражен ясным и умным его взглядом, что с большим любопытством спросил об имени незнакомца. Оказалось, что этот скромный армейский офицер был не кто иной, как поэт Лермонтов». Надо отдать должное князю: он умел подмечать самое главное в человеке. И он точно уловил разницу в характере и поведении Лермонтова и Мартынова.
Поскольку о пребывании поэта в Москве весною 1840 года не так уж много свидетельств, остановимся еще на письме публициста Самарина и записи В. В. Боборыкина.
19 июня 1840 года Самарин пишет, что «часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве». Вот его характеристика: «Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и неподдающаяся никакому внешнему влиянию индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, он уже вас насквозь раскусил; он все замечает, его взор тяжел, и чувствовать на себе этот взор утомительно».
Это очень важное свидетельство, важное – в смысле своей документальности. Оно сделано не задним числом, не десять или двадцать лет спустя, когда Лермонтов вполне сделался тем, чем останется он в веках. Это впечатление человека моментальное и написанное по горячим следам (19 июня 1840 года).
Трудно удержаться, чтобы не привести еще один отрывок из Самарина. Он пишет: «Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите, он вас самих слушает и наблюдает, и после того, как он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него чем-то совершенно внешним, не имеющим никакого права что-либо изменить в его жизни».
В «Трех встречах с Лермонтовым» Боборыкин говорит: «Не скрою, что глубокий, проницающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на переворот в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой, с горькими воспоминаниями о прошедшем». А «прошедшее» – это мотовство, «беспутное прожигание жизни», поездки к цыганам и загородные гулянья. «В ту пору наш круг так мало интересовался русской литературой», – признается Боборыкин.
Даже из этих отрывочных свидетельств о поэте вырисовывается умный человек. Таким его запомнили те, кто встречался с ним в Москве весною 1840 года.
Лермонтов выехал из города очень грустный и, может быть, со смутными предчувствиями надвигающейся беды. Впрочем, предчувствия эти никогда не оставляли поэта. Он побывает еще в любимой Москве. А покамест – на Кавказ.
Мне хочется привести одно примечательное место из «Бэлы». Я имею в виду тот отрывок, где Печорин говорит о своем переводе на Кавказ. Вот он: «…Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, – и мне стало скучнее прежнего…» Эти строки почти целиком можно отнести к самому Лермонтову.
Поэт прямой дорогой отправился под чеченские пули. Он не заезжал в Тарханы – бабушка оставалась до поры до времени в Петербурге. А что без бабушки Тарханы? 10 июня 1840 года Лермонтов прибыл в Ставрополь. Его назначили в Тенгинский полк. Товарищи полагали, что он появится в Анапе. Но дело решилось несколько иначе. М. Федоров пишет в «Походных записках на Кавказе» о Лермонтове: «К нам в полк не явился, а отправился в Чечню, для участия в экспедиции». Так на самом деле и было.
В Ставрополе поэта видел декабрист Николай Лорер. Лермонтов доставил ему из Петербурга письмо и книжку. Любопытно, что даже образованный Лорер мало что знал про Лермонтова. «…Он в то время, – пишет Лорер, – не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени», как и другие его сочинения, вышли позже». Сказать по правде, Лермонтов уже печатал некоторые свои вещи в «Современнике» и «Отечественных записках».
«Герой нашего времени» поступил в продажу 3 мая, и едва ли к середине июня «добрался» он до Ставрополя. А первый сборник стихов Лермонтова вышел только осенью. Поэтому неосведомленность ссыльного декабриста не кажется мне особенно предосудительной. «Из разговора с Лермонтовым, – вспоминает Лорер, – он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще…»
Что, собственно, странного в том, что «казалось» Лореру? Ведь это Лермонтов писал около того времени свою «Благодарность», обращенную к всевышнему: «За все, за все тебя благодарю я: за тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей; за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был… Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил». Это он, размышляя о жизни и смерти, писал в «Любви мертвеца»: «Что мне сиянье божьей власти и рай святой? Я перенес земные страсти туда с собой!..» Это он говорил: «И скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды…»
Его мысль залетала слишком высоко. Она парила вместе с Демоном над Кавказским хребтом. Страсти поэта накалялись и обжигали любого, кто прикасался к ним. Но бывало это все-таки в минуты особенные, редкие, я бы сказал. Он невольно продолжал играть ту, другую свою роль. Мало кто видел его в минуты вдохновения, когда он действительно был самим собой, то есть Поэтом. Лорер не был исключением. Не он первый, не он последний…
17 июня 1840 года Лермонтов подает первую весточку о себе с Кавказа. (Первую из дошедших до нас.) В Ставрополе стоит жара. Поэту невмоготу. И он обрывает свое письмо выразительным: «Ужасно устал… Жарко… Уф!»
Письмо адресовано Лопухину. Информация, содержащаяся в этом письме, очень любопытна: «Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля…» И далее шутливо: «…Надеюсь не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк!» Выясняется, что по дороге в Ставрополь поэт останавливался в Черкасске у генерала Михаила Хомутова, прожил у него три дня и побывал в театре.
«Что за феатр! – восклицает Лермонтов. – Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену – и ничего не видишь, ибо перед твоим носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад – ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо – ничего не видишь, потому что ничего нет; смотришь налево – и видишь в ложе полицмейстера…» В пятнадцати – двадцати строках дана великолепная картина затхлого провинциального театра: ничего лишнего, все точно, все определенно, сжато до предела, очень колоритно. Я бы на примере этого письма учил молодых людей тому, что есть художественная литература и что «краткость – сестра таланта». Лучшего образчика прекрасной прозы и сыскать невозможно!
Итак, Лермонтов отправился под чеченские пули.
Отряд под командованием генерала Аполлона Галафеева вышел из крепости Грозной и направился в Чечню. «Журнал военных действий», который якобы вел Лермонтов, дает некоторое представление об отряде и самом «деле».
Сначала об отряде. Он состоял из «двух батальонов пехотного его светлости, одного батальона Мингрельского и трех батальонов Куринского егерского полков, двух рот сапер, при 8-ми легких и 6-ти горных орудиях, двух полков Донских казаков, № 37 и 39-го и сотни Моздокского линейного казачьего полка…» В общем, для действий в горах – сила немалая.
На рассвете 6 июля отряд переправился через реку Сушку и вскоре вошел в ущелье Хан-Кала. Ближайшей целью его был аул Большой Чечен.
Отряд должен был вести действия истребительного характера: жечь посевы, разрушать аулы, уничтожать сады, убивать горцев. Весьма поощрялось «предание брошенных аулов пламени». Судя по победным реляциям, поставленные задачи выполнялись успешно: повсюду кровь, пепел, запустение. За собою отряд оставлял кладбищенскую тишину и мертвенность.
Вот, например, запись 7 июля: «Отряд, сжегши деревню Дуду-Юрт, следовал далее через деревню Большую Атагу к деревне Чах-Гери… Желая дать отдых кавалерии, которая… в этот день была занята истреблением засеянных полей до самого Аргунского ущелья… я решился переночевать в Чах-Гери». (Рассказ идет от лица генерала Галафеева.)
Деревня «Ашпатой-Гойта… мгновенно была занята и неприятель выбит из оной штыками… Деревня при уходе войск была сожжена…»
В этих боях отличились полковник барон Врангель, полковник Фрейтаг, лейб-гвардии поручик граф Штакельберг. И, разумеется, сам генерал-лейтенант Галафеев.
«9 июля. Войска дневали в лагере при Урус-Мартани. Чтобы воспользоваться этой дневкой, я утром послал восемь сотен донских казаков при двух конно-казачьих орудиях для истребления полей и сожжения деревни Таиб…»
«10 июля. Во время следования малые неприятельские партии вытеснены были из деревень Чурик-Рошни, Пешхой-Рошни, Хажи-Рошни и деревни эти сожжены, а принадлежащие им посевы истреблены совершенно…»
И так далее, и тому подобное…
И вот, наконец, 11 июля 1840 года. В «Журнале» читаем: «Впереди виднелся лес, двумя клиньями подходящий с обеих сторон к дороге. Речка Валерик, протекая по самой опушке леса, в глубоких, совершенно отвесных берегах, пересекала дорогу в перпендикулярном направлении, делая входящий угол к стороне Ачхой…»
Это и есть та самая река Валерик, которую сделал знаменитой на всю Россию Михаил Лермонтов. На берегах речки и разгорелся бой с чеченцами. Лермонтов принимал в нем непосредственное участие. Рискуя головой. Как храбрый и исполнительный офицер. Но рядом с офицером шел в бой и сам поэт. И нам приятно узнать, о чем он думал в эти часы.
«Я жизнь постиг, – говорит Лермонтов в «Валерике». – Судьбе, как турок иль татарин, за все я ровно благодарен… Быть может, небеса Востока меня с ученьем их пророка невольно сблизили…»
Так писал он, можно сказать, прямо на поле боя. В своем замечательном «поэтическом репортаже» с фронта боевых действий. Лермонтов, как и во всю свою жизнь, остался правдивым и здесь, на Валерике. В этой своей небольшой поэме он выступает как судья надо всем тем, что происходит под небом, «где места много всем». Вот что думает поэт, с грустью оглядывая поле боя: «Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он – зачем?»
Вот именно – зачем? И вопрос этот равно обращен к обеим сторонам. У Лермонтова нет к горцам никакой вражды. Нет желания победить во что бы то ни стало. Поэт размышляет, он судит человека, судит за то, что тот «один враждует».
А ведь жаль, очень жаль человека. Смотрите, как умирает он вдали от родных: «…Он умирал; в груди его едва чернели две ранки; кровь его чуть-чуть сочилась. Но высоко грудь и трудно подымалась, взоры бродили страшно, он шептал… «Спасите, братцы. Тащат в горы»… Долго он стонал, но все слабей, и понемногу затих – и душу отдал Богу…»
Вот картина, списанная с натуры, – набросок точный и страшный своей точностью: «Вон кинжалы, в приклады!» – и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть… (И зной и битва утомили меня), но мутная волна была тепла, была красна…»
Самое главное в «Валерике» – это правда, жестокая, но истинная правда. Поэт разглядел в этом военном эпизоде нечто большее, чем просто страшный эпизод. Как неподкупный судья, как поэт человеколюбивый в высоком смысле слова – он в заключение предоставляет слово не кому-нибудь, но чеченцу, чьи сородичи стоят по ту сторону Валерика: «…Галуб прервал мое мечтанье, ударив по плечу; он был кунак мой; я его спросил, как месту этому названье? Он отвечал мне: «Валерик, а перевесть на ваш язык, так будет речка смерти»… «А много горцы потеряли?» «Как знать? – зачем вы не считали!» «Да! будет, – кто-то тут сказал, – им в память этот день кровавый!» Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал».
Поручик видел дальше, значительно дальше, чем все генералы «левого фланга», вместе взятые. Его острый глаз проникал в такие тайники человеческой души, до которых могли добраться только люди избранные, только «пророки», – одним из которых и был Михаил Юрьевич Лермонтов.
По поводу «Валерика» Константин Симонов писал: «Главным уроком из Лермонтова для меня – и как для поэта и как для прозаика был и остался «Валерик». Вообще-то главный урок для меня – это Лев Толстой. Но я почему-то думаю, что для самого этого, недосягаемого для большинства русских прозаиков – лермонтовский «Валерик» тоже был в свое время одним из первых уроков мастерства и правды.
Сколько бы я ни перечитывал Толстого – ранние его Кавказские рассказы, «Севастопольские рассказы» или военные страницы «Войны и мира» – мне всегда вспоминается еще и «Валерик», как тот ручеек под Осташковом, с которого начинается Волга.
А если оценить «Валерик» поуже – только как стихи – то думаю, что во всей русской поэзии не было написано ничего равноценного о войне до тех пор, пока не появились через сто лет главы «Василия Теркина», такие же удивительные, как «Валерик».
Итак, когда я слышу: «Лермонтов», где-то внутри меня, как эхо, возникает: «Валерик».
Лермонтов – во всем правдив и точен. Он знает то, о чем пишет. Слишком много отдал он своей души и силы тому, с чем соприкасался: кресало ударяло о кремень и – высекалась искра! Он бился «с грудью грудь», над ним словно молнии сверкали сабли и острия кинжалов. Он смотрел в глаза смерти. Притом бесстрашно. И каждое слово его, и каждая мысль глубоко выстраданы. И писал он только после того, как все выстрадано. И не мог не писать. И вправе был сказать: «Что без страданий жизнь поэта, и что без бури океан?» И не только декларировал, но доказывал это ежедневно, ежечасно, всей жизнью своей – и смертью.
Александр Кривицкий пишет: «Во время войны я неотвязно перечитывал Лермонтова. Вот кто писал о войне по-военному – никакой условности старинных батальных гравюр, никакой мишуры, сладко питающей воображение недотеп, не нюхавших пороха. И только реальность военной страды, где условия человеческого существования – противоестественны, а превозмогаются лишь великой силой духа. Первые народные характеры на войне принадлежат в русской литературе Лермонтову».
Может быть, и впрямь правда, что ведение «Журнала военных действий» с 6 по 17 июля было поручено Лермонтову. Может быть, это вовсе не легенда. Кто мог бы, например, написать такие строки:
«Должно отдать также справедливость чеченцам: они исполнили все, чтобы сделать успех наш сомнительным; выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжение трех суток, неслыханный дотоле сбор в Чечне… удивительное хладнокровие, с которым они подпускали нас к лесу на самый верный выстрел, неожиданность для нижних чинов этой встречи – все это вместе могло бы поколебать твердость солдата…»
Но следующие строки едва ли принадлежат руке поэта: «Успеху сего дела я вполне обязан распорядительности и мужеству полковых командиров (перечисление) Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова и 19-й артиллерийской бригады прапорщика фон Лоер-Лярского, с коим они переносили все мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте, заслуживают особенного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозили всякому внезапною смертию». (Напомню – рассказ этот ведется от имени генерала Галафеева.)
«Эти походы, – писал Г. Филипсон, – доставили русской литературе несколько блестящих страниц Лермонтова, но успеху общего дела не помогли…» Я думаю, что это важное и компетентное заключение.
Лермонтов за «дело при Валерике» был представлен к ордену Станислава 3-й степени. Надо отдать должное генералу Галафееву: поначалу он испрашивал более высокую – орден св. Владимира 4-й степени с бантом. Награду снизило высокопоставленное начальство. А еще более высокое – вовсе отказало в награде.
Генерал-адъютант Павел Граббе представил позже Лермонтова «к золотой полусабле». Но поэт и ее не получил.
После «дела на Валерике» Лермонтов поехал в Пятигорск, чтобы отдохнуть и полечиться на водах. Я думаю, что за все время своего пребывания на Кавказе – в первую и вторую ссылки – поэт едва ли участвовал в «делах» более двух недель в общей сложности. Но это не значит, что не подвергался он опасности: ведь каждый куст, каждый камень в горах грозили верной смертью.
Походы явно были поэту не по душе. И через несколько месяцев он напишет письмо бабушке. Бабушка в это время находилась в Петербурге и, как всегда, хлопотала о внуке. Видно, Лермонтову очень хотелось в отставку. Торопит бабушку позондировать почву на этот счет. «А чего мне здесь еще ждать? – напишет он. – Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам». И, как всегда: «Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны…» Покойны? Это ей-то, бабушке, быть покойной, когда внук ее неизвестно где и за что бьется?
Самым важным в этом письме Лермонтова представляется мне желание его уйти в отставку. По-видимому, очень он этого хотел. К несчастью, мы не всегда являемся хозяевами своей судьбы. Такова уж жизнь…
Ранней осенью 1840 года Лермонтов снова в экспедиции. На этот раз – в последней. Отряд, в котором он находился, провел двадцать дней в Малой Чечне и возвратился в Грозную. Видно, и в этой экспедиции Лермонтов вел себя как храбрый офицер. Кажется, ему стали даже завидовать. Висковатов беседовал со Львом Россильоном и передал в своей книге его слова. Они довольно любопытны, отлично выдают солдафонскую сущность Россильона: «Лермонтова я хорошо помню. Он был неприятный, насмешливый человек, хотел казаться чем-то особенным. Хвастался своей храбростью, как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею!.. Он был мне противен необычною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука поэта… Гарцевал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на черкесские завалы…»
Лермонтов, вернувшись с отрядом в Грозную, разумеется, написал письмо Алексею Лопухину. И здесь он верен себе, точно, без обиняков пишет о себе и о своем отряде: «…Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда». И снова почти обычная жалоба на то, что «письма пропадают»: «Бог знает, что с вами сделалось; забыли, что ли? или пропадают? Я махнул рукой».
Лермонтов обещает рассказать Лопухину про «долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни».
Лермонтов старался не выделяться среди своих боевых товарищей, вел одинаковую с ними жизнь. Видимо, это и раздражало барона Россильона, когда он говорил о «нечистоплотности» Лермонтова. Позвольте, откуда же ее взять, эту чистоплотность, если спишь на земле? Впрочем, кое-что объясняет А. Есаков, говоря об отношениях Лермонтова и Россильона: «Обоюдные отношения были несколько натянуты. Один в отсутствие другого нелестно отзывался об отсутствующем». Теперь становится более понятным отзыв барона Россильона.
Зиму Лермонтов встречает в Ставрополе. Вместе с ним и Столыпин-Монго. Говорят, что в конце 1840 года Лермонтов побывал и в Крыму, в Анапе. Насчет Анапы существует даже рассказ Е. фон Майделя в передаче Мартьянова. Однако все это очень сомнительно и нет никаких документов, подтверждающих поездку поэта на берег Черного моря. И, напротив, очень много свидетельств в пользу того, что Лермонтов провел зиму в Ставрополе. В то время тут находились Карл Ламберт, Сергей Трубецкой, Лев Россильон, Лев Пушкин (брат поэта), декабрист Михаил Назимов и другие. А. Есаков вспоминает: «Как младший, юнейший в этой избранной среде, он школьничал со мной до пределов возможного; а когда замечал, что теряю терпение (что впрочем не долго заставляло себя ждать), он бывало ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл». Таков был настоящий, неподдельный Лермонтов!
В августе 1840 года пришло цензурное разрешение на печатание книги Михаила Лермонтова. Подписал это разрешение известный цензор Александр Никитенко. Печаталась она в типографии Ильи Глазунова и К°. В ней всего двадцать восемь произведений, 168 страниц. Стихи отбирал сам Лермонтов, и отбирал очень строго. Я уже говорил, что он не включил в нее ни «Парус», ни «Ангел». Открывается книга «Песней про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Написана «Песня…» белым стихом, «на старинный лад». Из крупных произведений включена только поэма «Мцыри». Ни «Хаджи Абрека», ни «Боярина Орши». Сборник заключается стихотворением «Тучи». Одним словом, это книга, состоящая из двадцати восьми шедевров. Она поступила в продажу в Петербурге тогда, когда еще автор зимовал в Ставрополе.
На нее, разумеется, откликнулась критика. И первым долгом – Белинский. Как всегда, и на этот раз он говорил горячо, во весь голос: «Эта небольшая красивая книжка, с таким простым и коротким заглавием, должна быть самым приятным подарком для избранной, то есть, образованнейшей части русской публики». Так говорил Белинский в самом начале статьи. А в конце ее – не менее горячо: «Да! кроме Пушкина, никто еще не начинал у нас такими стихами своего поэтического поприща…» Читал ли Лермонтов эти лестные строки? Да, наверное. Когда прибыл в столицу. Или по дороге к ней.
Но нашлись и такие, которые злобно зашипели. Точнее сказать, всё продолжали шипеть, ибо еще «Герой нашего времени» пришелся им не по нутру. Недруг Лермонтова, реакционер и мракобес Степан Бурачек, например, окрестил роман Лермонтова «эстетической психологической нелепостью». А что говорить о Петре Плетневе, который год спустя после смерти Лермонтова сказал: «О Лермонтове и не хочу говорить потому, что и без меня говорят о нем гораздо более, нежели он того стоит. Это был после Байрона и Пушкина фокусник, который гримасами своими умел… напомнить своих предшественников…» Не отставал от них и Николай Греч, к слову говоря пытавшийся изобличить Белинского в незнании русского языка. С ним вместе были и Николай Полевой, и Осип Сенковский. В какие времена не бывает подобных им и кого удивишь ими?!
Но как бы то ни было, каждый мало-мальски мыслящий читатель, который брал в руки книгу Лермонтова, не мог не понимать, с каким гигантом поэзии имеет дело…
Очень верную, очень точную характеристику дала поэзии Лермонтова графиня Ростопчина в известном письме к Дюма. Вообще говоря, любопытно все письмо – от начала до конца. Оно – яркое свидетельство проницательности и острого ума ее автора. Ростопчина, несомненно, любила Лермонтова и была любима им. Любила Лермонтова-человека и Лермонтова-поэта. Ей посвящено чудесное стихотворение, очень глубокое по мысли и, как всегда, откровенное.
«Ко времени второго пребывания поэта в этой стране войны и величественной природы, – пишет Ростопчина, – относятся лучшие и самые зрелые его произведения. Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит, и его дивные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку…»
Я говорил уже, что после «Смерти Поэта» Лермонтов уже «не мог» писать хуже. Все его произведения, написанные после, отмечены высоким мастерством и глубокой мыслью. Но особенный расцвет наступил в 1840 году, и продолжался он вплоть до середины 1841 года. Линия его прекрасного творчества шла все время вверх.
Лермонтов создал всего шестьдесят восемь стихотворений – уже в «зрелом» возрасте. Подавляющее большинство стихотворений рифмованы. Я думаю, что это и есть настоящая поэзия. Верлибр – я в том убежден – изобретен для «поэтов» ленивых, которым некогда или которым невмоготу по тем или иным причинам придумать свежие рифмы. В 1836 году барон Егор Розен предсказывал в «Современнике»: «Человечество идет вперед – и кипят все побрякушки, коими забавлялось в незрелом возрасте. Дальнейшее потомство прочтет рифмованные стихи с тем же неодобрением, с каким читает гекзаметры Леона. Последним убежищем рифмы будет застольная песня, или наверное – дамский альбом!» Сборник Лермонтова, вышедший четыре года спустя, доказал совершенно обратное. Я уже не говорю о дальнейшем блистательном шествии рифмы – прямо в двадцатый век, в поэзию Блока, Маяковского, Есенина.
Однако главное, на что мне еще раз хотелось бы обратить внимание, – это 68: как мало надо для гениального поэта и как гениально должно быть это малое!
Мне кажется, что иным поэтам стоило бы почаще вспоминать слова Иисуса Сираха: «Наложи дверь и замки на уста твои, растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковали надежную узду, которая бы держала твои уста».
Хлопоты бабушки, как видно, увенчались успехом, и Лермонтову разрешили отпуск. Бумага из столицы пришла, вероятно, в самом конце 1840 года или в начале следующего.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.