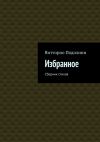Текст книги "Избранное. Том I"

Автор книги: Георгий Мосешвили
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
На этот жалкой сад, / На этот сброд невзрачный / Три звёздочки глядят / Из полумглы коньячной. До сих пор поэт употреблял слово «сквер». «Жалкий сад», видимо, дан как антитеза райскому Эдемскому саду «Три звёздочки» на коньячной этикетке соответствуют звёздочкам на плече Данте в следующей строфе: Три звёздочки – ночей / Серебряные банты / Блистают на плече / У каменного Данте. Что такое «серебряные банты» – неясно. Во всяком случае, они не упоминаются ни в «Божественной комедии», ни в стихах близких Елагину русских поэтов. Не исключено, что этот образ (конечно, не являющийся простым «украшением») имел для автора поэмы какой-то личный, теперь уже утерянный для нас смысл.
Ночные голоса / Игул трактирных стоек / Не слышат корпуса / Неконченых построек. / Их силуэт сквозной / Напоминает соты / Под маленькой луной, / Закинутой в высоты. Эти две строфы – отдельный пейзаж, чем-то напоминающий мертвые города «метафизической живописи» Де Кирико. Обратим внимание на две детали. Первая: недостроенные здания глухи. Если принять это как данное, то возникает целый ряд несколько двусмысленных ассоциаций – строка «Ночные голоса…» свидетельствует о том, что вечер окончен, наступила ночь. Вторая деталь связана с сотами и Луной. «Неконченые постройки» должны в будущем превратиться в «искусств сверхсовременный форум». Пчелы и медовые соты в разных мифологиях являются символами поэзии. Согласно древнегреческому мифу, их охраняет юноша Арестей, нередко отождествлявшийся с Аполлоном, богом-покровителем искусств. Луна-Селена в греческой мифологии (она же Артемида, а у римлян – Диана) была сестрой Солнца-Аполлона.
И корпуса стоят / В стенах своих упрятав / Звучание сонат, / Сверкание театров, // Рукоплесканье лож, / Свистки и крик галёрок / Восторженности дрожь, / Взволнованности морок, // И дирижёрский взмах / Мерещится оттуда, / Где высится впотьмах / Бесформенная груда. Все эти спектакли и концерты – мираж. Три строфы посвящены описанию не существующего будущего. Того будущего, которого не будет. Еще одна попытка вырваться из земного ада окажется бесплодной.
Но вот уже дома / Над улицей качнулись, / И улица сама / Качнулась среди улиц. Второе предупреждение. Скорее всего, оно должно быть соотнесено со следующими строками Апокалипсиса, также имеющими значение «предупреждения»: «…произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь…» (Откр. 6; 12). Есть и поэтическая параллель: ранний Маяковский (в частности, поэма «Облако в штанах»). Елагин высоко ценил Маяковского как поэта-новатора.
Ещё почти что пуст / Участок, на котором / Раскинется искусств / Сверхсовременный форум. «Сверхсовременный форум» – также попытка вырваться из земного ада. Попытка спасения через искусство, обреченная на провал. Само сочетание слов «форум» и «сверхсовременный» – явный нонсенс.
И ты сюда придёшь. / И под удары клавиш, / Как ставят грудь под нож, / Всего себя подставишь. Строфа явно навеяна пастернаковскими интонациями.
Как много женских плеч / И лиц блестящеглазых / Чтобы тебя увлечь, / В мехах стоят, как в вазах. Казалось бы, прекрасная метафора вдруг обнаруживает свою темную «изнанку»: женщины уподобляются цветам в вазах, то есть натюрмортам (!).
Далее следуют три строфы, которые не требуют комментирования.
Верь звонким чердакам, / Что жмутся к самым крышам, / Поближе к облакам / Свободнее мы дышим. Четверостишие перекликается со стихотворением Цветаевой «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак» (1919)[58]58
Цветаева М. Сочинения. Т.1. М.: Прометей, 1990. С.486 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Поэзия Цветаевой оказала существенное влияние на творчество Елагина. Ироническое замечание М.Ц. о смерти (Недолго ведь с крыши – на небо) переосмыслено Елагиным в третьей и четвёртой строках данной строфы.
Следующую строфу пропускаем.
И полицейский страж / Ещё не гонит пьяниц, / А как войдёт он в раж, / То наведёт он глянец. «Полицейский страж» иронически соотнесён с Данте, «Стражем у входа в ад». Может быть, это местный Цербер земного ада.
Здесь станет кадиллак / С почтительным шофёром, / Что смотрит на зевак / Презрительнейшим взором. Ещё одно интонационное совпадение – на этот раз со стихотворением Мандельштама «Увы, растаяла свеча…» В мандельштамовском тексте: «И нет рассказчиков для жён / В порочных длинных платьях, / Что проводили дни, как сон, / В пленительных занятьях…»
И женщина пройдёт, / Каменья платьем тронув, / И выставкою мод / Блеснёт у этих клёнов. Возможно, длинное платье женщины – из того же стихотворения Мандельштама. Возможно и другое толкование: женщина – «Беатриче», однако, это маловероятно.
И юркнут в темноту / Те личности живые, / Что прямо на лету / Хватают чаевые. Перекликается с началом упомянутого мандельштамовского стихотворения.
Но с грохотом дома / Над улицей качнулись, / И улица сама / Взорвалась с сотней улиц. Кульминация. «Бикфордов шнур» догорел и произошел взрыв. Это четверостишие – грань между хотя и «магической», но всё же реальностью, и ее зеркальным отражением. Далее начнутся «зеркальные» соответствия и поэма как бы опишет замкнутый круг. В Апокалипсисе этой строфе соответствует следующий отрывок: «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, пока люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И город великий распался на три части (…). И всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною с талант, пал с неба на людей» (Откр. 16; 18–21).
Где было пять иль шесть / Деревьев оголённых; / Там только тени есть / Обугленные клёнов. Первое зеркальное соответствие (в дальнейшем, чтобы не повторяться, мы будем обозначать их сокращенно ЗС). ЗС с первой строфой поэмы. В результате взрыва деревья превращаются в тени. Очевидно, это подтверждает нашу гипотезу о связи кленов в сквере с «лесом самоубийц» у Данте. Деревья – души грешников, собственно, и были тенями. Взрыв, который можно понимать как Страшный Суд, возвращает живым и неживым существам их истинную сущность. Нечто подобное происходит с героями «Мастера и Маргариты» Булгакова в финале романа, но поэма Елагина была написана до появления в печати булгаковского произведения. Тени, оставшиеся от кленов после взрыва, – еще и намек на Хиросиму.
Где пьяницы сидят? / Где Данте Алигьери? / Уже у входа в ад / Или у райской двери? ЗС со второй строфой. Как и в предыдущей строфе, рифмовка сохранена. После взрыва и пьяницы, и Данте могут либо попасть в вечный Рай, либо исчезнуть навсегда (вечный Ад). Здесь скрытая аллюзия на стихотворение Елагина «Невозвращенец», «героем» которого является Данте.
Огромный город ввысь / Швырнуло глыбой серой / И в воздухе рвались / Пещера за пещерой… ЗС с девятой строфой. Интересно, что серый цвет камня сохранен, а оранжевый цвет освещенных окон человеческого жилья – исчез. Строфа почти дословно повторяет описания очевидцами ядерного взрыва над Хиросимой. Рифмовка сохранена.
Автомобиль кривой, / Как допотопный ящер / Сдох, испуская вой / И буркалы тараща… ЗС с десятой строфой. Отметим, что некоторые строфы во второй «части» поэмы не «дублируются» или «дублируются» не на своем месте, в результате чего отражение получается «искривленным». Автомобиль в данной строфе уже окончательно превращается в чудовище.
И в небо, как в пролом, / Распахнутый циклоном, / Весь мир упал стеклом, / Рассыпавшись со звоном. ЗС с одиннадцатой строфой. Рифмовка сохранена. Пожалуй, самый яркий пример «зеркального соответствия». Смысл строфы перевернут против ожидания.
Не небо рушится на мир зеленым стеклом, а наоборот, мир «стеклом» падает в небо. Мы намеренно умолчали о том, что есть еще одно истолкование взрыва: смерть человека, значит, и мира. Прорыв в небо, наконец, удался – с помощью взрыва-смерти. Вспомним: «Поближе к облакам / Свободнее мы дышим…»
На этот бедный ад, / На этот мусор бренный / Три ангела глядят / Из огненной вселенной. ЗС с двенадцатой строфой. Нонсенс: коньячные звездочки (или звезды на плече Данте) превращаются в ангелов. Несомненно, это три ангела Суда из Апокалипсиса. Цитируем: «И увидел я (…) Ангела, летящего по средине неба (…) и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его (…) И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий (…) И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его (…) тот будет пить вино ярости Божией (…) и будет мучим в огне и сере (…) и дым мучения их будет восходить во веки веков…» (Откр. 14; 6–11). Во второй и четвертой строках рифмовка изменена.
Они стоят в дверях / Зари багрово-тёмной, / Глядят на жалкий прах, / На этот прах никчёмный. ЗС с тринадцатой строфой. «Заря» указывает на то, что ночь прошла, что, конечно, имеет символический смысл. Рифмовка изменена в первой и третьей строках.
Три ангела – столбы / Пылающего неба – / Глядят на тех, кто был, / Глядят на тех, кто не был. ЗС с четырнадцатой строфой. Соответствие звезды – ангелы повторено. Ночь первой «части» противопоставлена дню (День Гнева) второй. Третья и четвертая строки допускают многочисленные толкования. Приведем одно из них: ангелы глядят на обитателей земного ада и на тех, кто уже «прорвался в небо и кто уже не вернется» (см. стихотворение «Невозвращенец»).
Следующие четыре строфы являются ЗС строфам 21, 31, 19, 29. Рифмовка полностью сохранена в строфе о «сверхсовременном форуме» и отчасти – в строфе о «полицейском страже». В двух других она изменена. Все эти живые и неживые существа (персонажи и здания) оказываются в раю, то есть поэма повторяет в миниатюре строение «Божественной комедии» и путь Данте из Ада в Рай.
Туда ты не войдёшь! / Ты жил уже на свете, / Ты ринешься в галдёж /Земных тысячелетий. // В тот океан земной, / Где катятся лавиной / Все беды до одной, /Все беды до единой. // В тот мир, что, сотворив, / Сам Бог дивился диву, / Его не тронет взрыв, / Он недоступен взрыву. Здесь «зеркальные соответствия» кончаются. Эти три строфы являются как бы кодой поэмы. Человек не может войти, потому что для этого надо пережить «взрыв»: горе, смерть, Страшный Суд. Мир не может вырваться в небо, на это способен только индивидуум. Ценой прозрения. Или ценой смерти.
В заключение мы хотели бы повторить, что не претендуем на единственно верное истолкование «Поэмы без названия». Может быть, мы ошибаемся. Но всё же надеемся, что наш комментарий поможет вдумчивому читателю увидеть несколько с другой, необычной стороны одно из лучших произведений прекрасного русского поэта.
Поэт о поэте
О жизни, что прошла давно,
Бесследно канула на дно,
Не надо громко говорить…
Ирина Одоевцева
Не часто, но всё же случается иногда и такое: поэт пишет книгу о поэте. О другом поэте, неважно, близком или далеком, соотечественнике или чужестранце, современнике или человеке иной эпохи. Чтение такой книги всегда завораживающе интересно, хотя педанты-критики любят находить и, наверняка, найдут в ней тысячу погрешностей. И в чем-то они правы. Только это поверхностная правота. Может быть, правота ученого трактата или газетной статьи. Но эти достойные вещи не имеют никакого отношения к поэзии.
Вы, уважаемый читатель, держите в руках по-своему уникальную книгу. Вдумайтесь, какое редкостное тройное совпадение.
Во-первых, книга Эллы Бобровой об Ирине Одоевцевой как раз относится к тем произведениям, которые написаны поэтом о поэте.
Во-вторых, и это существенно, женщина-поэт (здесь слово «поэтесса» кажется неуместным) создает портрет другой женщины-поэта.
Наконец, в-третьих – и на это стоит обратить особое внимание – перед вами творческая биография одной из лучших писательниц первой «волны» русской эмиграции, написанная представительницей литературы второй «волны». Мне кажется, эти совпадения не случайны. Такая книга должна была появиться. Тем более что это первая серьезная монография об Ирине Одоевцевой.
Вы ошибаетесь, если думаете, что «Литературный портрет» работы Э.И. Бобровой – своего рода панегирик в эмоционально-патетическом стиле. Ничего подобного. Это серьезная литературоведческая работа, достаточно строгая по изложению, фактологически точная и на редкость лапидарная, несмотря на немалый объем исследованного в ней материала. Никаких эмоциональных перехлестов, никакой «лирической отсебятины». И в то же время чувствуется: эти страницы написаны не только литературным критиком, но и поэтом. Вместо сухости – ясность слога и точность мысли. Вместо слащавых фраз и ядовитых замечаний – попытка понять и по-своему объяснить. И всё это с удивительным чувством меры, такта, уважения. Читая монографию Э.И. Бобровой, часто забываешь об авторе, настолько живо и увлеченно ведется рассказ о героине этой книги – Ирине Владимировне Одоевцевой. Чего еще может желать истинный художник? Дело ведь не в имени автора, а в его произведении…
Книга Эллы Бобровой состоит из шести разделов. Первый из них – небольшой, но изобилующий любопытными фактами «биографический очерк». Разумеется, он необходим как «введение в контекст», тем более что сама Ирина Владимировна не любила писать биографические справки. Впрочем, в данном случае она, вероятно, осталась бы довольна. Сухой перечень фактов Элле Бобровой удалось превратить в волнующий рассказ о судьбе поэта.
Затем следует раздел «Поэзия». Автор книги посвящает отдельную главу балладам Одоевцевой, и это не случайно. Ведь речь идет о творчестве мастера, «по мнению многих, открывшего новый тип современной баллады». И Элле Бобровой удалось, кажется, невозможное: подробнейший анализ чуть ли не всех баллад Ирины Одоевцевой занимает всего пять страниц.
Следующий раздел «Проза» – один из самых интересных в книге. Если с поэзией И. Одоевцевой мы хоть немного знакомы, то ее прозаические произведения известны разве что специалистам. Свои романы и рассказы Ирина Владимировна публиковала в эмигрантской печати, и советскому читателю они по понятным причинам были недоступны, как, впрочем, и многие другие произведения авторов русского зарубежья. Теперь положение изменилось, многое уже издано: И. Шмелёв, А. Ремизов, М. Алданов, Г. Иванов, И. Зданевич и другие, не говоря уже о Цветаевой, Бунине, Ходасевиче. Но проза Ирины Одоевцевой до сих по почему-то не привлекла внимания отечественных издателей. Об этом можно только пожалеть. «Ангел Смерти», «Изольда», «Зеркало», «Год жизни», «Оставь надежду навсегда», «Падучая звезда», «Валентин», «Эрик», «Сухая солома» – что мы знаем об этих романах и рассказах? Увы, ничего. А ведь Одоевцева-прозаик – может быть, еще более яркое литературное явление, чем Одоевцева-поэт. И Элла Боброва вводит нас в этот неизвестный, неизведанный мир. Она делает это ненавязчиво, ни разу не изменяет ей чувство такта. Прочтите хотя бы главы о романах и рассказах – и, я уверен, вам захочется познакомиться с прозаическими сочинениями Ирины Владимировны Одоевцевой. И, может быть, после выхода в свет монографии Э.И. Бобровой эти книги будут, наконец, изданы в России…
Зато такие произведения писательницы, как «На берегах Невы» и «На берегах Сены» не только известны российским читателям, но и приобрели популярность (в лучшем смысле этого слова). Конечно же, Элла Боброва не могла обойти вниманием мемуары Одоевцевой. Тем более что дух, суть эпохи Одоевцева передает достоверно, а местами и по-акмеистически точно. Интереснее другое: об этих «мемуарах» поэта, жившего в эмиграции, нам рассказывает не советский литературовед, а другой русский поэт-эмигрант. И неважно, что Одоевцева – из первой «волны» эмиграции, а Боброва – из второй, хотя сами эти «волны» во многом несхожи.
Важно и то, что им обеим присуще удивительно чистое, незамутненное восприятие русской культурной традиции. Кажется, мы, жившие в советскую эпоху, уже не способны так воспринимать поэзию, искусство, а, может быть, и мир вообще.
Наконец, последний раздел просто уникален. В нем собраны стихи русских поэтов, посвященные Ирине Одоевцевой. Боброва первой предприняла попытку свести воедино эти стихотворные посвящения. Результат этой нелегкой работы, по-моему, превзошел все ожидания. Они непохожи друг на друга – эти стихи. Они отличаются не только по уровню мастерства, но и, если так можно выразиться, по уровню восприятия. Но образ Ирины Одоевцевой возникает в этих рифмованных строчках, словно живой, он сияет новыми, порой неожиданными, красками, он меняется, переливается светом, живет, дышит. Это последняя необходимая деталь – без нее портрет оказался бы незаконченным.
«О жизни, что прошла давно, / Бесследно канула на дно, / Не надо громко говорить», – написала Одоевцева в одном стихотворении. Часто, когда речь идет о поэте, уже ушедшем из жизни, мы слышим как раз громкие слова. Почти всегда за ними ничего нет. Это те самые «мертвые слова», которые, как сказал Гумилёв, «дурно пахнут». В книге Эллы Бобровой вы не найдете громких слов. Художнику они не нужны. Так же, как и поэту.
Слово теперь за Вами, читатель.
Портрет окончен.
Книга перед Вами.
Поэт о поэте.
«Между человеком и звездным небом»[60]60Литература о «Числах» весьма обширна, поэтому автор сознательно ограничился несколькими источниками, которые, как представляется, дают достаточно полную картину Варшавский, Вейдле, Поплавский и Терапиано публиковались в «Числах», Осоргин – представитель в общем-то враждебного к журналу лагеря «старших». А оценки Г.П. Струве и Э. Райса в целом беспристрастны и объективны (прим. Г. Мосешвили). Статья впервые опубликована в журнале «Литературное обозрение», 1996, № 2.
[Закрыть]
Мировоззрения, верования всё что между человеком и звездным небом составляло какой-то успокаивающий и спасительный потолок сметены или расшатаны.
Из редакционного предисловия к первому номеру «Чисел»
Редакция русского эмигрантского литературного журнала «Числа» находилась в доме номер один по улице Жака Мава, в XV округе Парижа. Впрочем, номер округа и название улицы не имеют, конечно, к журналу никакого отношения. А вот с номером дома связан забавный и отчасти знаменательный эпизод.
Пишущему эти строки рассказывала о нем незадолго до своей смерти Ирина Владимировна Одоевцева. Не всем ее свидетельствам, очевидно, можно полностью доверять, но этот рассказ даже чисто психологически не похож на вымысел.
По словам И.В. Одоевцевой, в 1929 году она вместе с Н.А. Оцупом, Г.В. Ивановым и кем-то еще из русских «парижских» поэтов пришла взглянуть на помещение, которое предполагалось снять для размещения редакции будущего журнала. Увидев номер дома, Георгий Иванов воскликнул: «Прекрасное местечко для единственного в своем роде журнала «Числа»! Вот вам и первое «число»!» Шутка оказалась почти пророческой – «Числа» были действительно «единственными» в своем роде. Такого литературного журнала не было не только в дореволюционной России, но и в эмиграции.
Многие критики той эпохи (первый номер журнала вышел в 1930 году), а впоследствии и мемуаристы отмечали, однако, сходство «Чисел» с легендарным петербургским изданием «серебряного века» – «Аполлоном». Поэт и критик Владимир Вейдле, кстати, относившийся к «Числам» не слишком приязненно, хотя и печатавшийся в них, писал: «Числа» были единственным крупным журнальным начинанием русского зарубежья, руководимым не общественными деятелями (как «Современные записки»), а людьми литературы. Продолжал он традицию не «толстых журналов», как «Современные записки», «Русские записки», «Воля России» и впоследствии «Новый журнал», а куда более «молодую» традицию «Аполлона», заботился в связи с этим и об изящной – или даже роскошной – типографской внешности. Политических статей не печатал, печатал зато статьи о музыке и, с иллюстрациями, о живописи…»[61]61
Вейдле В. О тех, кого уже нет // Новый журнал. 1993. № 192–193. С. 368 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Обратимся к истории возникновения журнала. Здесь перед нами литературная мистика уже иного рода – мистика, так сказать, историческая. Дело в том, что существуют по меньшей мере три версии относительно того, как именно возникли «Числа» и кто был инициатором издания этого журнала. Они, конечно, исключают друг друга, но само существование этих гипотез весьма характерно.
В своей книге «Незамеченное поколение» В.С. Варшавский писал: «В 1930 году начал выходить созданный по инициативе Н. Рейзини журнал «Числа»…»[62]62
Варшавский В.С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 178 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. А вот мнение Ю. Терапиано, кстати, в журнале Оцупа печатавшегося: «Журнал «Числа» был задуман в 1929 году Георгием Ивановым, который обдумал всё направление журнала, состав сотрудников и т. д. и даже выработал обложку, которую сам нарисовал»[63]63
Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Париж – Нью-Йорк, 1987. С. 125 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Наконец, писатель М. Осоргин, один из столпов «Современных записок», считал, что «это – журнал, созданный случайным стечением обстоятельств, но органически необходимый литературной эмиграции, особенно ее молодой части»[64]64
Современные записки. 1931. № 46. С. 505 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Что касается Варшавского, то он скорее всего имел в виду не столько Н. Рейзини, сколько И.В. де Манциарли, которая вместе с Н.А. Оцупом редактировала первые номера «Чисел». Де Манциарли была теософкой, входившей в «избранный круг» французского журнала последователей Блаватской – «Cahiers de l'Etoile» («Записки звезды»). Первое время этот орган теософов давал деньги на издание «Чисел», а сама де Манциарли печатала в них статьи о Кришнамурти и т. п. Вскоре, однако, поддержка теософов прекратилась, г-жа де Манциарли из редакции ушла, и Оцупу пришлось самому выбивать деньги на журнал у различных состоятельных людей и фирм. Так что дело не в Манциарли и не в Рейзини.
Теория «случайного стечения обстоятельств», выдвинутая в свое время Осоргиным, ничего не объясняет. «Случайных» изданий уже в одном «русском Париже», не говоря об эмиграции вообще, было очень много. Обычно они прекращали существование, выпустив один, два, максимум три номера. «Числа» же продержались четыре года, и каждый из десяти номеров журнала был не тонкой брошюркой, а солидным «томом». Не говоря уже о том, что «вплоть до своего последнего десятого выпуска журнал в течение первой половины 30-х годов играл большую роль в жизни младшего зарубежного литературного поколения не только в Париже, но и в других странах эмигрантского рассеяния»[65]65
Терапиано Ю. Указ. соч. С. 128 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Остаётся «теория» Терапиано. И если поверить ему, то получится своеобразная, но похожая на правду картина.
Итак, «Числа», как пишет Терапиано, «задумал» Георгий Иванов, то есть человек из «среднего» эмигрантского поколения: младше Бунина и Мережковского, но старше Поплавского и Штейгера. Бывший акмеист, друг Гумилёва, автор уже успевших нашуметь «псевдомемуаров» «Петербургские зимы», председатель «Зеленой лампы» – общества литераторов, собиравшихся в Париже на квартире у Мережковского и Гиппиус. Зачем ему было нужно создавать новый журнал? Георгий Иванов к тому времени с успехом печатался в «Современных записках» и других периодических эмигрантских изданиях. Деньги у него еще были (впрочем, дохода от издания «Чисел» уж никак нельзя было получить). Так зачем же? Ответ, думается, таков: в пику Ходасевичу (с которым Иванов вел «литературную войну») и чтобы завоевать поддержку молодого поколения. То, что «Числа» воспринимались прежде всего как журнал «молодых», к тому же поддерживаемый еще одним литературным противником Ходасевича – Георгием Адамовичем, отмечено многими современниками. В.С. Варшавский: «Редакция «Чисел» была единственной в эмиграции, где молодых встречали как желанных участников. Оцуп сделал всё, чтобы журнал стал для них своим. Произведения многих начинающих авторов были впервые напечатаны в «Числах». Но направление журнала определяли петербургские поэты. Вокруг них и сложилась парижская школа, на которую (…) было столько нападок (установка на лирический дневник, антиформализм, упадничество, пессимизм и т. д.)»[66]66
Варшавский В.С. Указ. соч. С. 125 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Отметим, что «петербургские поэты» – это, конечно, Г. Иванов, Оцуп и Адамович. Пока же приведем отчасти конкретизирующую утверждение Варшавского цитату из книги Г.П. Струве «Русская литература в изгнании»: «По составу сотрудников «Числа» отличались от «Современных записок» прежде всего, поскольку в отделе беллетристики в них почти начисто отсутствовали «светила» зарубежной литературы и наиболее популярные у читателей писатели (т. е. представители «старшего» поколения. – Г.М.). Исключениями были Гиппиус (рассказ «Перламутровая трость»), Мережковский (отрывки из двух его, правда, не чисто беллетристических книг) и Борис Зайцев, который поместил в «Числах» часть своего перевода Дантовского «Ада». Зато не было ни Бунина, ни Куприна, ни Шмелёва, ни Алданова, ни Осоргина, ни Набокова-Сирина. Отдел стихов, которым в каждом номере уделялось не менее двадцати страниц, был тоже предоставлен, главным образом, молодому поколению (наряду с Гиппиус и некоторыми представителями поколения «среднего» – Георгием Ивановым, Адамовичем, Оцупом, Цветаевой). Не было Бальмонта, зато был Игорь Северянин… Среди молодых поэтов преобладали парижане, но попадались и иногородние – берлинские (Раиса Блох, М. Горлин), прибалтийские (Игорь Чиннов, Ю. Иваск, Н. Белоцветов), дальневосточные (Н. Щёголев)»[67]67
Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Париж, 1974. С. 215 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Что же представляло собой пресловутое «молодое» литературное поколение? Это были по преимуществу люди, родившиеся уже в XX столетии (в крайнем случае в конце XIX), поэты и писатели, еще помнившие дореволюционную Россию, но о литературе «серебряного века» имевшие лишь «историческое» представление. Борис Поплавский, Юрий Фельзен, Георгий Раевский, Довид Кнут, Антонин Ладинский, Анатолий Штейгер, Юрий Софиев, Борис Закович, Владимир Смоленский, Лидия Червинская – вот лишь некоторые имена. Печататься им в эмигрантском Париже было нелегко: солидные издания вроде «Современных записок» предпочитали публиковать именитых «старших» писателей. Молодое «незамеченное поколение» собиралось по вечерам в дешевых кафе на Монпарнасе вместе с некоторыми поэтами и писателями поколения «среднего». И в этих прокуренных залах «Куполь», «Ла Болле» и других шли нескончаемые споры о литературе, жизни, смерти, эмиграции… Пожалуй, одну из самых точных характеристик «младшим» писателям парижской эмиграции дал Эммануил Райс: «К началу тридцатых годов в русском изгнании, главным образом, в Париже (но не только в нем) произошло необычайное событие: выступила группа молодых дарований, сложившихся уже в условиях изгнания. Несмотря на житейские и культурные условия небывалой трудности, они стали пробивать и пробили себе дорогу в большую литературу. Вошли они в нее под трагическим названием «незамеченного поколения». Им зачастую негде было печататься. Но удивительнее всего было то, как они вообще ухитрялись писать после целого дня физически изнурительного неквалифицированного труда ради хлеба насущного, где находили время и силы для творчества. Если на свете и была когда-либо пролетарская литература не в переносном, а в самом прямом смысле слова, то она была делом рук «незамеченного поколения» (…) Кто-то метко сказал о них «пушкинская плеяда без Пушкина»[68]68
Райс Э. О Борисе Поплавском // Дальние берега. М., 1994. С. 298 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
«Молодое» поколение смотрело на мир не так, как «старшие», даже не в силу возрастных причин. Их снедала, может быть, не столько ностальгия по России, сколько «ностальгия по культуре». Мир на их глазах не только перевернулся с ног на голову, но и распался, обнаружив непроницаемую черную пустоту. Ощущение одиночества человека в этом чужом мире, ненужности, заброшенности, грусть, переходящая в горечь, горечь, переходящая в отчаяние, – вот в приблизительных словах суть поэзии и прозы этих «молодых». И в то же время – тоска по культуре, тоска по тому же самому русскому «серебряному веку», надежда на то, что черная пустота превратится когда-нибудь хотя бы в звездное небо… Но вспомним строки, приведенные в эпиграфе: «Мировоззрения, верования – всё, что между человеком и звездным небом составляло какой-то успокаивающий и спасительный потолок, – сметены или расшатаны». Значит, звездное небо – тоже всего лишь «Синее, холодное / Бесконечное, бесплодное / Мировое торжество», как писал Георгий Иванов. Между человеком и звездным небом, между человеком и Вселенной, человеком и Богом должно быть что-то человеческое, земное и одновременно небесное, божественное, то есть та же культура. Этим «потолком» и призваны были стать «Числа».
Название журнала связано, очевидно, не только с библейской Книгой Чисел, но и с известным четверостишием Гумилёва:
А для низкой жизни были числа,
Как тяжёлый подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передаёт.
И еще, видимо, число – как символ точности, беспристрастности и аполитичности. Той самой аполитичности, за которую журнал Оцупа так часто подвергался критике.
Совсем иным было отношение журнала к тому, что происходило в мире литературы и искусства. «Числа» всегда старались откликаться на литературные события – не только в русской зарубежной литературе, но и в мировой. Они печатали отчеты о собраниях «Зеленой лампы» и других литературных объединений – «Союза молодых поэтов и писателей», «Перекрестка», «Кочевья», устраивали у себя анкеты устраивали регулярно открытые собрания по литературным вопросам и литературные вечера поэтов и писателей. Один из таких вечеров был посвящен книге Андре Жида, только что вернувшегося из Советского Союза и разочаровавшегося в тамошних достижениях. Вечер был устроен на французском языке, и вот – под предводительством тогдашнего французского коммунистического лидера Вайяна-Кутюрье – коммунисты заполнили зал. Пользуясь своей многочисленностью, они устраивали обструкции (…) всем «буржуазным» ораторам от докладчика Георгия Адамовича до Мережковского, пытавшимся спасти вечер, который был всё-таки сорван коммунистами. Зато другие вечера «Чисел» имели большой успех, равно как и устраивавшиеся их редакцией вечера поэзии и прозы»[69]69
Терапиано Ю. Указ. соч. С. 127–128 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Кстати, в разных городах, где жили русские эмигранты, неоднократно устраивались и вечера, посвященные самим «Числам». По словам Г.П. Струве, они проводились не только в Париже, но и в Праге, Таллине, Шанхае и Харбине. Да и вообще, как пишет автор «Русской литературы в изгнании», «Числа» вызвали много откликов. Приветствовали их по преимуществу как «молодое начинание, открывающее дорогу молодым». Обрушивались на них за «упадничество», за «снобизм», за «аполитичность», за «распущенность» их прозы[70]70
Струве Г.П. Указ. соч. С. 216–217 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. «Распущенность прозы» – это, конечно, упрёк в адрес Бориса Поплавского. Об «аполитичности» мы уже упомянули. А вот «упадничество» и «снобизм» несомненно относятся к «парижской ноте».
До сих пор в критической литературе существуют самые разные толкования по поводу этого литературного течения. Некоторые специалисты утверждают даже, что «ноты» как таковой просто не существовало. Чаще всего при этом ссылаются всё на того же Г.П. Струве, написавшего: «Оглядываясь назад, принято говорить о «Числах» как о наиболее законченном выражении «парижской ноты» в поэзии. Но такой единой «парижской ноты» в природе не было, и «Числа» одинаково охотно печатали столь различных парижских поэтов, как Ладинский и Поплавский, как Раевский и Мамченко, как Терапиано и Червинская, как Штейгер и Кнут»[71]71
Там же. С. 218 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Перечисленные поэты действительно не слишком близки (хотя бы стилистически) друг к другу, но дело всё же не в различиях, а в общности. «Числа» предпочитали печатать стихи, отвечавшие не раз высказанным в статьях Г. Адамовича требованиям: предельная простота, отсутствие формальных изысков, близость стихотворного текста к «человеческому документу». И, может быть, самое главное в концепции Адамовича: стихи должны говорить только «о самом главном» – если воспользоваться строчками Зинаиды Гиппиус – «о человеке, любви и смерти». Так вот, видимо, «нота» всё же существовала – но не на уровне единого мировоззрения или единой школы, а на уровне общей (минорной) тональности и общей (не вычурной) инструментовки поэтического текста. К чистой «парижской ноте» – если подразумевать под этим определением поэзию, четко соответствующую всем требованиям Адамовича – можно отнести разве что самого Адамовича, Анатолия Штейгера и Лидию Червинскую. Но тональность «ноты» узнаваема и в стихах Г. Иванова, Н. Оцупа, Б. Поплавского, A. Ладинского и других поэтов, несмотря на всю их несхожесть. Поэтому можно согласиться с Ю. Терапиано: «То мироощущение, которое затем окончательно оформилось в так называемой «парижской ноте» (это название дал ей Борис Поплавский в своей статье в «Числах»), во многом обязано этому журналу»[72]72
Терапиано Ю. Указ. соч. С. 128 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.