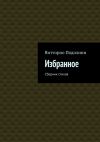Текст книги "Избранное. Том I"

Автор книги: Георгий Мосешвили
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
«Числа» просуществовали четыре года и за это время успели многое сделать. В журнале печатались не только сторонники Адамовича, но почти все поэты и писатели «русского Парижа», кроме Бунина и прочих «маститых». Публиковали свои произведения практически все участники ориентировавшейся на Ходасевича группы «Перекресток». Именно «Числа» открыли читателю такие имена, как Ю. Фельзен, Г. Газданов, B. Яновский, В. Варшавский, автор «Романа с кокаином» таинственный М. Агеев и многие другие. Они в отличие от других эмигрантских изданий уделяли внимание советской литературе – во всяком случае, в лучших ее проявлениях, литературе французской и вообще западноевропейской, живописи, музыке. Свои критические статьи в них печатали такие авторы, как С.Л. Франк, Г.П. Федотов, Г. Ландау, В. Вейдле. Несмотря на сложные отношения редакции с М.И. Цветаевой, «Числа» опубликовали ее эссе «Два лесных царя», а сдвоенный № 2–3 демонстративно открывался цветаевским стихотворением. Для «молодых» это была великолепная школа, для всех остальных – свободная трибуна, здесь важен был талант, а не политические пристрастия. И если мировоззрения и верования оказались сметенными и расшатанными, то «потолок» «Чисел» всё же существовал – пусть всего лишь четыре года.
И еще два высказывания напоследок. Одно – абстрактное, почти философское. Другое – чисто конкретное. Первое – из статьи, в «Числах» напечатанной. Второе – из статьи, написанной о «Числах».
«…B пять часов утра, в дешевом кафе, когда все сплетни рассказаны и все покрыты позором и папиросным пеплом, когда все друг другу совершенно отвратительны и так, так больно, что даже плакать не хочется, они вдруг чувствуют себя на заре «какой-то новой жизни». Отсюда простительны и шутки и галстучки… Потому что только погибающий согласуется с духом музыки, которая хочет, чтобы симфония мира двигалась вперед»[73]73
Поплавский Б. О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Числа. 1930. № 2–3. С. 310 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Это Борис Поплавский.
«Хорошо, что они («Числа». – Г.М.) могут и смеют втягивать в свою литературную орбиту молодую пишущую братию, не боятся ошибок и неудач, дают обильнейший и самый разнообразный материал, не склонны к политиканству (…), очень широко понимают задачу ищущего журнала, умеют нападать, умеют и огрызаться. (…) Уже не раз отмечено, что такого изящно и любовно издаваемого журнала за рубежом ещё не было»[74]74
Современные записки. 1931. № 46. С. 508 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Вот так. Дух музыки и «задача ищущего журнала». Разница между «Числами» и «Современными записками» в этих двух отрывках явлена чрезвычайно ярко. И, наконец, последнее высказывание – оно принадлежит В. Вейдле: «Просуществовали «Числа» недолго, редактировались едва ли вполне безукоризненно, привлечь всё литературно или поэтически наиболее живое в эмиграции – Ходасевича, Набокова, Цветаеву… не сумели или не желали, но всё-таки хорошо, что они были – и заслуга их бытия принадлежит Оцупу»[75]75
Вейдле В. Указ. соч. С. 368 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Впервые опубликовано в журнале «Литературное обозрение», 1996, № 2.
[Закрыть]
«Лучше было бы… помочь Оцупу и чаще издавать «Числа», всё равно ведь всё так или иначе идет под их знаком или их пародирует. Люблю «Числа» со всеми их недостатками, и, по-моему, они не уступают ни в чем «Аполлону» и его, в сущности, продолжают»[77]77
Шаховская З. Анатолий Штейгер // В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 181 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Так писал когда-то один русский поэт-эмигрант другому. Анатолий Штейгер – Зинаиде Шаховской. В «Числах» Штейгер напечатал всего два произведения. В 1933 году в сдвоенном номере 7–8 появился его рассказ «Кирпичики», а в десятом номере за следующий год – стихотворение «Баллада о гимназисте». Но дело не в количестве публикаций, а скорее в духовной близости поэта и сотрудников знаменитого журнала Оцупа. Истоки этого «литературного родства» установить нетрудно: поэзия Штейгера была, пожалуй, самым ярким выражением «парижской ноты». Собственно, истинных поэтов, которых можно без натяжки к «парижской ноте» отнести, было двое: Георгий Адамович и Анатолий Штейгер.
Судьба русского поэта барона Анатолия Сергеевича Штейгера оказалась нелегкой. Жизненные обстоятельства сложились так, что кроме тяжелейшей болезни, преследовавшей поэта всю жизнь – острой формы туберкулеза, Штейгеру пришлось переносить и другие испытания: эмиграцию, смерть родителей, существование в одиночестве. Болезнь была неизлечимой: смерть могла прийти в любую минуту. Анатолий Сергеевич знал об этом чуть ли не с детства. И в детские же годы он начал писать – сначала прозу (что не характерно для юных литераторов), а потом стихи. Его сестра Алла Головина, тоже известный эмигрантский поэт, писала в биографической справке, предпосланной посмертному сборнику Штейгера «2×2=4»: «Анатолий Сергеевич Штейгер родился 7 июля 1907 года в отцовском имении Николаевка бывшей Киевской губернии. Семья Штейгеров принадлежала к старинному швейцарскому роду, одна из ветвей которого поселилась в России ещё в начале XIX века.
Его детство протекало летом в украинской усадьбе, зимой – в Петербурге-Петрограде, а затем – в Константинополе. Шестнадцати лет Анатолий начал самостоятельную жизнь. Судьба привела его сначала в Германию, а потом – в Париж, где он провел несколько лет и куда постоянно наезжал в предвоенные годы.
Путь в литературу он начал несколько необычно: уже в раннем возрасте он пробовал писать исторические романы, которые несли на себе естественную печать детскости. Но с 16–17 лет он всецело посвятил себя поэзии. Среди его глубоких поэтических привязанностей – А. Блок и О. Мандельштам, Г. Иванов и А. Ахматова и, конечно же, Марина Цветаева, с которой он состоял в недолгой, но чрезвычайно интересной переписке.
Как человека утонченной культуры, его одинаково привлекали и старина, и искусство, и экзотика, и природа. Совершенно естественно при этом, что так называемый «новый мир», будь то коммунизм в России или фашизм в Германии, вызывал у него поначалу грустную иронию, а под конец – ужас и отвращение.
У него, одновременно замкнутого и общительного, было мало близких друзей, но принимали его повсюду, и дружил он с людьми всякого звания и национальности.
Его короткая жизнь была часто мучительной и трудной, но всегда – на редкость насыщенной. «Все столицы видели бродягу», – писал он, но ему были знакомы и старинные итальянские города, и албанская экзотика, и бессарабская или чешская деревня. Только война и болезнь заперли его в Швейцарии в последние годы жизни. Свою смерть он предвидел и предсказал. Умер А.С. Штейгер 24 октября 1944 года и погребен в Берне в общей могиле с отцом и матерью»[78]78
Головина А. Вступ. статья к сборнику А. Штейгера «2×2=4: стихи 1926–1939». Нью-Йорк, 1982. С. 5–6 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Такова вкратце биография поэта. Достаточно, пожалуй, для «справки об авторе» в какой-нибудь антологии или энциклопедии. Алла Головина предельно лаконична, и, кажется, всё самое главное в этой «справке» есть. Увы, именно самого главного в ней как раз и недостает. И восстановить недостающее звено можно, только зная некоторые детали биографии Штейгера. И, конечно, читая его стихи.
Алла Сергеевна ничего не говорит о семье Штейгеров. Любопытные сведения о ней приводит М. Далтон в своей статье «“Vive ut Vivas”[79]79
«Живи, чтобы жить» (лат.) – девиз рода Штейгеров (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть] – О швейцарских и русских Штейгерах». Отец поэта, Сергей Эдуардович Штейгер (1868–1937), был адъютантом при одесском генерал-губернаторе графе Мусине-Пушкине. «После ранней и трагической смерти своей первой жены и второго брака Сергей Эдуардович вышел в отставку в чине полковника и поселился в одном из своих поместий, Николаевке, Каневского уезда. Там он занялся земской деятельностью, был избран почетным судьей и предводителем дворянства Каневского уезда, а в 1917 году стал членом Государственной Думы. Революция 1917 года означала для Штейгеров (как и для многих других) конец целой эпохи: потерю имущества, угрозу смерти. Сергей Эдуардович бежал в 1919 году с семьёй из Одессы в Константинополь»[80]80
Далтон М. «Vive ut Vivas» – О швейцарских и русских Штейгерах // Новый журнал. 1984. № 156. С.290 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Потом он по просьбе генерала Деникина вернулся – и затем семья Штейгеров эмигрировала уже вторично. Но не вся.
О судьбах детей Сергея Эдуардовича Штейгера можно было бы написать роман. Алла Головина в эмиграции стала одним из лучших поэтов «русской Праги». Она дружила и переписывалась с Мариной Цветаевой. Ее мужем был известнейший художник – Александр Яковлевич Головин. После его смерти Алла Сергеевна вышла замуж второй раз – за бельгийского аристократа барона де Пеллиши. В Бельгии она и скончалась.
Но у Аллы и Анатолия Штейгеров был ещё брат, которого звали Борис. Этот Штейгер не эмигрировал. Авантюрист, а по некоторым сведениям, и осведомитель НКВД, он был выведен Михаилом Булгаковым в «Мастере и Маргарите» под именем барона Майгеля. Конец Бориса Штейгера был незавидным и предсказуемым: расстрел.
А что же Анатолий Штейгер? И «парижская нота»? И «недостающее звено»?
При жизни поэта вышли три сборника его стихов: «Этот день», «Эта жизнь» и «Неблагодарность». Соответственно 1928, 1931 и 1936 годы. Посмертно была издана четвёртая книга – итоговая, но о ней чуть позже.
С шестнадцати лет писавший стихи Анатолий Штейгер жалел, что поздно (в 1907 г.) родился и не застал «серебряного века» русской поэзии. По свидетельству той же Зинаиды Шаховской, «один из самых верных приверженцев Адамовича, Толя при всякой встрече, не уставая, расспрашивал его о персонажах декадентского Петрограда, ловил всякое его слово, забрасывал вопросами: А какая была Ахматова? А что сказал Блок? – что зачастую досаждало Г.В. (Адамовичу – Г.М.). Он торопился там поиграть в карты, а Толя был тут и всё спрашивал и спрашивал…»[81]81
Шаховская З. Указ. соч. С. 159 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Интерес молодого поэта к «теням блистательного Санкт-Петербурга» понятен. Но вот в 1928 году издана его первая книга. Казалось бы, она должна быть во многом подражательной: стихи «под» Блока, Мандельштама, Гумилёва. Но прочтем рецензию того же Адамовича. Несмотря на дружбу, рецензия строгая, нелицеприятная, даже с оттенком снисходительности, и всё же… «Стихи Анатолия Штейгера – типично юношеские стихи. Они в сущности еще «не написаны», и приятна в них лишь мелодия, явственно слышимая, сквозь совершенно не запоминающиеся, общепоэтические слова. Штейгер внушает надежду. Если пока о нем трудно сказать что-либо, кроме того, что он, по-видимому, усердно читал Зин. Гиппиус и столь же усердно – Георгия Иванова (соединение, признаюсь, довольно неожиданное), то со временем он может стать поэтом. У него есть основания писать стихи, есть то, что называется «лирическим содержанием», – он только еще не в силах его выразить»[82]82
Адамович Г. Рецензия на книгу А. Штейгера «Этот день» // Современные записки. 1929. № 38. С. 525 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
«Штейгер внушает надежду…» Из уст язвительного Адамовича, пользовавшегося в эмигрантской литературе 20-30-х годов малопререкаемым авторитетом, это была редкая похвала. А что касается мелодии, ее действительно можно услышать, например, в таком стихотворении:
Снова осень и сердце щемит —
Здесь сильнее дыхание грусти.
Эти дни хорошо проводить
Где-нибудь далеко в захолустьи.
Очертания острые крыш…
В небе ратуши тёмные башни.
Лёгкий сумрак… Стоишь и стоишь,
Заглядевшись на камни и пашни.
Вдаль уходят пустые поля,
Темнота опускается ниже…
Как ни странно, но всё же земля
С каждым годом нам будто всё ближе.
Адамович не зря говорит о мелодии: в стихах Штейгера она присутствует всегда. Это тихая, порой еле слышная и очень грустная музыка. Теоретические умствования Адамовича о том, что поэзия должна быть не произведением искусства, а «человеческим документом», Штейгеру удалось превратить в живое слово. В его стихах нет манерности, вычурности – всё просто, точно и ясно – так, как того требовал Адамович. Но еще – в любой миниатюре Штейгера поражает отсутствие надуманности. Боль, грусть, горечь живут в его строках без надрыва, без бравады, без истерики. И это пишет человек, знающий, что он – внутри заколдованного круга, из которого не вырваться. Поэт, знающий, что он приговорён к смерти.
«У этого человека, молодого, веселого, ничуть не нытика и не неврастеника, было необыкновенно развито одно чувство: чувство боли – ничто мало-мальски общественное, лишенное личных отзвуков его не интересовало, – писал Адамович уже после смерти Штейгера. – Из этой боли возникла его поэзия: из боли и из жажды любви. Узкая поэзия, очень короткого дыхания, какой-то «узкий и мучительный следок» поэзии, говоря языком Достоевского. Но всё же принадлежащая к лучшему – или скажу иначе, правдивее и точнее: к тому немногому истинно ценному что за последние десятилетия русскими поэтами написано. Не черновик поэзии, как у стольких других, а один из редких, окончательно проясненных ее образов. Крошечный осколок, крупинка алмаза рядом с обманчиво-полновесными грошовыми псевдодрагоценностями»[83]83
Адамович Г. Одиночество и свобода. СПб. – Дюссельдорф, 1993. С. 153 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Да, стихи Штейгера действительно «не черновик поэзии». Доказательство тому – почти любая его миниатюра. Именно миниатюра – Штейгер поэт камерный, с позволения сказать, антиэпический. Выбор слова, интонация для него важнее всего. Выбор строгий и точный. Но здесь есть и другое. Эти стихи – в четыре, пять, шесть, восемь строк – написаны как бы на одном дыхании. Это выражение может показаться банальным, но вспомните, какое дыхание у туберкулезного больного… Ему не хватает этого дыхания, он не может говорить долго и красноречиво. И то, что у другого поэта явилось бы недостатком, становится у Штейгера не только «достоинством», но и стилем. Не стилизацией, а стилем, ему одному присущим. Юрий Иваск, поэт, лично знавший Штейгера, очень точно заметил: «Анатолий Штейгер – мастер коротких, даже кратчайших стихотворений. Лучшие из них легко заучиваются наизусть. Вот только пять строк:
Мы верим книгам, музыке, стихам,
Мы верим снам, которые нам снятся,
Мы верим слову… (даже тем словам,
Что говорятся в утешенье нам,
Что из окна вагона говорятся…).
Первые два с половиной стиха – поэтические, мелодические, а следующие за ними (той же длины) подрывают романтику горькой иронией, взятой в скобки – это очень характерный для Штейгера прием»[84]84
Иваск Ю. Предисловие к книге А. Штейгера «2×2=4». Нью-Йорк, 1982. С. 8 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Иваск прав. Эту «горькую иронию, взятую в скобки» мы найдем во многих стихах Штейгера, действительно «кратчайших» (шестнадцать строк для него – чуть ли не поэма). Я приведу еще два стихотворения. В одном из них пресловутые скобки выделяют, нет, скорее отделяют то, что называется безнадежностью, от другого, почти не существующего (по Штейгеру) понятия:
Не обычная наша лень —
Это хуже привычной скуки.
Ни к чему уж который день
Непригодными стали руки.
Равнодушье («ведь, не вернёшь»).
Безучастие, безнадежность.
Нежность, нежность! но ты живёшь,
Ты жива ещё в сердце, нежность?
Во втором стихотворении скобок нет. Зато есть некий «символ веры» поэта, если здесь можно говорить о вере…
Слёзы… Но едкие взрослые слёзы.
Розы… Но в общем бывают ведь розы —
В Ницце и всюду есть множество роз.
Слёзы и розы… Но только без позы,
Трезво, бесцельно и очень всерьёз.
От одной книги стихов к другой – всё короче стихи, всё чаще скобки, всё нежнее и безнадежнее музыка. Но Штейгер не принадлежал к породе вечно жалующихся на жизнь ипохондриков. Он не стремился вызвать жалость к себе. Его можно назвать пессимистом, но сквозь темное, безнадежное, горькое пробиваются лучи его незаметного, негероического стоицизма.
«Пессимизм Штейгера… Но по самой своей природе поэзия не может быть полным отрицанием (…). Она – как свет по отношению к тьме, – писал Адамович в предисловии к антологии “Якорь”. – Не значит ли это: есть в поэзии – скажем по-старинному – красота, которая зла и смерти не отменяет, но исключает их из своего мира. И в стихах “пессимиста” Штейгера – пусть и слабо – сияет свет и слышится напев флейты»[85]85
Адамович Г. Указ. соч. С. 153 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Вторая мировая война оборвала этот «напев флейты» – навсегда. Когда гитлеровские войска завоевывали Западную Европу, Анатолий Штейгер находился на лечении в больнице при швейцарском санатории. Один в холодном раю своей чужой родины, барон Штейгер больше не пишет стихов. Он занят другим – последним и чистым делом.
По свидетельству Юрия Терапиано, Штейгер в эти годы превратился в журналиста и писал… антифашистские листовки. Причем делал это столь успешно, что гитлеровцы назначили награду за его голову.
Его последняя книга вышла посмертно. Он успел ее составить, но увидеть этот сборник вышедшим из печати Анатолию Штейгеру было не суждено.
За восемь лет до смерти поэта Лидия Червинская (поэтесса, близкая по сути к «парижской ноте»), рецензируя книгу Штейгера «Неблагодарность», писала: «О чем эти стихи? Не важно. Тема стихов Штейгера как бы мельче (и более личная), чем внутренняя их устремленность… В глубине поэзии Штейгера нет той “метафизической гнили”, от которой распадается поэт…»[86]86
Червинская Л. Рецензия на книгу А. Штейгера «Неблагодарность» // Круг. 1937. № 1. С. 181 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Впрочем, от «метафизической гнили» распадается не только поэт. От нее распадается само время, в котором мы живем.
В прошлом году исполнилось пятьдесят лет со дня смерти Анатолия Штейгера. У нас до сих пор о нем известно немногим специалистам. И вышедшие недавно книги, содержащие переписку Штейгера с Мариной Цветаевой (я нарочно обошел стороной эту тему), дают нам, увы, одностороннее и неполное представление об этом поэте. Мне хотелось бы привести две последние цитаты. Может быть, в них-то и содержится намек на то «самое главное», чего лишена любая, самая скрупулезная биография. «Короткие, на одно дыхание, стихи Штейгера в простоте и чистоте переросли Монпарнас, то, что казалось обещаньем, стало совершенством. Тихий голос звучит и сейчас»[87]87
Шаховская З. Указ. соч. С. 159 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
«К стихам Анатолия Штейгера равнодушие неприложимо…
Вспоминая бледного, хрупкого, темноглазого поэта, так рано покинувшего мир (…), вспоминаешь и сказанную нездешними словами строку Лермонтова. Если бы на свете были настоящие меценаты, знающие, на что надо тратить деньги, то на могиле Анатолия Штейгера уже давно стоял бы невысокий памятник из мрамора Каррары, а на памятнике было бы написано:
“По небу полуночи ангел летел…”»[88]88
Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. М.: Книга, 1991. С. 284–285 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Нет, ангелом он не был. Он был поэтом. Всю жизнь Анатолий Штейгер пытался вырваться из заколдованного круга своей судьбы: болезни, бездомности, одиночества. Он умер, так и не сумев это сделать. Но остались стихи – и заколдованный круг оказался разорван. Равнодушие неприложимо. Тихий голос звучит и сейчас.
О петербургской символике в поэзии Максимилиана Волошина(доклад на IX Волошинских чтениях. Крым, Коктебель, Дом-музей М.А. Волошина, май 1997 г.)
Данный доклад представляет собой часть достаточно объемной и еще не законченной работы «Змей и Демиург (петербургский период истории России в поэзии М. Волошина)»[89]89
Упомянутая работа не была закончена. Никаких других фрагментов, кроме публикуемого доклада, в архиве автора не осталось.
[Закрыть]. В этой работе прослеживается несколько «сквозных» тем, так или иначе связанных с волошинской концепцией роли Петербурга в русской истории. В ходе исследования темы эти анализируются и комментируются. Будучи связаны между собой и как бы перетекая одна в другую, они образуют некое единство – поэтому при рассмотрении их по отдельности многое неизбежно теряется. Однако по части можно судить о целом – хотя бы косвенно. К тому же любая изэтих «частей», по моему мнению, может представлять интерес и сама по себе. Вот почему в основу доклада положены два фрагмента из названной работы – «Северная столица» (о Петербурге вообще) и «Император-Демиург» (о Петре I).
Говорить о космизме волошинской поэзии, о ее широких исторических и, если так можно выразиться, «географических» перспективах стало уже общим местом. Действительно, кажется, что сама история – от Сотворения мира вплоть до начала XX века оживает в этих стихах. В «странствиях духа» поэта по разным странам и эпохам воссоздавался особый мир. Философские теории, исторические события, народные обычаи, мистические знания, религиозные откровения, формулы науки и законы словесности – соединение всех этих разнородных начал в творчестве Волошина оказывается, однако, не эклектикой, а синтезом. Одним из «первоэлементов» этого синтеза, безусловно, была история России, а значит и ее петербургский период.
Само сочетание «Волошин и Петербург» звучит непривычно и воспринимается, прежде всего, в контексте биографии поэта: знакомство с М.В. Сабашниковой, «башня» Вячеслава Иванова, «история Черубины», дуэль с Гумилёвым и т. д. Здесь почти всё (во всяком случае, многое) известно, и биографическая сторона проблемы достаточно подробно разработана исследователями. Но не менее интересным представляется другой аспект: Петербург в поэзии автора «Демонов глухонемых».
Для изучения и анализа были отобраны немногие поэтические тексты Волошина, включающие, однако, практически все известные на сегодняшний день упоминания о Петербурге в его стихах. Целиком взяты сонет «Петербург» (1915), вошедший в «Anno mundi Ardentis 1915» и стихотворение «Петроград», впервые появившееся в составе сборника «Демоны глухонемые». Рассматриваются также отрывки из стихотворений «Предвестия» (1905), «Ангел мщения» (1905), «Трихины» (1917), «Святая Русь» (1917), «Из бездны» (1918), «Ангел времени» (1918), «Красногвардеец» (1919), «Гражданская война» (1919), «Северовосток» (1920), «На дне преисподней» (1921), а также поэма «Россия» (1924).
Хотелось бы заранее принести извинение за то, что в процессе анализа волошинских текстов придётся неоднократно повторять одни и те же цитаты – это необходимо, так как во многих случаях одни и те же строки, благодаря своей полисемантическом сути и парадоксальности философских построений Волошина, могут приобретать в ином контексте новый – и порой неожиданный смысл.
«Северная столица»
В поэзии Волошина Петербург – феномен скорее исторический, чем эстетический. В отличие, скажем, от поэтов-акмеистов, автор «Предвестий» никогда не воспевал красоту «города белых ночей». Читая его стихи о Петербурге, понимаешь, почему: эта красота способна вызвать скорее страх, чем восхищение. И страх этот связан с историческими событиями – трагедией прошлого, настоящего, а может быть, и будущего «города и мира» – Петербурга и России. Для Волошина – как и для Достоевского – это страшный город. Поэт не питает ненависти к «граду Петрову» – он осуждает Петербург, но одновременно исполнен сострадания к городу, над которым словно тяготеет проклятье, потому что с самого начала он был построен «на трупах и костях». Конечно, это лишь упрощенная схема, отношение Волошина к «северной столице», разумеется, гораздо сложнее – и в каждом стихотворении, строфе, даже строке оно раскрывается по-новому.
Первая строка сонета «Петербург»:
Над призрачным и вещим Петербургом…
Двойное определение (конструкция «прилагательное + союз «и» + прилагательное») вообще характерно для Волошина. «Призрачности» Петербурга посвящена отдельная глава нашей работы (не вошедшая в данный доклад), сейчас же хотелось бы обратить ваше внимание на второе прилагательное, «вещий». Разумеется, здесь этот архаизм дан не в прямом («мудрый»), а в косвенном значении: ведающий тайны, хранящий некое знание. Отметим, что слово вещун – то есть прорицатель – происходит от того же корня. Значит, возможно, «вещий» здесь имеет и иной смысл: провидящий будущее и прошлое, что знаменательно, так как, по мысли Волошина, «град Петров» возник «на трупах и костях» прошлого России – и предопределил ее будущее.
В том же сонете читаем:
…сей град, открытый зимним пургам…
В этом стихотворении монолог о Петербурге произносит не кто иной, как граф Жозеф де Местр, французский религиозный философ, автор «Санкт-Петербургских вечеров». Он видит «северную столицу», прежде всего, зимним городом. Мало того, городом именно зимней непогоды. Это достаточно распространенный вариант восприятия Петербурга-Петрограда. Однако, выражение «открытый зимним пургам» приобретает несколько иное значение, если связать его с традиционной аллегорией «зима – смерть». Такое аллегорические осмысление Петербурга именно как северной зимней столицы было вообще характерно для русской литературы «серебряного века» (ср. стихотворения И. Анненского «Петербург», В. Брюсова «К Медному всаднику», А. Блока «Снежная дева», С. Чёрного «Санкт-Петербург», О. Мандельштама «Над желтизной правительственных зданий…», В. Зоргенфрея «Декабрь», а позже – Г. Иванова «Январский день. На берегах Невы…»). Та же аллегория, видимо, подразумевается и в названии беллетризованных «мемуаров» Г. Иванова «Петербургские зимы». Рискнем предположить, что «зимние пурги» здесь – еще и символ будущих социальных потрясений, недаром тот же образ вьюги (пурги у Волошина) в Петрограде использовал затем Блок в поэме «Двенадцать».
Зима и смерть вновь совмещены – уже в реальном плане – в стихотворении «Предвестия», посвящённом 9-му января 1905 г., то есть событиям, свидетелем которых был сам Волошин (см. его статью «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге»). О самом же городе в «Предвестиях» сказано:
И город весь дрожал далёким отголоском
Во чреве времени шумящих голосов…
Разгадка этого таинственного двустишия, судя по всему, заключается именно в том, что Петербург, по Волошину, – «вещий» город, средоточье российской истории, в котором неразрывно слиты прошлое, настоящее и будущее.
Однако, образ Петербурга, созданный поэтом, сложен и неоднозначен. Он парадоксален по самой своей сути – в нем совмещено, казалось бы, несоединимое. Так, в стихотворении «Ангел времени» дана чеканная формула:
Незрелый плод славянства – Петербург…
Не сразу понимаешь, что формула эта не противоречит идее «вещего города», но дополняет и отчасти объясняет ее. В этом определении Петербурга слышится отголосок философских воззрений славянофилов. Не исключено, что данная волошинская строка восходит к стихотворению Константина Аксакова «Петру», в котором автор, обращаясь к «царю-плотнику», говорит: «Настало время зла и горя, / И с чужестранною толпой / Твой град, пирующий у моря / Стал Руси тяжкою бедой. / Он соки жизни истощает. / Названный именем твоим, / О русской он земле не знает / И духом движется чужим…» Сходные интерпретации сущности Петербурга как феномена русской истории можно найти и у таких разных по мировоззрению философов, как Константин Леонтьев и Владимир Соловьёв. Далекий от любых проявлений национализма, Волошин, разумеется, не делает из славянофильских концепций далеко идущих (и нередко приводящих к примитивному шовинизму) выводов, в отличие от «неославянофилов» двадцатого века – во всяком случае, некоторых… Но Петербург для поэта всё же «незрелый плод», выкидыш, порождение темных сил. Он – прекрасная, но навеки связанная с кровью и смертью «северная столица». Подтверждение этому – сами тексты. В стихотворении «Гражданская война» Волошин говорит о «тлетворном духе столицы невской», в «Северо-востоке» – о «страшных Петербургах» (имея в виду смену эпох). Он называет революционный Петроград «расплавленным» – и этот космический и связанный, возможно, с алхимией образ (огромный город словно помещен в гигантскую алхимическую печь для проведения какого-то страшного эксперимента) перекликается с «ретортой Петербурга» в поэме «Россия».
Надо сказать, что Волошин видит в Петербурге не одну лишь темную сторону. Граф де Местр в сонете «Петербург» восхищается тем, что
…сто лет цветут в стране Рифейской
Ликеев мирт и строгий лавр палестр…
В стихотворении «Святая Русь» (правда, косвенно) город Петра назван одним из российских «окон на пять земных морей», в поэме «Россия» автор говорит о «размахе столицы»… Но всё же главное в Петербурге для Волошина – его темная, нечеловеческая суть.
Надо думать, для Волошина все рассмотренные выше стихотворения и отрывки послужили как бы этюдами, разнообразными эскизами одного большого полотна, почти целиком посвященного Петербургу-Петрограду и петербургской эпохе русской истории. Речь идет о поэме «Россия». Разрозненные темы здесь собраны воедино – происходит синтез, – но при этом ни одна деталь не теряется бесследно, и, может быть, именно эти детали, вплетенные в повествование поистине эпического размаха, производят наиболее сильное впечатление. Характерно, что в своей автобиографии (1925) поэт отмечал: «В 1924 г. написана поэма о России (“Петербургский период“)».
Как же показан Петербург в поэме «Россия»?
Я нёс в себе – багровый, как гнойник,
Горячечный и триумфальный город,
Построенный на трупах и костях
«Всея Руси» – во мраке финских топей,
Со шпилями церквей и кораблей,
С застенками подводных казематов,
С водой стоячей, вправленной в гранит,
С дворцами цвета пламени и мяса,
С белесоватым мороком ночей,
С алтарным камнем финских чернобогов,
Растоптанным копытами коня,
И с озарённым лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра…
Легко убедиться, что здесь действительно собраны вместе почти все «петербургские» мотивы рассмотренных ранее текстов. Но мало того, в приведенном отрывке исторический образ Петербурга выявляется также и с помощью реминисценций – конечно, легко намеченных и неявных – из русской лирики, посвященной великому городу. Так, выражение «багровый, как гнойник», видимо, навеяно строками Аполлона Григорьева из стихотворения «Город» («Да, я люблю его, громадный гордый град…»):
В покое том затих на время злой недуг,
И то – прозрачность язвы гнойной…
Это подтверждается и тем, что в другом стихотворении Григорьева («Прощание с Петербургом»), также посвященном «граду Петрову», повторяется тот же образ:
С твоею ночью гнойно-ясной…
То, что Петербург был построен «на трупах и костях “Всея Руси” во мраке финских топей», заставляет вспомнить сходные строки в стихотворении Михаила Дмитриева «Подводный город»:
Богатырь его построил;
Топь костьми он забутил…
Это стихотворение, видимо, оказало какое-то влияние на Волошина: совпадают слишком многие образы: гранит реки, шпили зданий, «подводный город» у Дмитриева – «подводные казематы» у Волошина и т. д. Конечно, всё это образы, традиционные для описания Петербурга, но наличие совпадений в этих поэтических текстах – учитывая одинаково отрицательное отношение обоих поэтов к Петербургу – вряд ли следует считать случайным. Эти примеры не единичны: так, «белесоватый сумрак ночей» перекликается с ночным «сумраком белым» из стихотворения Поликсены Соловьёвой (Allegro) «Петербург» («Город туманов и снов…»). Таких реминисценций у Волошина немного, но всё же они встречаются. В дальнейшем будут приводиться лишь наиболее яркие и значимые из них. Все они – как и вся образная система Волошина – по отношению к Петербургу – связаны одной неумолимой логикой. Приведенный отрывок – ярчайшая иллюстрация волошинской мысли о том, что Петербург – страшный город, несмотря на всю свою красоту, «ликеев мирт и строгий лавр палестр».
Одна за другой возникают в поэме мрачные картины петербургской истории:
Царь в чине протодьякона ведёт
По Петербургу машкерную одурь…
затем
…в Петербурге крепость и дворец
Меняются местами…
и далее на протяжении двух с лишним веков продолжается всё тот же «дикий сон»… Но исторический круг Петербурга, по Волошину, замыкается всё время на одной и той же гигантской фигуре «чудотворного строителя»:
Санкт-Петербург был скроен исполином…
Великий Пётр – Медный всадник – для Волошина – ключевая фигура петербургской истории.
Император-Демиург
Имя первого российского императора упоминается в рассматриваемых стихотворениях неоднократно – но, опять-таки, каждый раз в новом контексте.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.