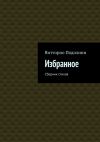Текст книги "Избранное. Том I"

Автор книги: Георгий Мосешвили
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
В сонете «Петербург» Пётр I назван «безумным Демиургом». Само слово «демиург» (творец, создатель), как известно, употреблялось ещё античными философами, в частности Платоном, в философии которого демиург – божественный творец мира. Однако позже, в эпоху европейского средневековья оно приобрело конкретное значение: демиургами называли себя алхимики (вспомним в связи с этим «реторту Петербурга» у Волошина!). Это значение несколько трансформировалось в мистической традиции и оккультных науках: здесь демиург – посвященный, достигший определенного уровня мистического знания. Впрочем, нередко демиургом (а иногда и «демиургом безумия») оккультисты называли Сатану. Волошин, безусловно, знал об этом, как и о том, что раскольники-староверы считали Петра – Антихристом.
В «Предвестиях» Волошин называет памятник Петру «бронзовым гигантом» – оба эти слова подчеркивают нечеловеческую природу основателя города. А в стихотворении «Петроград» поэт как бы «проговаривается»:
Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром…
Воля (в смысле непреклонного стремления) в русской поэзии постоянно ассоциируется с Петром. Ещё Пушкин в «Медном всаднике» создал незабываемый образ
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался.
А Брюсов в стихотворении «Петербург» восклицал:
Всё волей мощной и единой
Предначертал Великий Пётр.
Но «пустота воли», да еще и державной – казалось бы, явный абсурд! Однако это словосочетание становится понятнее, если вспомнить о «нечеловеческой» природе «демиурга» Петра (по Волошину) и о пророчестве первой жены Петра – царицы Евдокии, насильственно постриженной в монахини: «Петербургу быть пусту». Тем более что «пустота» в христианской философской традиции – одно из свойств диавола.
Своеобразно отношение Волошина к Петру как основателю города, его создателю (читай – «демиургу»). С одной стороны, в стихотворении «Святая Русь» находим связанное с поэзией Пушкина выражение «Плотник-царь». В то же время, в «Ангеле времен» сказано:
Но роковым охвачен нетерпеньем,
Всё исказил неистовый Хирург,
Что кесаревым вылущил сеченьем
Незрелый плод славянства – Петербург.
Пушкинский «строитель чудотворный» у Волошина превращается в «неистового Хирурга», то есть он занят если не разрушением, то, по крайней мере, пересозданием страны и ее истории. Здесь все четыре строки «с двойным дном». Отметим, в частности, любопытную, на грани «черного юмора» игру слов: император Петр («неистовый Хирург») «вылущивает» кесаревым сечением… незрелый плод, имя которому «Петербург». Слово «Хирург» с заглавной буквы здесь не случайно: в масонской литературе оно употребляется в негативном значении, как антипод слова Мастер или Архитектор; т. е. Хирург – это тот, кто «лечит насилием», короче говоря, опять-таки Сатана.
В стихотворении «Северовосток» Петр Великий вместе с двумя своими тезками-императорами волей Волошина ставится на один уровень с Павлом I и Аракчеевым. Казалось бы, это логический конец: «чудотворец-исполин» Пушкинских стихов приравнивается к безумному Павлу и временщику Аракчееву. Но это лишь последний эскиз – впереди поэма «Россия».
В этой поэме Волошин вновь как бы демонстрирует свою беспристрастность летописца. Царя Петра он называет «исполином», а Петербург – «сосредоточием гения Петра». Такие «свидетельства» говорят лишь о величии императора. Но это величие неразрывно связано с жестокостью, насилием, тьмой, безумием.
Так, он видит Петербург
…с озарённым лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра.
Здесь выявлено то, что – по мысли Волошина – прежде всего ассоциируется с именем Петра Великого: слава, гнев, безумие. Интересно, что в христианском понимании все три слова связаны с понятием греховности: мирская слава – тлен, гнев – один из семи смертных грехов, безумие – одержимость темной силой. Слово «безумие» в данном контексте имеет двойной смысл: во-первых, Петр I был эпилептиком, во-вторых, безумие медного Петра – как бы зеркальное отражение сумасшествия Евгения из поэмы Пушкина «Медный всадник» – ведь источником его болезни и смерти был именно памятник «чудотворному строителю».
Отметим, что Волошин в поэме «Россия» продолжает пушкинскую традицию «Медного всадника» – но Петр у него уже окончательно становится воплощением «державной воли», жестокой и бессмысленной государственной мощи. Волошин видит в Петре трагическую фигуру: вся деятельность императора направлена на созидание, которое на самом деле оказывается разрушением:
Топор Петра российский ломит бор
И вдаль ведёт проспекты страшных просек,
Покамест сам великий дровосек
Не валится, удушенный рукою
Водянки? иль предательства? Как знать…
Но вздутая таинственная маска
С лица усопшего хранит следы
Не то петли, а может быть подушки.
Зажатое в державном кулаке
Зверьё Петра кидается на волю…
Так дело жизни приводит к смерти. А вот и момент абсурда:
Пётр написал коснеющей рукой:
«Отдайте всё…» Судьба же дописала:
«…распутным бабам с ихним любовьём».
Так трагедия превращается в кошмарный фарс.
«История Петра Великого», данная Волошиным в поэме «Россия», может показаться нелепым нагромождением бессмысленных и жестоких «славных дел» императора. Если бы Волошин этим и ограничился, мы не узнали бы, собственно, ничего нового, а петровская эпоха по-прежнему казалась бы нам необъяснимым парадоксом «безумной», по слову поэта, истории России. Но объяснение Волошиным дано. Неожиданное и парадоксальное, оно опрокидывает все наши устоявшиеся представления, смещает перспективу времени и заставляет по-новому осмыслить историю России. Думается, что этот отрывок из одиннадцати строк – ключ к пониманию поэмы «Россия», а может быть, и всей волошинской концепции русской истории.
Великий Пётр был первый большевик, —
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к её грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей
Опричь указа, казни и застенка
К осуществленью правды на земле…
Не то мясник, а, может быть, ваятель
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею,
Кромсал ножом и шваркал лоскуты.
Здесь несколько интересных намеков. Слово «опричь» – да еще в сочетании с «указом, казнью и застенком» – несомненно, указывает на параллель «Петр Великий – Иван Грозный».
«Великий Пётр был первый большевик / Замысливший…» и т. д. – перекликается со строками из стихотворения «Северовосток»:
В комиссарах – дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях…
Одна и та же темная сила – от Иоанна Грозного – до большевистских вождей – стоит у власти в России. Она может быть косной, застывшей, словно мертвое болото, а может быть взрывом, «ураганом». По Волошину, никакие революции – ни Петра Великого, ни большевиков – ничего не меняют: суть темной, кровавой власти остается той же. Так в «Северовостоке»:
Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях.
Эпоха Петра, по мысли Волошина, – прообраз всех русских революций, больше похожих на бунт – «бессмысленный и беспощадный».
Кстати, интересно, что в данном отрывке Пётр вновь оказывается (хоть об этом и не сказано прямо) Демиургом (это слово имело в античности значение «художник», «мастер») – скульптором Пигмалионом. Но Пигмалион этот «высекает живую Галатею» тем самым топором, который «российский ломит бор» – и «не в мраморе, а в мясе» – то есть становится Неистовым Хирургом… Связь с чертовщиной здесь очевидна, тем более, что «высекание в мясе Галатеи» опять-таки напоминает алхимический эксперимент в духе сотворения Голема в романе Майринка.
Последствия оказались необратимыми:
…невод
Закинул Пётр в морскую глубину.
Спустя сто лет иными рыбарями
На Невский брег был вытащен улов.
Волошин точен. Петр I умер в 1725 г. Ровно через сто лет «иные рыбари» – декабристы «вытащили улов Петра» – и подняли восстание. Но и после «виселиц на Кронверской куртине» «дело» Петра не умирает – еще через век у истоков новой кровавой революции стоит всё тот же големический призрак, напоминающий
«Я в трауре смеюсь…»
Гомункула, взращённого Петром
Из плесени в реторте Петербурга.
Никогда не смешивайте призраков разума с призраками воображения: те – уравнения, а эти – существа и воспоминания.
Шарль Бодлер
Человеку свойственно обманываться. Иногда кажется, что наше духовное зрение подобно увеличительному стеклу: события и люди вырастают до невероятных размеров… и изображение расплывается, превращаясь в нечто бесформенное и бессмысленное. Мы смотрим на эти мутные пятна и недоумеваем, говорим о парадоксах истории и потемках чужой души. Чтобы найти хоть какое-то объяснение такого рода загадочным явлениям (особенно, если речь идет о судьбе поэта), мы изобретаем легенды, иногда прекрасные, иногда уродливые, и при этом предпочитаем не думать о том, что те и другие лживы. Но еще более мы любим навешивать ярлыки, ведь поводы всегда под рукой, лживых легенд достаточно для поверхностной любознательности… Всё проясняется и упрощается, мы гордимся собственной проницательностью и отводим увеличительное стекло, не заметив, что окружили себя призраками разума, совсем не похожими на призраки воображения. Ибо для нас важны «уравнения», а для поэта – «воспоминания и существа».
Традиционный образ Шарля Бодлера, поэта и человека, как раз и возник из такой фальшивой мифологизации. Она начала складываться еще при жизни автора «Цветов зла»: многие современники видели в нем только «проклятого поэта», циника и аморалиста. Однако подобное восприятие Бодлера характерно и для XX века. Литературоведы и по сей день наделяют его почти инфернальным обликом, говорят о глубокой порочности души поэта, о болезненной, темной, чуть ли не сатанинской природе его творчества. М. Нольман, в единственной вышедшей в нашей стране за последние десятилетия монографии о французском поэте[91]91
Нольман М. Л. Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль. М., 1979 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть], приводит целый ряд весьма знаменательных цитат, в которых достаточно ярко явлена суть «мифа о Бодлере».
Шарль Дю Бо: «…самая ужасная форма его оригинальности состоит в ненависти к жизни».
Анатоль Франс: «Он верил в неведомых богов, особенно из удовольствия поносить их».
Наконец, Р. Вивье видит в бодлеровской поэзии «застывшее насилие».
Так писали соотечественники Бодлера. Им вторили – уже в наше, «новое», время – и советские исследователи.
Б. Сучков: «Бодлер эстетизировал зло во всех его многообразных проявлениях».
Л. Гинзбург: «Зло метафизическое и зло социальное (противостоящие идеалу) совмещались в его поэзии».
«Ненависть», «из удовольствия поносить», «насилие», «зло»… Не слишком ли много зла и ненависти?
Как видим, французские и советские писатели и критики единодушны. Пусть Дю Бо и Сучков, Франс и Гинзбург – несоизмеримые величины в литературе, дело не в том. Дело в единодушии.
Впрочем, и М. Нольман, по-своему «отстаивая» Бодлера, все же не смог обойтись без замечания о «вере в пользу ненависти и искусства, которым поэт решил посвятить всю свою жизнь». Есть и другой вариант «мифа о Бодлере», казалось бы, полярно противоположный только что описанному, но – как известно, крайности сходятся. Некоторые западные литературоведы (Ж. Юбер, Ж. Помье, П. Эмманюэль и др.) явно слишком далеко зашли в попытках реабилитировать поэта в моральном и религиозном плане. В их работах Бодлер порой предстает чуть ли не католическим философом-мистиком и верным учеником Жозефа де Местра. Но с этой точки зрения становятся труднообъяснимыми многие бодлеровские произведения, и прежде всего знаменитые богоборческие стихи из «Цветов зла» («Отречение святого Петра», «Авель и Каин», а тем более «Литании Сатане»).
Третий вариант того же мифа создан исключительно усилиями советских интерпретаторов Бодлера, изо всех сил старавшихся приписать «проклятому поэту» чуть ли не социалистические убеждения. Начало этому положил писатель М. Горький, а вслед за ним свою лепту в «бодлероведение» внес нарком А. Луначарский, снисходительно назвавший поэта (в статье о нем, помещенной в «Литературной энциклопедии», 1929 г.) «превосходным выразителем того момента в истории французской буржуазии, когда она потеряла всю силу своего идеализма». Можно понять продолжателей этой славной традиции: они хотели «оправдать» Бодлера, хоть как-то привязать его к «прогрессивной» литературе, даже зачислить в ряды «сочувствующих рабочему классу» – лишь бы он не превратился в сугубо «реакционного» и запретного писателя. Эта цель была достигнута – ценой искажения облика Бодлера до неузнаваемости.
Таковы три легендарные ипостаси Бодлера. Одни считают его мрачным декадентом, апологетом Зла. Другие – мистическим поэтом и «тайным христианином», третьи – «прогрессивным писателем» и «врагом буржуазного общества». Возникает вопрос: кем же был Бодлер в действительности? Ответить на него исходя из названных легенд невозможно. В каждой из них есть доля правды – и доля лжи. Причем правда поверхностна, а ложь существенна. Ведь все эти вымыслы на самом деле не что иное, как «призраки разума», сухие уравнения без воспоминаний и существ. Помочь нам понять поэта могут лишь «призраки» его (а не нашего) воображения. И в случае с Бодлером нам повезло. Потому что именно «призраки воображения» – существа и воспоминания – оживают на страницах его стихов, статей, эссе и особенно в дневниковых записях и набросках конца 50-х и 60-х годов, которым поэт дал знаменательное название – «Мое обнаженное сердце».
На страницах этого удивительного «трактата о нравственной динамике», словно несомые каким-то темным ветром, оживают люди и тени, события, книги, образы, газетные вырезки… Здесь всё сумбурно и нелогично: рассуждения о любви соседствуют с политическим памфлетом, после «Выкладок в пользу Бога» вдруг следует запись о том, каким должен быть денди, а перед тем, как высмеять Сен-Марка Жирардена, Бодлер всерьез размышляет о «Всемирной Религии». Но какая же логика может быть у вдохновения? Весь блеск, вся неповторимость «Моего обнаженного сердца» именно в этой непредсказуемой непоследовательности. И стоит только разбить его сочинение на тематические разделы (как сделали четверть века назад Ив Флоренн и Беатрис Дидье), как сверкающая поэтическая мозаика тут же превращается в сборник разложенных по полочкам афоризмов. Это произведение напоминает зеркало, но зеркало весьма странное: оно и кривое и прямое одновременно. Поэт говорит о внешних событиях, высмеивает или восхваляет кого-то – и зеркало кривится: многое утрировано, а порой сведено к абсурду. Но стоит ему заглянуть внутрь, в свою собственную душу, как изображение вновь распрямляется, становится ясным и четким – такова сила искренности поэта.
Теперь посмотрим, как же отражаются в этом зеркале уже знакомые нам легенды о Шарле Бодлере, человеке и поэте.
На первый взгляд кажется, что представление о Бодлере как цинике, аморалисте, «демоническом» человеке подтверждается, «Наверное, есть своя особенная прелесть в том, чтобы быть попеременно то жертвой, то палачом». «Женщина естественна, то есть отвратительна». «У меня отсутствует то, что люди моего века называют убеждениями…». «В любой деятельности есть нечто мерзостное». Подобные фразы постоянно встречаются в «Моем обнаженном сердце». И, если бы бодлеровский текст состоял только из таких высказываний, нам пришлось бы безоговорочно признать правоту сторонников «демонической» легенды. Но вот другие фрагменты – не менее значимые: «Есть лишь три существа, достойные уважения: священник, поэт и воин…». «Прежде всего – быть великим человеком и Святым перед самим собой». И это не говоря о «Выкладках в пользу Бога» и о «Молитве». Странный же, однако, «демонизм». И еще более странный цинизм: ведь циник не молится и уж тем более не испытывает желания быть Святым, хотя бы и только перед самим собой. Трудно не заметить, что эти отрывки исполнены искреннего религиозного чувства. Уже одним этим сводятся к абсурду все разговоры о неистребимом аморализме Бодлера.
Но может быть, правы те, кто считает Бодлера своеобразным христианским мыслителем-мистиком? Основания для такой трактовки, несомненно, имеются, и «Мое обнаженное сердце» служит этому подтверждением. Вот еще две записи. «На земле нет ничего интереснее религий», – говорит Бодлер, а в другом месте замечает: «С самого детства я тянулся к мистике». Но обратим внимание на другие фрагменты текста: «…не было ли творение – падением Бога?», «самое проституированное существо – это существо высшее, это Бог…», «…главенство чистой идеи как у христиан, так и у коммунистов-бабувистов». Вряд ли подобные мысли могут прийти в голову христианскому философу.
Что же касается легенды советского образца, рисовавшей Бодлера «прогрессивным писателем-демократом, сочувствовавшим рабочему классу», то о ней и вовсе вряд ли стоит говорить серьезно. Никаких подтверждений такой точке зрения в «Моем обнаженном сердце» нет. Зато опровержений хватает с избытком. Вот высказывания Бодлера о революции, народе, демократии: «Своими жертвоприношениями Революция утверждает суеверие», «должно остерегаться народа…», «можете ли вы представить себе Денди, произносящего речь перед народом? – разве только для того, чтобы поиздеваться над ним», «одна лишь аристократия способна править разумно и надежно. Монархия или республика, основанные на демократии, одинаково безумны и слабы». Этого, пожалуй, достаточно. Все три легенды о Бодлере на наших глазах рассыпались, подобно карточным домикам. Но что это нам дало, какое новое знание? Ведь истинный образ поэта так и остался для нас тайной за семью печатями. Нам известно теперь только, каким он не мог быть, мы вооружены одним лишь негативным знанием – и перед нами немыслимый клубок противоречий. Поистине этот человек – загадка. Аморалист, рассуждающий о «Боге и его глубине», христианин, размышляющий о «падении Бога», мятежник, отстаивающий аристократический образ правления, денди, собирающийся стать святым, поэт, уверенный в «необходимости бить женщин», – всё это Бодлер «Моего обнаженного сердца»[92]92
Быть может, в этом, в сочетании несочетаемого, – вообще весь Бодлер. Во всяком случае, о его поэзии Поль Валери писал: «Есть в лучших стихах Бодлера сочетание плоти и духа, смесь торжественности, страсти и горечи, вечности и сокровенности, редчайшее соединение воли с гармонией…» (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Но именно пестрота этой мозаики наводит на мысль о том, что где-то в тексте за всеми этими несообразностями скрыта истина. Где-то поэт должен был «проговориться», где-то должна быть ключевая фраза, объясняющая весь этот «сюрнатурализм». Надо только найти ее, и тогда… может быть, не все противоречия исчезнут, но, по крайней мере, многое прояснится.
Но прежде обратимся к биографии поэта. Она достаточно широко известна, поэтому напомню только основные факты.
Шарль Бодлер родился 17 апреля 1821 года в Париже. В шесть лет он потерял отца, который был на сорок лет старше матери будущего поэта. Через год после этого вдова Бодлер второй раз вышла замуж за майора Опика, впоследствии ставшего генералом. Отчим поместил мальчика в коллеж интерном (то есть он жил и учился вне дома). По окончании учебы молодой человек стал вести безалаберную «богемную» жизнь, что вызвало недовольство четы Опик. Генерал отправил своего пасынка в долгое морское путешествие к берегам Индии, очевидно полагая, что это изменит его характер. Но Бодлер покинул корабль на полпути и вернулся во Францию, где его, достигшего совершеннолетия, ждало отцовское наследство. Получив его, он снова начал «прожигать жизнь», и к 1844 году растратил добрую половину денег. Тогда «семейный совет» постановил обратиться в суд для учреждения над «неисправимым» юношей официальной опеки. Несомненно, это было сильным ударом по самолюбию Бодлера.
В 1840-е годы началась его литературная деятельность: он печатает в разных изданиях стихи и статьи, в 1845 г. выходит его критическая работа о современной живописи «Салон 1845 года», позже – «Салон 1846 года».
В 1848 г. Бодлер действительно испытал, как признается потом, опьянение революции. Есть свидетельства о том, что он даже был на баррикадах[93]93
Помимо тех объяснений своей «революционности», которые Бодлер дал в «Дневниках», не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что к ней примешивались и чисто личные мотивы. Жюль Бюиссон вспоминал, как в феврале, после разграбления какой-то оружейной лавки, Бодлер кричал: «Надо пойти и застрелить генерала Опика!» (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть]. Однако через некоторое время Бодлер охладел к революционным и политическим действам, особенно после «конституционного» прихода к власти Луи Наполеона Бонапарта, вскоре провозгласившего себя императором Наполеоном III.
В 1857 г., с помощью своего друга и издателя Пуле-Маласси, Бодлер опубликовал книгу стихов, которой дал шокирующее по тем временам название – «Цветы зла». Книга была признана «непристойной», «оскорбляющей общественную мораль и добронравие». Сборник послужил предметом судебного разбирательства, в результате которого нераспроданная часть тиража была «арестована», шесть стихотворений – запрещены, а поэт и издатель приговорены к штрафу. После этого пессимизм Бодлера еще более усилился. Отношения с женщинами – особенно с квартеронкой[94]94
Т.е. на четверть негритянкой.
[Закрыть] Жанной Дюваль – были сложными и нередко тягостными. Собратья по перу, за исключением нескольких (правда, крупнейших – Виктора Гюго, Теофиля Готье, Теодора де Банвиля и некоторых других), относились к Бодлеру неприязненно, редакторы газет – снисходительно, карикатуристы издевались над ним. Его эссе о наркотиках «Искусственный рай» дало лишь новые основания для глумления над автором. Жил он очень бедно, иногда почти впроголодь, все более подпадая под влияние тяжелого психического расстройства.
В апреле 1864 г. Бодлер уехал в Бельгию, страну, которая представлялась ему «обывательским, добропорядочным раем». Этот «Рай» он возненавидел до такой степени, что собирался написать «антибельгийскую» статью-памфлет. В феврале 1866 года был издан второй небольшой сборник поэта – «Обломки». И тогда же, в феврале 1866-го, случилось непоправимое: потеряв сознание, Бодлер упал на каменные ступени церкви Сен-Лу в Намюре, на другой день у него обнаружились первые признаки паралича и расстройства речи, перешедшего потом в полную ее потерю. В июле, уже неподвижного, его перевезли в Париж, где он медленно умирал еще много месяцев. 31 августа 1867 года Шарль Бодлер скончался. Многие его произведения были опубликованы посмертно – в том числе и «Мое обнаженное сердце».
Сердце Бодлера действительно «обнажено» в этих черновых набросках. В искренности поэта трудно сомневаться, настолько естественны здесь гнев, сарказм, улыбка, грусть… И, пожалуй, самое главное – горечь. Когда Бодлер говорит о «существах» (в основном – о своих литературных врагах), он едко, а иногда и зло смеется. Когда же он говорит о «воспоминаниях» (то есть, прежде всего, о самом себе), им владеет именно это чувство – горечь. Сколько ее вот в этом хотя бы признании: «Чувство одиночества – с самого моего детства. Несмотря на близких – и особенно в кругу товарищей, – чувство вечно одинокой судьбы. Притом сильная жажда жизни и удовольствий». И быть может, этот фрагмент и есть ключ к пониманию личности Бодлера, его судьбы и его творчества. «Одиночество» – вот оно, искомое слово-разгадка. Одиночество родилось вместе с Бодлером – как видим, он с детства чувствовал себя всюду чужим, даже в кругу товарищей. У него была тонкая, очень чувствительная натура. Маленький Шарль души не чаял в своей матери, она была единственным существом, к которому он испытывал глубокую привязанность, и естественная сыновняя любовь у него переходила в настоящее обожание. Второе замужество матери обернулось для Бодлера сильнейшей душевной травмой. Отчима он ненавидел всю жизнь, несмотря на то, что тот по-своему неплохо к нему относился и в общем-то был совсем не злым человеком. Понемногу к мальчику приходило осознание своей «вечно одинокой судьбы». Вот как писал об этом Жан-Поль Сартр в своем эссе о Бодлере: «…этот одинокий человек ужасно боится одиночества, он никогда не выходит из дома без спутника, ему хочется семейной жизни, домашнего очага, этот апологет воли абсолютно безволен, неспособен заставить себя работать; он звал путешествовать, объявлял о переездах, мечтал о неведомых странах – но целых шесть месяцев не мог решиться съездить в Онфлёр[95]95
В этом городе поселилась мать Бодлера после смерти генерала Опика (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть], а единственное настоящее предпринятое им путешествие показалось ему бесконечным мучением».
Исток такого мироощущения Бодлера – его детство, но Эдипов комплекс и теория психоанализа здесь ни при чем. Осознание собственного одиночества – удел каждого человека, однако для поэта оно становится неутихающей болью, ведь у него – обнаженное сердце. Обратимся еще раз к Сартру: «В ноябре 1828 года эта женщина, – пишет он, имея в виду мать Бодлера, – второй раз выходит замуж за военного. Бодлера помещают в интернат… Именно тогда его душа как бы надломилась… К чувству ярости из-за того, что его “выгнали”, примешивается ощущение полной безнадёжности. И он уже воспринимает эту изоляцию, как судьбу. Брошенный, отверженный, Бодлер решил приписать себе (курсив мой. – Г.М.) стремление к уединению. Он как бы брал на себя ответственность за свое одиночество, чтобы можно было думать, что оно явилось результатом его собственной воли – чтобы не мучиться… Отныне он, с его упрямством и вспыльчивостью, переходящей в уныние, сделался другим, не таким, как его мать… не таким, как его грубые и беззаботные товарищи».
Бодлер на всю жизнь остался «не таким». Не таким, как его родные. Не таким, как его собратья по перу. Не таким, как все.
Этот человек был каким-то живым противоречием. Он хотел быть денди, прославлял «Мораль Ухода за собой» – и иногда вынужден был по несколько дней проводить в постели по той простой причине, что у него не было не только денег, но даже чистого белья и приличной одежды. Он жаждал любви женщины-ангела – и никак не мог уити от вульгарной и постоянно изменявшей ему Жанны Дюваль. Он «скучал» во Франции, которую конечно втайне любил, – а последние годы жизни провел на чужбине, да еще в презираемой им (пусть несправедливо) Бельгии. Он писал «Литании Сатане» – но всю жизнь из своего темного мира пытался прорваться к Богу. Кажется, всё это объяснимо прежде всего – «чувством вечно одинокой судьбы». Трагический герой, неизвестно как попавший в глупый водевиль, он мечется между подонками и аристократами, матерью и Жанной, Богом и Сатаной. В ужасе бежит он от «литературной сволочи», от всех этих Рун, Калоннов, Соларов, Жирарденов, – но и в обществе Теофиля Готье и Леконта де Лиля оказывается чужим. И Бодлер ищет спасения в мрачных фантазиях Эдгара По и в метафизических Цветах ирреального Зла – в собственных стихах, над которыми персонажи водевиля устраивают судебный процесс, словно стихи – живые существа…
«Всё его творчество… напоминает какой-то страшный гимн во славу рока и неустранимого страдания». Так писал Бодлер о своем современнике, художнике Эжене Делакруа. Но эти слова несомненно могут быть отнесены и к творчеству самого Бодлера. Страшный гимн этот предстает непрерывным циклом – в поэзии, прозе, эссеистике: порой совершенно не похожие друг на друга тексты имеют один общий философский знаменатель, одну эстетическую прародину.
«Проклятого поэта» Шарля Бодлера нередко называли романтиком. Возможно, в этом есть небольшая доля истины. Но даже если так – это очень необычный романтизм. Вот одно из бодлеровских высказываний: «Всякий хороший поэт был всегда реалистом; равновесие между впечатлением и выражением – искренность». А вот слова прокурора Пинара на процессе над «Цветами зла». «Противодействуйте вашим приговором, – обращался он к суду, – этим растущим и уже определенным тенденциям, этому нездоровому стремлению изображать всё, описывать всё, рассказывать обо всём так, как если бы понятие преступного оскорбления общественной морали было упразднено и этой морали не существовало». Некоторые литературоведы на этом основании провозглашали Бодлера мастером-реалистом. Но реализм «Цветов зла» кажется еще более странным.
«Душа, тобою жизнь столетий прожита», – так начинается одно из важнейших для понимания поэтической философии Бодлера стихотворений. Оно названо характерным словом «Сплин». Свой «печальный дух» поэт сравнивает со «склепом бездонным, полным тьмой». Он говорит, что в его душе
Бредут хромые дни неверными шагами,
И, вся оснежена погибших лет клоками,
Тоска, унынья плод, тираня скорбный дух,
Размеры страшные бессмертья примет вдруг.
(Перевод Эллиса)
Казалось бы, все романтические приметы налицо: традиционная «тоска», «сплин», «скорбный дух»… Мало того, есть в этой книге еще более «романтические» фрагменты. Такие, как, например, терцеты из сонета «Музыка»:
Трепещет грудь моя,
полна безумной страстью,
И вихрь меня влечёт над гибельною пастью,
Но вдруг затихнет всё —
И вот над пропастью
бездонной и зеркальной
Опять колеблет дух спокойный и печальный
Отчаянье своё.
(Перевод Эллиса)
Но есть в «Цветах зла» и такие вещи, которые любому уважающему себя поэту-романтику попросту противопоказаны. Вот одна из самых излюбленных тем романтизма: ночь и одинокий, не понятый миром герой во власти неизбывного сплина. Казалось бы, для Бодлера, поэта тьмы, это общее место должно оказаться необходимым. Но в стихотворении «Наваждение» читаем:
Тебя бы я любил, о Ночь! Без звёзд горящих,
Чей свет мне говорит знакомым языком! —
Затем, что пустоты и тьмы ищу кругом.
Но даже мрак – шатёр,
где меж холстов висящих
Живут, являясь мне бесчисленной толпой,
Родные существа, утраченные мной.
(Перевод Льва Остроумова)
И если бодлеровский романтизм оказывается на поверку чем-то гораздо более серьезным, чем пресловутые «общие места» этого литературного направления, то говорить о реализме французского поэта и вовсе бессмысленно. Потому что в слова о «хорошем поэте», который «был всегда реалистом», Бодлер вкладывал, видимо, особый смысл. Вот что он писал незадолго до смерти о «Цветах зла» нотариусу Анселю, своему опекуну: «…в эту жестокую книгу я вложил всё мое сердце, всю мою нежность, всю мою (перелицованную) веру всю мою ненависть. Конечно, я стану утверждать обратное, буду клясться всеми богами, что это книга чистого искусства, кривляния, фокусничества, но я буду лгать, как базарный шарлатан». Это не определение реализма – это мера искренности, честности перед самим собой, а значит, и перед читателем. Бодлер называл прогресс «новой формой человеческой глупости». «Отражение действительности» – было для него важным именно как отражение, и нередко в кривом зеркале. «О ритм, о цвет, о звук! Ты в плен берёшь поэта / Чтоб мерзкой жизни груз он сбросил хоть на час». Мир «Падали», «Продажной музы», «Скверного монаха», наконец, «Погребения проклятого поэта» нереален и реален одновременно. Он более похож на мир наркотических видений, чем на действительную каждодневную явь.
«Искусственный рай» – так назвал Бодлер свою книгу о наркотиках и их воздействии на поэта. Именно на поэта, потому что обыкновенного буржуа он предупреждает, что «рай», скорее всего, окажется настоящим адом. Символисты впоследствии видели в этой книге, как, впрочем, и в стихотворении «Соответствия», предвосхищение их восприятия мира. Любопытно, что Бодлер и в этой почти мистической по духу книге остался верен своей противоречивой натуре. О человеке, употребляющем гашиш, он пишет: «Он так хотел уподобиться ангелу, а превратился в скота – неожиданно очень могущественного, если могуществом можно назвать чрезмерную чувственность». Но вот другой фрагмент: «Удивительные циклопические конструкции громоздились в его воображении, подобные тем зыбким строениям, какие взор поэта различает в облаках, освещенных лучами заката». И, наконец: «…для того, чтобы судить об удивительных свойствах этого яда, абсурдно предлагать его торговцу быками, ибо тот будет грезить лишь о быках и пастбищах». Наркотическое опьянение уподобляется поэтическому вдохновению. Есть лишь одна – в духовном отношении – граница. Но граница, подобная пропасти. «Человек, долгое время предававшийся опьянению гашишем или опиумом, но сумевший освободиться от этого порока, напоминает мне сбежавшего из тюрьмы смертника», – пишет Бодлер. Наркоман, хотя и в редчайших случаях, еще может спастись, совершить побег из этой тюрьмы. Для поэта побег невозможен. «Неистребимые змеи», которых поэт «волочет с собой» (стихотворение «Голос»), – это не только пороки плоти и мучения духа. Это еще и проклятие вдохновения. И способность видеть не только действительность реализма или легенду романтизма, но и их странное сочетание, их противоречивую и совпадающую в некой формуле бытия суть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.