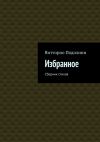Текст книги "Избранное. Том I"

Автор книги: Георгий Мосешвили
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Что же голос какой-то тревоги
Мучит тебя на пути
Б.Н.
«В конце жизненного пути естественно оглянуться назад и перечитать свою жизнь, как дневник. Для поэта его дневником являются его книги. Воспоминание идет обычно от недавнего прошлого к давнему. Поэтому поэт (уповательно – вместе со своим читателем) хочет перечитать свои книги в обратном порядке, а вместе с этим и представить то, что он в своей жизни сделал, всё вместе в одной книге».
Так писал русский эмигрантский поэт Борис Нарциссов в предисловии к своему итоговому сборнику стихов «Звездная птица», вышедшему двадцать один год назад в Вашингтоне. В этом издании были представлены целиком все вышедшие до этого поэтические книги Нарциссова – именно в обратном, «зеркальном», порядке. И это не случайно.
Борис Нарциссов был одним из немногих поэтов-мистиков. Речь идет об истинной, «настоящей» мистике, не имеющей ничего общего с модными ныне «прозрениями» экстрасенсов, «народных целителей» и прочих. Это был поэт, обладавший, как сказал Георгий Иванов, «талантом двойного зренья»: казалось, он может увидеть невидимое, почувствовать неощутимое, объяснить тайное. Темный мир таинственного Нарциссов действительно воспринимал как чуть ли не осязаемую реальность. Тяжкий жребий – нести такой дар и не согнуться, не поддаться наваждениям тьмы, не сойти с ума, наконец. Но Борис Анатольевич выдержал это испытание и сохранил не только ясный до последних дней разум, но и чистое сердце и мастерство поэта.
«Этот “спрятанный в свете мрак” – писал о Нарциссове другой известный эмигрантский литератор Борис Филиппов, – эту нежить, нас окружающую, Борис Нарциссов писал по-босховски сильно и ярко, зримо и осязаемо. И при этом его нежить была очень русской, очень домашней и иногда не без некоторой даже уютцы – и тем самым ещё более жуткой… В поэте Нарциссове жило два человека: уверенный в непреклонной правоте числового анализа позитивист, стремящийся поверить алгеброй гармонию, – мистик, старающийся при этом изо всех сил вколотить мистический опыт в опыт эмпирический…» Да, видимо, так оно и было. Только «мистический опыт» поэта Нарциссова возник не из чтения книжек по теософии или оккультизму. Он возник из судьбы.
Борис Анатольевич Нарциссов, сын деревенского врача, родился в 1906 г. близ Саратова. Волей судьбы он оказался в Эстонии, которая после прихода к власти большевиков в России сумела отстоять себя и стала независимым государством. В 1924 г. Нарциссов окончил гимназию в Тарту, а через шесть лет стал выпускником Эстонского государственного университета. Учился он на химическом факультете и получил степень магистра химии. После Второй Мировой войны он оказался в Германии, откуда в начале 50-х уехал в Австралию, а затем перебрался в США. Занятия наукой он не оставил и долгие годы, как свидетельствует поэт и издатель Валентина Синкевич, работал в Библиотеке Конгресса над научными проектами. Но, наверное, всё же главным в его жизни была литература, а точнее – поэзия.
Писать стихи Борис Нарциссов начал уже в Эстонии, изредка публиковал их. Он был знаком с участниками дерптского «Цеха поэтов». О некоторых из них он вспоминал позже в своем знаменитом стихотворении «Двойники»: это руководитель дерптского «Цеха поэтов» Борис Правдин, писатель-эмигрант Борис Вильде, расстрелянный впоследствии гитлеровцами, как участник французского Сопротивления, Борис Новосадов, расстрелянный НКВД в 1945 году. Судьба Бориса Нарциссова оказалась иной: странные стихи вместо молчания, американская эмиграция вместо смерти. И мистический опыт. Но не только он.
В стихах Нарциссова чуткий читатель уловит один постоянный лейтмотив: тревога. Поэта-ученого тревожит неостановимый «прогресс», превращающий человека в некое подобие машины. Поэта-мистика тревожит потусторонний мир, всё больше и больше захватывающий власть над человеком, затемняющий его разум и леденящий сердце.
Если закроешь глаза,
То начнёт темнота шевелиться:
Точно корнями лоза
Прорастает, и гроздьями лица.
Эта тревога – не напускная, не выдуманная. Да, есть здесь и страх – тоже не выдуманный, до дрожи реальный. Есть и боль. Но голос тревоги звучит, только если есть за что тревожиться. Борис Нарциссов не был угрюмым, мрачным, равнодушным ко всему, кроме собственного ужаса, скептиком. Его душа была открыта свету. И не его вина, что света в мире слишком мало.
Вот что пишет в статье, посвящённой памяти поэта, Валентина Синкевич:
«Для многих, лично знавших Бориса Анатольевича, был он также верным другом, литератором готовым помочь младшему брату по перу Был он также прекрасным хозяином, вместе с женой Лидией Александровной радушно принимавшим гостей… Хозяин любил увлеченно говорить о литературе и особенно о поэзии, которую он понимал как познание ощущений (главным образом, ощущения красоты)… Вокруг дома буквально процветали сад и огород взращенные руками физически очень крепкого хозяина. Годы были к нему милостивы. На своих питомцев – на растения – смотрел он, как на живые существа, чувствующие настроение человека, реагирующие на доброе и злое в нем. (Так подходила поэту любящему цветы, его цветочная фамилия).
Мир Нарциссова был щедр не только к растениям, но и к животным тоже. Дверь приблудившейся кошке у Нарциссовых открывали, и на дворе приходили на помощь нуждающимся птицам».
Визионер, способный узреть потустороннюю демоническую жуть, и садовод, перевязывающий крыло раненой птице, – это один и тот же человек: Борис Нарциссов. «А как же Бог?» – спросит какой-нибудь суровый ревнитель веры. Борис Филиппов свидетельствует: «Время от времени (Нарциссов) начинал искать выход из безвыходности в византийском золоте Церкви. Как взволнованно рассказал о. Виктор Потапов, под конец пришел Нарциссов – горячо и искренне-к православию. Да и раньше нет-нет, а светлые лучи всецелой полноты жизни пробивались в мрачное подполье его поэзии».
В Америке поэт издал семь книг стихов. Шестая из них – «Звёздная птица», – как уже было сказано, включала в себя все предыдущие. Седьмую Борис Анатольевич увидеть не успел – она вышла посмертно. У нее о многом говорящее название: «Письмо самому себе». Да, письмо – в стихах и в прозе, – ведь Нарциссов был еще и незаурядным прозаиком, эссеистом, переводчиком. Но когда же человек пишет самому себе письма? Разве что в конце жизни. Последнее письмо. Последний ход в шахматной партии. Один из сборников Нарциссова так и назывался – «Шахматы».
То ночь, то день. На чёрно-белых
Полях борьба – за ходом ход…
Изображение жизни как шахматной партии не ново. Но для Нарциссова эта почти банальная метафора превращалась в реальность, окружающую человека, а тем более поэта – каждый день. Каждый час. Может быть, и каждое стихотворение было для него ходом пешки или фигуры в той короткой партии, которую человек играет сам с собой. Или с Богом. А скорее всего – со смертью.
Уже давно тяжело больной (у него был рак) русский поэт Борис Анатольевич Нарциссов умер в ночь с 26 на 27 ноября 1982 года. «Звездная птица» сложила свои крылья. Странные двойники и молчаливые созвездия, тени истории и призраки потустороннего мира, цветы и шахматные фигуры – весь удивительный мир поэта ушел от нас. Но не навсегда. Потому что этот мир, как в зеркале, отразился в его стихах. И, значит, Борис Нарциссов выиграл свою шахматную партию со смертью. Человека не стало. Но остался неслышно звучащий с книжных страниц голос. Голос тревоги. И вопреки всему – голос надежды.
Свободы лёгкое дыханье
В застенках всех земных дорог
Свободы лёгкое дыханье…
В.К.
«Я сделал всё возможное, чтобы меня лишили сладкого. Некоторые “критики” просто не могут слышать моего имени, по-своему они правы (зазнался, зазнался…). А между тем, кому придет в голову, что и собственные стихи внушают мне некоторое отвращение?…» Это отрывок из письма русского эмигрантского поэта Владимира Корвина-Пиотровского поэтессе Татьяне Фесенко. Редко встретишь столь негативно оценивающего свое творчество поэта. Что это? – Может быть, комплекс неполноценности? Но вот что пишет в своей статье о Корвине-Пиотровском близко знавший его Ю. Офросимов: «И еще было у него чудачество (…) привычкой вошло у него аттестовать себя, как гения (…) с величайшей серьезностью и убедительностью, так что часто думалось, что сам он в этом глубоко уверен. И от этого иные впадали в глубокое недоумение, а порой и в негодование». Тут впору прийти к прямо противоположному выводу: не комплекс неполноценности, а скорее болезненная мания величия. И только читая стихи Корвина-Пиотровского, понимаешь, что на самом-то деле не было ни комплекса, ни мании. Было другое: необыкновенная судьба и живые стихи.
Владимир Львович Корвин-Пиотровский родился в 1891 г. в городе Белая Церковь. Он принадлежал к старинному дворянскому роду. Во время Первой Мировой войны был офицером-артиллеристом, затем сражался против красных на фронтах Гражданской войны. К этому времени относится любопытный эпизод, о котором рассказал в «Новом журнале» Роман Гуль. «Отряд, которым он командовал, занял какую-то жел. дор. станцию, кажется Казатин, и в городе начались самочинные аресты всех подозреваемых в сочувствии большевикам, причем главным образом эти кары обрушились на еврейское население. И вот, войдя в вокзальный зал, Корвин увидел за вокзальным столом своего гимназического товарища Лифшица. Белый офицер Корвин знал, что Лифшиц стал коммунистом и даже занимает какие-то высокие посты. Корвин много лет не видел его, но сразу узнал и понял, что Лифшиц, конечно, будет схвачен и расстрелян, как коммунист. Подойдя к Лифшицу, Корвин сказал ему, чтобы он немедленно шел с ним в вагон, в его купе. Там Корвин продержал Лифшица до тех пор, пока опасность миновала, и Лифшиц вылез на какой-то другой станции. В двадцатых годах Лифшиц по каким-то делам приехал в Берлин, разыскал там Корвина и, желая хоть чем-нибудь его отблагодарить за спасение жизни, помог ему в издании книги стихов. Так дружба у Корвина стерла разность политических лагерей».
Что тут скажешь… Конечно, поступок Корвина-Пиотровского был смелым, благородным и по тем временам необычным. Но вот удивительная вещь. Во время всё той же Гражданской войны Пиотровский однажды попал в плен к красноармейцам. Его приговорили к смерти, вывели в поле и расстреляли. Но сделали это не слишком умело. Недорасстреляли. Пленный офицер чудом остался жив. И кто знает – может быть, это чудо произошло именно потому, что Корвин-Пиотровский спас жизнь Лифшицу…
После поражения белых Владимир Львович уехал из России и оказался в Берлине. Застенкам советских дорог он предпочел лёгкое дыханье эмигрантской свободы. Да, в «русском Берлине» можно было дышать. Хотя жить было не так уж легко.
Именно в Берлине и начал Корвин-Пиотровский свою литературную деятельность. Он печатался чуть ли не во всех тогдашних эмигрантских журналах, выходивших в германской столице. Как свидетельствовал Г.П. Струве (чья статья, посвященная памяти Пиотровского, была опубликована в 1966 г. в «Русской Мысли»), Владимир Львович был членом литературного кружка при журнале «Веретено». Кроме него и Струве в этот кружок входили известные эмигрантские поэты Сергей Горный и Леонид Страховский, а также (что небезынтересно) Владимир Набоков. В 1921–1923 гг. Корвин-Пиотровский даже руководил отделом поэзии журнала «Сполохи». Приблизительно в это же время он издал поэтические сборники «Святогор-скит» (1923), «Полынь и звёзды» (1923), «Каменная любовь» (1925) и книгу прозы «Примеры господина аббата». Впоследствии поэт относился к этим ранним сборникам резко отрицательно – и, кажется, напрасно. Нет смысла сравнивать эти вещи с позднейшими стихами – это два совершенно непохожих друг на друга поэтических мира. Общее у них лишь одно: Россия. Ю. Офросимов писал: «Уже по названиям (ранних – Г.М.) сборников видно, что русская вязь остаётся их основой. (…) Всё творчество его пронизывала острая любовь к родине, любовь оптимистическая. (…) Россия – скорее Русь – виделась Корвину по большей части древней, первобытной, почти такой, как она привиделась Стравинскому в “Весне священной”. Ощущение родины, земли вообще у Корвина чрезвычайно мужественно – в противоположность Есенину и Клюеву, которых, кстати, уверен, в те времена и знать он не мог». В той же статье Офросимова есть упоминание и о том, что «как раз в эти годы Корвин встречает очень благожелательные отклики и в печати, и в литературном кружке Айхенвальда – Гр. Ландау, Вл. Сирин (Набоков – Г.М.), В. Ирецкий. И в кружке берлинских поэтов – (…) Р. Блох, М. Горлин, С. Прегель и др. – он находит и уважение, и понимание, и любовь». В 1929 г. выходит новая книга поэта – «Беатриче». Но это была уже не лирика, а сборник драматических поэм. Этому жанру Пиотровский оставался верен всю жизнь, и в его наследии, кроме стихов, можно найти и великолепные, может быть, единственные в русской поэзии после «серебряного века» драмы в стихах: «Беатриче», «Король», «Смерть Дон Жуана» и другие. Кстати, на книгу «Беатриче» одобрительный отзыв написал Набоков…
Однако наступает новая эпоха – 30-е годы. В Германии к власти приходит Гитлер. Некоторые русские эмигранты остаются вольно или невольно в Третьем Рейхе, другие покидают немецкую землю и уезжают по большей части в Париж. В их числе и Владимир Корвин-Пиотровский вместе с женой Ниной и сыном Андреем. Жизнь в «столице русского Зарубежья» была тоже нелегкой – Пиотровский одно время работал, как и многие эмигранты, шофером. Но по-настоящему тяжелые времена наступили, когда разразилась Вторая Мировая война и Францию оккупировали нацисты. Бывший белый офицер Корвин-Пиотровский стал участником французского Сопротивления. И вот каким-то таинственным образом – иначе не скажешь – почти повторилась трагическая, но со счастливым концом история, произошедшая с Корвиным во время Гражданской войны. Как участник Сопротивления, поэт был арестован гитлеровцами, приговорен к расстрелу и… смерть вновь обошла его стороной. Пиотровский провел девять месяцев в тюрьме, он опять оказался на грани смерти и всё же остался жив. В нацистском застенке он вел себя очень достойно. Роман Гуль свидетельствует: «Как-то, после войны, я встретил у Корвиных одного маляра, армянина-француза, который приходил благодарить В.К. за “спасение жизни” и всё хотел бесплатно выкрасить всю их квартиру. Оказывается, Корвин в тюрьме дал за него какое-то ручательство, которое его в конце концов и спасло». Как видно, история с Лифшицем имела продолжение – одного Пиотровский спас от белых, другого – от коричневых…
После окончания войны Корвин-Пиотровский, как многие другие русские эмигранты, чуть не сделался советским патриотом – победы Советской Армии были слишком впечатляющими. Одно время он даже собирался стать «возвращенцем» и взять советский паспорт. Но, как пишет Гуль, «в конце концов разум взял верх и вместо родины В.К. переехал в США». Однако еще до этого поэт издал в Париже две блестящие книги стихов: «Воздушный змей» (1950) и «Поражение» (1960). Вот в этих-то сборниках и явился читателю новый поэт Корвин-Пиотровский, совсем не похожий на автора берлинских книг. Изменилось всё – от поэтической манеры до философского взгляда на мир. И, конечно, такое изменение произошло благодаря судьбе самого поэта.
«Вл. Корвин-Пиотровский был настоящим мастером стиха, – пишет поэт и критик Кирилл Померанцев. – Это-то мастерство и позволяло ему оплетать, почти охмурять описываемую им реальность, зачастую самую банальную (опрокинувшуюся чернильницу, ночных бабочек, очки…) покровом описательной фантастики, сохраняя и реальность, и фантастику. Таков сборник “Воздушный змей”. Он сразу погружает читателя в свой двойной мир». Сам же поэт говорил об этом так: «Двойной мир – это не только литературный мой прием, я всей душой ощущаю его, стою одной ногой тут, а другой – там. Они оба для меня реально слиты, но враждебны – когда-нибудь я могу разорваться…».
Замечательный поэт и строгий критик Георгий Адамович тоже отмечал двойственность поэтического мира Пиотровского: «А ведь какая при этом у него изощренность в игре и в смешении двух планов, реального и другого, призрачного, но еще хранящего все признаки реальности! Эпитеты, образы неизменно остаются прозаическими, никаких ангелов, небес, нимф или асфоделей. Но в прозу врывается… нет, не врывается, а вкрадчиво проникает мир, к которому обычные слова применимы только потому, что для него других слов еще не найдено, и всё двоится, троится, почти до бесконечности, как в зеркалах, поставленных одно против другого. Оттого и фразы у Пиотровского обрываются на полдороге, предоставляя догадываться, чем их следовало бы продолжить…».
Строки, подтверждающие сказанное Померанцевым и Адамовичем, в поэзии Пиотровского можно найти буквально в каждом стихотворении. Вот 1931 год: «Как я люблю непрочный этот час / Полусознания, полудремоты, – / Как пуст мой дом. Как дружелюбно кто-то/Касается моих усталых глаз». А вот уже послевоенный год – 1953: «Я не вздохну Неосторожный жест / Нарушит, может быть, очарованье, – / Офелия, как много в мире мест, / Где назначают призраку свиданье». Между этими двумя фрагментами 22 года. Немалый срок. А ведь кажется, что они взяты из одного стихотворения. Редкое постоянство стиля, почти классического. Но о «классицизме» Корвина-Пиотровского разговор особый.
Русские поэты-эмигранты в большинстве своем чурались литературного авангарда. Футуризм, например, в их сознании прочно ассоциировался с революцией, ЛЕФом, Маяковским. Приблизительно таким же было отношение к прочим нетрадиционным литературным направлениям. Исключения – среди поэтов – можно пересчитать по пальцам: Илья Зданевич, Борис Божнев, еще, может быть, два-три поэта и, разумеется, Марина Цветаева, которая именно из-за «нетрадиционности» ее поэтической манеры и оказалась непонятой литераторами русского Парижа. Эмигрантские противоборствующие литературные лагеря – «парижская нота» Адамовича и «Перекрёсток», близкий к Ходасевичу, – так или иначе ориентировались на классические традиции русской поэзии. И вот появляется поэт, который пишет чуть ли не исключительно пушкинским четырехстопным ямбом, употребляет архаические обороты речи, чья стилистика во всём соответствует канонам «золотого века» русской поэзии. Никаких вольностей. Всё четко, строго и выверено. Пожалуй, даже слишком четко и строго. Это, кажется, уже перебор – такой поэт может быть разве что эпигоном. Но вот что пишет Адамович: «Было бы ошибкой по наружному облику стихов Пиотровского причислить его к тем несколько наивным поэтам, которые делают ставку на мнимо “кованый” стих и полагают, что если Пушкин был великом мастером, то значит надо и в наши дни рабски копировать его стиль и приемы. Поэзия Корвина-Пиотровского ни в коем случае не музейна, не мертвенна и не подражательна. Однако в ней заметно редкое по нынешним временам сознание того, что новизна вовсе не должна сразу бросаться в глаза, что она не исключает преемственности, что поэтическое ребячество всё равно окажется разоблаченным…».
К. Вильчковский заметил по этому же поводу: «В области теории стихосложения он вовсе не искушен и новое находит спонтанно. Поэтическое чудо совершается им в иррациональном порядке (как только и совершаются чудеса), т. е. в силу художественной интуиции, никакой техникой не заменимой, и в силу творческой самобытности, которой он не изменяет, избирая стилизованные формы (…), так же мало стесняющие его внутреннюю свободу, как мало стесняют искрой Божией отмеченного иконописца самые суровые требования Подлинника».
…После войны Корвин-Пиотровский, как уже было сказано, перебрался из Франции в США. Незадолго до отъезда он писал Ю. Офросимову: «Всё дальше несет меня от единственной мне дорогой точки, из одного бездомья в бездомье новое… Я уже почти привык к потерям, но так и не знаю, есть ли в них некий смысл. Из потерь этих сложились три мои сборника: “Беатриче”, которая ждет поправок, “Воздушный змей” и “Поражение”. Это немного. Я не знаю, окупает ли это всё, что могло бы у меня быть и чего, конечно, больше не будет».
«Могло быть» многое. Тот же Офросимов вспоминает, что «одно время у Корвина были планы героической поэмы о Колчаке и, нечто вроде плача Иова Многострадального, – поэмы о Николае Втором…». Эти вещи, как, наверное, и многие другие замыслы поэта, остались невоплощенными. Второго апреля 1966 года русский поэт Владимир Корвин-Пиотровский умер в Лос-Анджелесе от аневризмы аорты.
Через три года в нью-йоркском издательстве Камкина вышел двухтомник Корвина-Пиотровского «Поздний гость», включавший практически все произведения поэта.
«Всегда формальный классик, Корвин в своих темах часто становился беспредметен, – отмечает Роман Гуль, – и кто-то, на мой взгляд, очень метко назвал его “заумным классиком”». Да, именно таким «заумным классиком» и остался Владимир Корвин-Пиотровский в русской поэзии. А вот о «беспредметности» его стихов можно было бы поспорить. Потому что в стихах Пиотровского всегда присутствует один и тот же «предмет», одна и та же музыкальная тема – свобода. Та самая «тайная свобода», о которой писал когда-то Пушкин – свобода, ставшая стихами и судьбой. И самое точное определение для поэзии Корвина-Пиотровского (если вообще возможно определение поэзии) – это его собственные слова: «Свободы лёгкое дыханье».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.