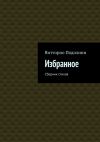Текст книги "Избранное. Том I"

Автор книги: Георгий Мосешвили
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
…И к победе приходит не каждый…
…
Только тот,
кто тяжёлую долю свою не меняет,
Не бросает креста
с обессиленных ношею плеч,
Кто, как дар драгоценный,
всю жизнь до конца принимает,
Кто усталые годы умеет,
как подвиг, сберечь.
Ольга Скопиченко
В одном из лучших своих стихотворений Элла Боброва пишет от имени лирического героя:
… Потом из непроглядной тьмы-столетья
Я к выходу путь ощупью искал.
Эти стихи теперь кажутся анахронизмом лишь в одном отношении. Двадцатое тьма-столетье завершилось. Наступил новый век. Будет ли он светлее предыдущего – неясно. Увы, начало XXI века не предвещает, кажется, ничего хорошего. Но и в самые темные времена у человечества всегда были два неугасимых источника света. Божественное Слово, нисходящее с небес на землю. И слово человеческое, восходящее от земли к небу. И там, где человеческое слово воспринимает хотя бы малую частицу Божественного света, возникает поэзия. Недаром прежде говорили «поэт милостью Божией». Как ни жаль, немного осталось таких поэтов. Элла Боброва из их числа.
Когда-то Георгий Иванов, горько усмехаясь, писал:
Как обидно – чудным даром,
Божьим даром обладать,
Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.
Г. Иванов, думается, всё же слегка кривил душой. Ведь если бы он действительно растратил даром свой талант поэта, не было бы у нас ни «Роз», ни «Отплытия на остров Цитеру», ни других прекрасных его стихов. Но нередко бывает и так: золотая благодать растрачивается поэтом зря, на пустые мелочи, на преходящую «злобу дня», на попытки следовать моде, «идти в ногу со временем» или – еще того хуже – на воспевание необходимости самовластья и прелестей кнута. Избежать всех этих искушений дано не каждому. Элла Боброва – одна из немногих, сумевших свой чудный дар не только сохранить, не растратив, но и донести до тех, кто любит истинную поэзию.
…Написал слово донести – и задумался. Странное это слово. Каким-то таинственным образом совмещены в нем два значения. Одно – от глагола нести, и здесь всё верно: поэтический дар действительно нелегкая ноша (вспомним название книги стихов Ходасевича «Тяжелая лира»). Зато другое значение – от слова донос – губительно для всего живого, будь то люди или стихи. Существуют, конечно, и доносы в стихах, но это уже не поэзия, а смердяковщина. Так вот, в поэме Эллы Бобровой «Ирина Истомина» эпоха доносов (а как еще назвать советские 30-е и 40-е годы?) явлена во всей своей жуткой – до мороза по коже – реальности. И, может быть, самое здесь удивительное: вместо жесткой рваной прозы в духе Некрасова, Максимова или даже Солженицына вся эта уродливая фантасмагория оживает в строгих, чеканных, классических по форме стихах:
В тот год
немногим удавалось
Найти отца иль мужа след;
Удачей редкою считалось
Какой-то
получить ответ.
Трус – и со страхом незнакомый
Беспрекословно пали ниц,
Страшась «ежовых рукавиц»
Тогда всесильного наркома.
Кстати, в послеперестроечные годы и в России, и на Западе о сталинском терроре, кажется, напрочь забыли. Тема вышла из моды. Поговорили, заклеймили, расставили всё по полочкам – и хватит. «Сколько можно об одном и том же?» – логика слепцов, которые ведут слепых же. Хотите знать, к чему это приводит, – раскройте Евангелие.
Забыть – один из любимых глаголов нашего времени. Впрочем, забыть, простить – какие хорошие, христианские слова! Да, хорошие, спору нет. Только есть и для забвения, и для прощения граница. Еще один эмигрантский поэт, Дмитрий Кленовский объяснил нам это в двух строчках:
…Я всех забыл, я всё забыл,
А это – не могу!
Между прочим, и Дмитрий Кленовский, и Элла Боброва – поэты так называемой «второй волны» эмиграции. Они из поколения «ди-пи», «перемещенных лиц» – тех, кто оказался на Западе во время Второй Мировой войны или в первые послевоенные годы. Советские власти вплоть до перестройки ненавидели их еще больше, чем эмигрантов «первой волны», покинувших Россию после революции и гражданской войны. Какими только эпитетами этих «ди-пи» ни награждали, какой только грязью их ни обливали. В сознании рядового советского гражданина они должны были навсегда остаться «перебежчиками», «предателями Родины», «пособниками нацистов» и т. д. и т. п. И тот самый «рядовой гражданин» действительно порой не мог понять: как же это они оказались «по ту сторону», если не предатели и не гитлеровские прихвостни. Элла Боброва в своей поэме как раз и показывает, как и почему это происходило. Ее героиня из СССР попадает в чешские Судеты, где ей пришлось испытать нелегкую судьбу остарбайтера. Даже имея за плечами горький опыт жизни в «социалистическом отечестве», она всё же поддается на пропагандистскую удочку особого отдела вступивших в Чехословакию советских войск и собирается вернуться. Еще немного – и стала бы Ирина, подобно тысячам поверивших в сладкие обещания, лагерной пылью. К счастью, этого не произошло. Ни с Ириной Истоминой, ни с самой Эллой Бобровой. И трудно не согласиться с мнением известного эмигрантского поэта Юрия Терапиано, писавшего в «Русской Мысли» о поэме Бобровой: «Нужна немалая смелость, чтобы судить “за” и “против”, описывая сложную и противоречивую ситуацию эпохи Второй Мировой войны. Но “Поэт не может быть не возмущен, когда возмущена Россия”. Ведь не одна Ирина здесь, а всё ее поколение было вынуждено разобраться в происходящем и принять решение, от которого зависело их будущее». А вот отзыв другого известного в эмиграции писателя Андрея Седых, редактора «Нового Русского слова»: «Ваша “Ирина Истомина” продолжает традиции Татьяны и Наташи – она очень правдивая, искренняя и очень русская. Если бы был жив Бунин, он бы Вас обязательно похвалил, это я твердо знаю». Из уст человека, бывшего секретарем Бунина, такие слова дорогого стоят.
Переведшая на французский язык «Ирину Истомину» Мари Девернья заметила: «Поэтическая форма позволила автору максимально сжато обрисовать широкую картину жизни народа…». Несомненно, позволила, ведь Элла Боброва прежде всего, по преимуществу – поэт. Ей принадлежат две книги стихов «Я чуда жду» (1970) и «Янтарный сок» (1977) («Ирина Истомина» была издана еще раньше, в 1967 г.). Стихи эти подкупают своей простотой, чеканным и в то же время легким, словно бы летящим слогом, классической выверенностью размера. Но простота эта кажущаяся. Элла Боброва умеет, может быть, самое главное: простыми словами говорить о сложных вещах. У нее то в осиротевшем доме «хозяйкой поселилась тишина. / Порядок всюду вводит незнакомый, / боюсь – сведет меня сума она»; то «разговор, как костёр, то дымился, то тлел»; то, наконец, поэтесса с лукавым недоумением вопрошает: «нужны ль реформы социальные / зверям, деревьям и цветам?» Но предоставляю читателю самому получить удовольствие от чтения: таких поэтических удач в стихах Эллы Бобровой много. Отмечу и еще одну немаловажную вещь; кроме чистой лирики есть здесь и совсем другие интонации: стихи памяти Ахматовой, Пастернака, Юрия Галанскова, уже упомянутого Дмитрия Кленовского (о котором, кстати, Боброва написала интереснейшую статью), посвящения Надежде Мандельштам, Ирине Одоевцевой (к ней мы еще вернемся), Александру Солженицыну, Юрию Терапиано, эмигрантскому поэту Василию Сумбатову… Элла Боброва умеет быть благодарной за всё, что по-настоящему этого достойно: за честность, мужество, человечность, за бессмертные стихи и неумирающую память о незабываемых для каждого человека вещах. Сама она забывать не умеет и среди не забытых ею вещей не только искалеченная молодость, но и прекрасное детство.
Тут нельзя не вспомнить и о том, что Эллой Ивановной написана (и переведена потом другими поэтами на многие языки, впрочем, как и «Ирина Истомина») чудесная маленькая поэма для детей «Сказка о том, как смелые снежинки помогли девочке Маринке». Уразуметь смысл ее несложной аллегории не составит труда любому ребенку. Но дело ведь не в аллегории, а в сказке…
К сказочному жанру близки и некоторые переводы и стихотворные переложения, сделанные поэтессой. Таковы «Одиннадцать эскимосских легенд» и либретто хореографической оратории «В Лучах Северного Сияния», посвященной Канаде – стране, где вот уже долгие годы живет Э.И. Боброва.
«Мне незнакома горечь ностальгии. / Мне нравится чужая сторона. / Из всей давно оставленной России / Мне не хватает русского окна», – писал еще один замечательный поэт «второй волны» Иван Елагин. Читая стихи Эллы Бобровой, понимаешь, что, в отличие от Елагина, горечь ностальгии поэтессе знакома. Но, с другой стороны, и чужая сторона ей нравится: «В Лучах Северного Сияния» – это настоящий благодарственный гимн Канаде, ставшей второй родиной для русской беженки. Подзаголовок «Либретто хореографической оратории» здесь не случаен, потому что автор музыки этой оратории – ныне, увы, покойный (светлая память ему) композитор Леон Цукерт, муж Э.И. Бобровой. Он же переложил на музыку многие лирические стихотворения из книг «Я чуда жду» и «Янтарный сок» – получились прекрасные романсы, окрашенные своеобразной элегической интонацией.
Интересное и, видимо, знаменательное совпадение: Леон Цукерт писал музыку используя и по-своему интерпретируя фольклорные мотивы самых разных стран, от Норвегии до Аргентины. Муза Эллы Бобровой столь же восприимчива к чужестранной поэзии: кроме уже упомянутых эскимосских и индейских легенд, переработанных поэтессой, ей принадлежат переводы с французского, английского, немецкого, испанского языков…
Разносторонности творческого дара Эллы Бобровой можно только позавидовать. Поэт, переводчик, прозаик, литературный критик. Ее статьи печатались в русском эмигрантском журнале «Современник», выходившем в Канаде, да и во многих других периодических изданиях русского зарубежья. Десять лет сотрудничала она с радиостанцией «Голос Канады», а радиожурналистика – знаю это по собственному опыту – работа нелегкая.
Пожалуй, лучший ее литературоведческий труд – монография, выпущенная в свет московским издательством «Наследие» в 1995 г., «Ирина Одоевцева. Поэт, прозаик, мемуарист. Литературный портрет». Автором этих строк написано нечто вроде предисловия к «портрету» Одоевцевой работы Бобровой[102]102
См. выше очерк «Поэт о поэте».
[Закрыть]. Позволю себе привести три фразы: «Вместо сухости – ясность слога и точность мысли. Вместо слащавых фраз и ядовитых замечаний – попытка понять и по-своему объяснить. И всё это с удивительным чувством меры, такта, уважения». Я прекрасно знаю, что цитировать самого себя в литературоведческом обиходе не принято. И делаю я это лишь потому, что теперь, семь лет спустя с чистой совестью могу повторить те же самые слова. Но границы контекста необходимо раздвинуть, поскольку речь идет уже не только об «одоевцевской» монографии, но обо всем многогранном творчестве Эллы Бобровой.
«Советский рай» выбросил ее из своих пределов, а Канада приняла, словно родную дочь. В Союз советских писателей ее бы не приняли никогда, зато Всемирное Олимпийское движение поэтов удостоило ее специальной литературной премии. В 2001 году ей исполнилось девяносто лет, но ее энергии – творческой и жизненной – могут позавидовать многие нынешние молодые люди. Кажется, вся жизнь для нее стала служением литературе: стихи, переводы, статьи, проза, сказки… Ей удалось сделать почти невозможное: уберечь ту самую свечу человечности и любви к людям, о которой писал Пастернак, от всех черных ветров и ледяных метелей, сохранить свой драгоценный дар. Но что это, собственно, такое, поэтический дар? Ответа не существует. Или наоборот: ответов слишком много. Может быть, один из лучших, наиболее близких к Истине – в стихотворении Блэйка:
Видеть мир в крупице песка.
Небо – в синеве василька.
В ладонь заключить бесконечность,
В минуту – вечность.
Это четверостишие переведено на русский язык Эллой Бобровой. Комментарии, я думаю, излишни.
Искаженные отражения: «Дневниковые записи» Ш. Бодлера и «Распад атома» Г. Иванова[103]103Произведения Г. Иванова цитируются по изданию: Иванов Г. Собрание сочинений в 3-х тт. / сост. Е. Витковский, комм. В. Крейда и Г. Мосешвили. Москва, 1994. В дальнейшем указаны номер тома и страницы. Произведения Ш. Бодлера цитируются по изданию: Baudelaire Ch. Oeuvres inédits. Paris, 1887; русские переводы Бодлера – по книге Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. Москва, 1997. Тексты «Моего обнаженного сердца» даются в переводе Г. Мосешвили, тексты «Фейерверков» и «Гигиены» – в переводе Е. Баевской. Далее в скобках указываются: для Иванова том и страница, для Бодлера страница (прим. Г. Мосешвили). Впервые опубликовано: Europa Orientalis. XXII. 2003. № 2.
[Закрыть]
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья
Г. Иванов
То, что творчество Бодлера оказало огромное влияние на русскую литературу «серебряного века», общеизвестно. Стихи автора «Цветов зла» переводили такие знаменитые поэты, как И. Анненский, К. Бальмонт, В. Брюсов, Н. Гумилев, Вяч. Иванов, Д. Мережковский. Проза Бодлера была также доступна русскому читателю, хотя и в далеких от совершенства переводах Эллиса. Печатались многочисленные статьи о французском поэте, выходили посвященные ему монографии. Традиции русского «бодлероведения» не прервались и в эмиграции. Несомненно, бодлеровское наследие продолжало оказывать влияние и на литераторов русского зарубежья. Так, Игорь Северянин включил сонет о Бодлере в свой сборник стихов «Медальоны» (Белград, 1934), а Георгий Иванов, переиздавая в Берлине свою книгу стихов «Вереск», включил в нее два перевода бодлеровских стихов. Характерная деталь: русские литературоведы-эмигранты достаточно часто сравнивали Бодлера с русскими поэтами XIX в. Например, И.И. Лапшин в статье «Трагическое в произведениях Пушкина» писал: «Шестой вид трагического у Пушкина представляет особый интерес. Это трагика грешников, которые сознательно идут против нравственного закона. Эта антиморальная воля находит себе великолепное выражение у Бодлера в его стихотворении “Rebelle” (Fleurs du mal, LXXXVII) (…). Герой Бодлера, по-видимому умышленно и сознательно… тяготеет ко злу. Примеры такого умышленного тяготения ко злу и дает Пушкин в своих четырех пьесах: “Скупой рыцарь”, “Пир во время чумы”, “Каменный гость” и “Сцена из Фауста”»[104]104
Лапшин И.И. Трагическое в произведениях Пушкина // Заветы Пушкина. Москва, 1998. С. 326–327 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Другую, несколько неожиданную параллель проводит П.М. Бицилли в статье «Образ совершенства»: «Что с точки зрения истории литературы, стилей, приемов, словесной выразительности, их генезиса, общего между Некрасовым и Бодлером. А между тем я не могу вспомнить “Больницы”, или “Еду ли ночью по улице темной…”, или “Вот идет солдат…”, чтобы вместе с этим в моей памяти не всплыли “Les Petites Vieilles”…»[105]105
Бицилли П.М. Образ совершенства // Бицилли П.М. Трагедия русской культуры. Исследования. Статьи. Рецензии. Москва, 2000 (прим. Г. Мосешвили).
[Закрыть].
Добавлю, что уже в послевоенное время Ю. Иваск опубликовал в нью-йоркском «Новом Журнале» статью «Бодлер и Достоевский».
В отличие от названных эмигрантских литераторов Г. Иванов напрямую к творчеству Бодлера не обращался (если не считать упомянутых переводов во втором, берлинском издании сборника «Вереск»). Однако о влиянии поэзии и прозы Бодлера на автора «Роз» и «Петербургских зим» свидетельствуют многочисленные текстологические параллели, причем в большинстве своем они имеют явно неслучайный характер. И прежде всего это касается так называемых «дневниковых записей» Бодлера, опубликованных под названиями «Фейерверки», «Гигиена» и «Мое обнаженное сердце», и знаменитого эссе Г. Иванова «Распад атома».
Прежде всего необходимо отметить, что речь идет о прозаических произведениях, авторами которых являются поэты. В «дневниковых записях» Бодлера проза повседневной жизни нередко соседствует с высоким поэтическим стилем. А жанру, к которому принадлежит «Распад атома» Г. Иванова, дал точное определение В. Ходасевич: поэма в прозе.
Георгий Иванов, владевший французским языком, несомненно, был хорошо знаком с бодлеровской поэзией. Были у него возможности и для того, чтобы прочитать прозаические произведения французского поэта, в частности, «Фейерверки», «Гигиену» и «Мое обнаженное сердце», которое было даже переведено на русский язык Эллисом в 1910 г. Впервые же эти «дневники» были опубликованы во Франции еще в 1887 г.
Прежде чем говорить о конкретных прямых соответствиях, отметим две немаловажные детали. «Дневником» бодлеровские записи можно назвать лишь условно. Бодлер действительно хотел вести дневник, но вместо этого у него получилось собрание разрозненных заметок на разные темы. Нет ни одной точной даты, рядом с философскими рассуждениями может оказаться подсчет суммы долга или план действий на будущее. Мало того, мы не знаем, в какой последовательности нужно эти записи располагать. Возможно, среди них есть отрывки из черновика для будущей книги. То есть тексты Бодлера – это фиктивный дневник.
Структура «Распада атома» абсолютно идентична. Правда, это монолог вымышленного персонажа, но очень похожий на сбивчивые дневниковые записи. Точно такой же, как у Бодлера, «мозаичный» стиль, то есть рядом с горькой сентенцией о том, как «несчастные одинокие человеческие души… продираются к Богу», следует шокирующий пассаж о «ногах уличной девчонки». Так же, как у Бодлера, нет дат. Нет даже имени и фамилии героя. Тот же «фиктивный дневник». Но бодлеровский хаос здесь превращается в космос законченного литературного произведения: у Г. Иванова есть некая объединяющая, казалось бы, несоединимые осколки текста концепция. У Бодлера ее, на первый взгляд, нет. Но вспомним: Бодлер так и не успел превратить свой «дневник» в законченное произведение.
Поставленные друг против друга зеркала, бесконечное число раз отражающие друг друга, – магический символ самой бесконечности как таковой. Этот образ появлялся в стихах Г. Иванова:
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья
(1, 321).
По сути таким – искаженно отражающим самих себя в другом – зеркалам можно уподобить «дневник» Бодлера и «Распад атома» Г. Иванова. Причем начинаются эти отражения уже с названий самих произведений. Трем вариантам своего «дневника» Бодлер дал разные заглавия: «Фейерверки», «Гигиена», «Мое обнаженное сердце».
Каждое из этих слов так или иначе отразилось в тексте «Распада атома». Название «Фейерверки» («Les Feux Artificiels», дословно «Искусственные огни») у Бодлера имеет то же значение, что «Illuminations» («Иллюминации») у Рембо – «озарения». У Г. Иванова этому соответствует постоянно повторяющееся слово «догадка». «Догадка, что ясность и законченность мира – только отражение хаоса в мозгу тихого сумасшедшего Догадка, что огромная духовная жизнь разрастается и перегорает в атоме, человеке внешне ничем не замечательном, но избранном, единственном, неповторимом. Догадка, что первый встречный на улице и есть этот единственный, избранный, неповторимый» (2,10). «Догадка» здесь, по сути, – то же «озарение». И это не говоря о том, что и у Бодлера, и у Г. Иванова в текстах присутствует лейтмотив антиномии света и тьмы, к которому мы еще вернемся. «Гигиена», или «Мораль ухода за собой» – для Бодлера вопрос немаловажный, недаром отдельная часть записей посвящена именно этой теме. У Г. Иванова эта же тема дана в подчеркнуто шокирующем контексте: фрагменты о старике, жадно поедающем облитый мочой хлеб, о проститутке, которая вымоет ноги, «если ей объяснишь, что не любишь делать в чулках», о «спирте младенцовке». И, наконец, заглавие «Мое обнаженное сердце» можно соотнести с опять-таки повторяющейся у Г. Иванова темой сердца: «Сердце перестает биться» (2,10); «его сердце еще не разорвалось – вот оно по-прежнему бьется в груди» (2, 25), вновь «сердце перестает биться» (2, 31).
Такие повторяющиеся темы или лейтмотивы присутствуют у обоих авторов. Посмотрим, насколько они совпадают. У Бодлера: Бог, любовь, проституция, смерть, небо, антиномия света и тьмы, сумасшествие, одиночество, время, прогресс, женщина, бессмертие, сны. У Георгия Иванова: Бог, любовь, проституция, смерть, антиномия света и тьмы, ночь, сумасшествие, одиночество, время, прогресс, женщина, бессмертие, сны. Совпадает почти всё. Но дело здесь даже не в том, что совпадают эти ключевые слова-символы, а, скорее, в том, как их интерпретируют Бодлер и Г. Иванов. Кроме того, некоторые мысли Бодлера, несомненно, «отразились» в поздних стихах русского поэта.
Размышления о Боге занимают важнейшее место в бодлеровских «дневниках». Некоторые фрагменты свидетельствуют, казалось бы, об искреннем религиозном чувстве автора: «Даже если бы Бога не существовало, всё равно религия была бы Святой и Божественной» (405); «каждое утро возносить молитву Богу – вместилищу всей сущей силы и справедливости (…). Мои унижения были милостью Божией» (425); «обращение к Богу, или одухотворенность – это желание подняться как бы ступенью выше…» (435) и некоторые другие.
Но в том же тексте можно найти и совершенно другие высказывания о Боге и религии: «Что такое падение? Если это единство, ставшее двойственностью, значит, пал Бог. Иначе говоря, не было ли творение – падением Бога» (440); «Бог есть соблазн, приносящий доход» (416); «самое проституированное существо – это существо высшее, это Бог, ибо он ближайший друг каждого человека, ибо он – принадлежащий всем, неистощимый кладезь любви» (443). Любопытно, что та же метаморфоза религиозного чувства присутствует и в тексте «Распада атома». Сначала герой поэмы в прозе Г. Иванова признаётся: «Я думаю о различных вещах и, сквозь них, непрерывно думаю о Боге. Иногда мне кажется, что Бог так же непрерывно, сквозь тысячу посторонних вещей думает обо мне (…). Иногда мне чудится даже, что моя боль – частица Божьего существа (…). Минута слабости, когда хочется произнести вслух “Верю, Господи…”» (2, 7). Отрезвление, мгновенно вступающее в права после минуты слабости.
Это «отрезвление» в дальнейшем повествовании подтверждается неоднократно. Мысли о Боге у героя «Распада атома» постоянно соседствуют с мыслями совершенно другого порядка – в основном, о женщинах, плотской любви, физиологии. «Я иду по улице, думаю о Боге, всматриваюсь в женские лица. Вот эта хорошенькая, мне нравится. Я представляю себе, как она подмывается» (2, 8). В другом месте: «Жизнь ставит вопросы и не отвечает на них. Любовь ставит… Бог поставил человеку – человеком – вопрос, но ответа не дал. И человек, обреченный только спрашивать, не умеющий ответить ни на что» (2, 24–25). Далее: «Только голые ножки ангельчика, прижатые к окостеневшим губам, и единственный свидетель – Бог. Он был титулярный советник, она генеральская дочь» (2, 31). И в самом конце «Распада атома»: «Смысл жизни? Бог? Нет, всё то же дорогое бессердечное, навсегда потерянное твое лицо» (2, 34).
Другой «лейтмотив», присутствующий в обоих текстах, – тема прогресса, который и Бодлеру, и Г. Иванову представляется не путем восхождения человека и общества к вершинам знания, не обретением новых возможностей развития, а неизбежным злом, торжеством механистической цивилизации, темной силой, убивающей человеческую душу. «Нас настолько американизирует механика, а прогресс настолько атрофирует в нас духовное начало, – пишет Бодлер в “Фейерверках” – что с его положительными результатами не сравнится ни одна кровожадная, кощунственная или противоестественная греза утопистов. Пусть кто-нибудь из мыслящих людей назовет мне хоть что-то, поныне уцелевшее от живой жизни» (420). В «Моем обнаженном сердце» находим другой фрагмент: «Вера в прогресс – вот доктрина лентяев (…). Ее смысл: человек рассчитывает на то, что сосед выполнит его работу. Не может быть прогресса (истинного, т. е. морального), который не заключался бы в самом человеке и не осуществлялся им самим» (434). Отметим, что «атрофия духовного начала» в человеке, следствие «доктрины лентяев», по Бодлеру, ведет к уничтожению «живой жизни». Бодлер говорит как бы о двух «прогрессах»: реальном и страшном, существующем в окружающем мире, и предполагаемом, возможном лишь в самой человеческой душе. Для Георгия Иванова, в его «тридцатых годах двадцатого века» этот «внутренний» прогресс уже невозможен. Зато осуществление прогресса «внешнего» привело к катастрофическим последствиям. «Новые железные законы, перетягивающие мир, как сырую кожу, не знают утешения искусством» (2, 14); «это сияние почти не доходит до нас (…).
Скоро всё навсегда поблекнет» (2, 14); «я думаю о эпохе, разлагающейся у меня на глазах» (2, 9). Результатом прогресса, по Георгию Иванову, становится не только уничтожение гармонии мироздания, но и окончательный кризис искусства: «…не только нельзя создать нового гениального утешения, уже почти нельзя утешиться прежним» (2,14).
Одним из следствий такого «прогресса» является для героя «Распада атома» так называемое «мировое уродство» – этот образ дисгармонии мира двадцатого века повторяется в тексте неоднократно. «Одно из свойств мирового уродства – оно представительно» (2, 6); «…истинная дорога души вьется где-то в стороне – штопором, штопором – сквозь мировое уродство» (2, 19). «Мировое уродство не рухнуло – вот оно, как скала, по-прежнему подпирает мир» (2, 25) – констатирует герой ивановской поэмы в прозе. И поэтому, перед тем как покончить с собой, в предсмертном письме он пишет: «Сам частица мирового уродства – я не вижу смысла его обвинять» (2, 34). Так и не сумевшая «продраться» к Богу и безнадежно искалеченная дьявольским «прогрессом», человеческая душа становится частью почти инфернального мира. Вспомним еще одну фразу Бодлера о прогрессе: «Теория истинной цивилизации. Ее суть заключается не в газе, не в паре, не в столоверчении – она в сглаживании следов первородного греха» (446). Однако этого «сглаживания» в мире, по Бодлеру, не происходит – и в результате на первый план выходит именно уродливость мироздания. Эта точка зрения в бодлеровских дневниковых записях выявлена неоднократно, и поводы для подобных мыслей появлялись самые разные. Приведем только некоторые. «В любой деятельности есть нечто мерзостное»; «бесконечная мерзость афиш» (436); «возмущение бесконечным самодовольством всех классов, всех существ обоих полов и любого возраста» (440); «коммерция по сути своей – порождение Сатаны» (452). И, может быть, самое недвусмысленное: «Невозможно, просматривая какую-либо газету (…) не обнаружить в каждой строчке признаков самой жуткой человеческой испорченности (…). Любая газета, с первой до последней строчки, как бы соткана из ужасов. Войны, преступления, кражи, бесстыдства, пытки, преступления государей, преступления наций, преступления частных лиц, какое-то опьянение всеобщей жестокостью» (454). Вот – лик «мирового уродства», по Бодлеру. Между прочим, отголосок этого бодлеровского пассажа о прессе можно найти в «Распаде атома», один из персонажей которого читает газету со статьей об «общественном мнении Англии», а затем «вдруг внезапно видит перед собой черную дыру своего одиночества» (2, 24).
Тема одиночества – одна из самых важных и для Бодлера, и для Г. Иванова. «Чувство одиночество с самого моего детства. Несмотря на близких – и особенно в кругу товарищей – чувство вечно одинокой судьбы» (433); «когда я внушу всему свету гадливость и омерзение – тогда я добьюсь одиночества» (415); «до сих пор я наслаждался своими воспоминаниями только в полном одиночестве. Нужно наслаждаться ими вдвоем» (426). Характерно, что само понятие одиночества для Бодлера амбивалентно: с одной стороны, это трагедия непонятого миром художника, с другой – состояние идеальное для творчества (допустимо в крайнем случае присутствие лишь одного достойного собеседника или любимой женщины). Для Г. Иванова, впрочем, как и для его героя (конечно, не тождественного автору), такое романтическое восприятие невозможно. «Жиденькое противоядие смысла (…), а за ним глухонемая пустота одиночества» (2, 7). «Мировой рекорд одиночества. – Так ответь, скажи, о чем ты мечтаешь тайком, там, на самом дне твоего одиночества» (2, 11). «Полюбить кого-нибудь больше себя, а потом увидеть дыру одиночества, черную ледяную дыру» (2, 24). «По черному городу идет потерянный человек. Пустота, как морской прилив, понемногу захлестывает его» (2, 32). «Точка, атом, миллионы вольт, пролетающие сквозь него, и вдребезги, вдребезги плавящие ядро одиночества» (2, 33). Герой «Распада атома» существует в мире, где одиночество – «естественное» состояние человека, потому что связи между людьми разорваны.
«Скажи мне, о чем ты мечтаешь тайком, и я тебе скажу, кто ты. – Хорошо, я попытаюсь сказать, но расслышишь ли ты меня?» (2, 10) – такой диалог ведет с воображаемым собеседником герой «Распада атома». Через несколько страниц он возвращается к теме одиночества, но уже в несколько другом аспекте: речь идет о том, что одинокие «люди-атомы» просто неспособны понять друг друга: «Два миллиарда обитателей земного шара. Каждый сложен своей мучительной, неповторимой, одинаковой, ни на что не нужной, постылой сложностью. Каждый, как атом в ядро, заключен в непроницаемую броню одиночества (…). Все отвретительны. Все несчастны. Никто не может ничего изменить и ничего понять» (2, 25). Здесь налицо несомненная параллель со следующим фрагментом из «Моего обнаженного сердца»: «Мир движется лишь в силу Недоразумения. Именно благодаря всемирному Недоразумению всё в мире приходит к согласию» (452). Еще более ярко эту параллель иллюстрирует почти точная цитата этого высказывания Бодлера в известном стихотворении Г. Иванова «Тускнеющий вечерний час» (из цикла «Дневник» в сборнике «1943–1958. Стихи»):
Что связывает нас? Всех нас?
Взаимное непониманье
(1, 404).
Заметим, что у Бодлера есть еще одно упоминание об этом «непониманье» – в записи, где речь идет об отношениях мужчины и женщины: «Дурак и дура – они оба убеждены, что мыслят согласно. Непреодолимая бездна несоединимости так и осталась непреодоленной» (445).
Тема любви в «дневниках» Бодлера и «Распаде атома» представлена таким количеством соответствий, что для подробного их изложения и анализа потребовалось бы отдельное исследование. Отметим лишь основные параллели. Прежде всего бросается в глаза очевидное сходство: и Бодлер, и Г. Иванов в своих текстах дают определения физической любви как процесса, напоминающего войну, муку или пытку. Вот только две бодлеровские мысли: «Любовь хочет выйти за пределы самой себя, слиться со своей жертвой, как победитель с побежденным, но всё-таки сохранить преимущества завоевателя» (405); «…любовь очень похожа на пытку, или хирургическую операцию (…). Он или она – хирург или палач, а другой – пациент или жертва. Слышите вздохи, прелюдию к трагедии бесчестья, эти стоны, эти крики, эти хрипы? (…) И чем это, по-вашему, лучше пыток, чинимых усердными палачами? Эти закатившиеся сомнамбулические глаза, эти мышцы рук и ног, вздувающиеся и каменеющие (…) – ни опьянение, ни бред, ни опиум (…) не представят вам столь ужасного, столь поразительного зрелища» (406–407). Не из этого ли бодлеровского фрагмента родились в «Распаде атома» следующие строки: «Кто они, эти двое? О, не всё ли равно. Их сейчас нет. Есть (…) только напряжение, вращение, сгорание, блаженные перерождения сокровенного смысла жизни (…). Семенные канатики, яичники, прорванная плева, черемуха, развороченные колени, без памяти, звезды, слюна, простыня, жилки дрожат, вдребезги, вдребезги, ы… ы… ы… Единственная нота, доступная человеку, ее жуткий звон» (2, 23). И при этом и у Бодлера, и у Г. Иванова есть и другой образ любви. Бодлер пишет о «своем образе Прекрасного»: «Это нечто пылкое и печальное, нечто слегка зыбкое, оставляющее место для догадки (…), я приложу это свое определение (…) к лицу женщины. Обольстительное, прекрасное (…) оно навевает мысли (…), исполненные одновременно меланхолии, усталости (…) или, напротив того, распаляет пламень, жажду жизни, смешанную с такой горечью, какую обычно рождают утрата и отчаяние» (412). Эти два слова – утрата и отчаяние – возвращают нас к Г. Иванову и его образу потерянной любви в «Распаде атома»: «Я хочу в последний раз вызвать из пустоты твое лицо, твое тело, твою нежность, твою бессердечность, собрать перемешанное, истлевшее твое и мое, как горсточку праха на ладони, и с облегчением дунуть на нее» (2, 420). И чуть далее: «Всё рвется, ползет, плавится, рассыпается в прах – Париж, улица, время, твой образ, моя любовь» (2, 25). И в самом конце текста – последнее, о чём герой вспоминает, прежде чем покончить счеты с жизнью, – это «дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твое лицо» (2, 34).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.