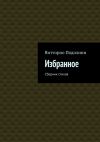Текст книги "Избранное. Том I"

Автор книги: Георгий Мосешвили
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
У этой темы есть еще один аспект, характерный как для бодлеровских «дневников», так и для «Распада атома», – сопоставление любви и проституции. В тексте Г. Иванова это конкретные «портреты» парижских проституток, например: «Бледная хорошенькая девчонка замедляет шаги, встретив мужской взгляд. Если ей объяснить, что не любишь делать в чулках, она, ожидая прибавки, охотно вымоет ноги» (2, 31). У Бодлера рассуждения о проституции даны, как эти ни парадоксально, скорее, в философском плане: «Человек – животное, умеющее обожать. Обожать – значит приносит себя в жертву и проституировать себя. Таким образом, всякая любовь является проституцией» (443). Бодлер интересуется тем, что такое «священная проституция» (431), «почему умный человек любит шлюх больше, чем светских женщин, хотя они одинаково глупы» (440). Впрочем, он может в своих «дневниках» привести анекдотическую историю о «пятифранковой шлюхе Луизе Вильдье» (455) или с замечательной небрежностью заметить: «Я забыл имя этой шлюхи… Ах! ба! – я узнаю его на Страшном Суде» (451). Кстати, вслед за фрагментом о Луизе Вильдье, стеснявшейся смотреть на обнаженные статуи в Лувре, идет запись о «фиговых листочках господина Ньеверкерке» (455). Этот человек был во Франции генеральным директором музеев и, борясь за чистоту нравов, добивался, чтобы нагота статуй, выставленных в музеях, была прикрыта. И тут трудно не вспомнить еще об одной общей для Бодлера и Г. Иванова теме.
Эти отрывки можно было бы назвать «Рассуждениями о человеческой глупости». Бодлер собирается в своем так и оставшемся незаконченным произведении дать «портреты дураков во всей красе» (437) и провести «анализ наглости дураков» (450). И мы вновь сталкиваемся с почти точной цитатой из «Моего обнаженного сердца» в поздних стихах Г. Иванова – ведь одно из стихотворений цикла «Портрет без сходства» (сборник «1943–1958. Стихи») начинается так:
Рассказать обо всех мировых дураках;
Что судьбу человечества держат в руках
(1, 328).
Характерно употребление инфинитива, явного у Г. Иванова и подразумеваемого у Бодлера: «(дать) портреты дураков во всей красе». Разница только в «статусе» самих дураков: для Бодлера это, прежде всего, «судейские, чиновники, главные редакторы газет и т. д.», а для Г. Иванова, очевидно, государственные деятели и политики.
Реакция современников на «Распад атома» была в основном негативной (за исключением чуть ли не единственной хвалебной рецензии В. Злобина в сборнике «Литературный смотр» (Париж, 1939). В немалой степени этому «способствовали» многочисленные «шокирующие» моменты в тексте, такие как «совокупление с мертвой девочкой» (2, 12), описания «трапезы» старика-клошара, пожирающего пропитанную мочой булку, валявшуюся в писсуаре (2, 27), уже упомянутые крайне натуралистические фрагменты, в которых речь идет о физической любви. Конечно, у Бодлера даже в неопубликованных «дневниках» подобных вещей нет – всё-таки время было иным. Но вспомним, что в свое время стихотворный сборник Бодлера «Цветы зла» был признан книгой «непристойной», «оскорбляющей общественную мораль и добронравие», а затем это издание даже послужило предметом судебного разбирательства. Впрочем, и в «Моем обнаженном сердце» можно найти «шокирующие» – конечно, по меркам того времени – рассуждения: чего стоят хотя бы мысли «о необходимости бить женщин» (450); о том, что женщина естественна, то есть отвратительна (430); о том, что «Бог – самое проституированное существо», или собирательный образ «литературной сволочи» – доктор Трактириус Гадинус Педантиссимус (439).
Этот прием – введение в текст «шокирующих» деталей, видимо, призван и у Бодлера, и у Г. Иванова еще ярче, рельефнее проявить антиномию света и тьмы, общую для обоих авторов. «Вместе с атмосферой человек впивает свет,» – пишет Бодлер в «Фейерверках», а через несколько страниц сравнивает молитву с электрической индукцией (408). Наконец, в «Моем обнаженном сердце» он с иронией замечает: «Что мне всегда (…) казалось самым прекрасным в театре, – так это люстра – прекрасный, сверкающий, хрустальный (…) предмет» (434). Он называет море «отблеском бесконечности» (446). Рассуждая о ненавидимой им Жорж Саид, он постоянно говорит о Рае и Аде, то есть, по сути, о свете и тьме. Что же касается Г. Иванова, то в «Распаде атома» такие слова, как «свет», «тьма», «ночь», «закат», «рассвет», «темнота», «сияние», «черная дыра» встречаются буквально на каждой странице.
Как бы в противовес кошмарному макрокосму «мирового уродства» Г. Иванов вводит в повествование сказочный «микрокосмический мир сюрреалистических зверьков» (2, 20–22). Их «австралийский язык» состоит из гротескных словечек и выражений, пародирующих как обыденную речь («это нас не кусается»), так и высокопарный стиль («ногоуважаемый», «ваше высокоподбородие»). Это создает неожиданный комический эффект – и думается, что в данном случае стилистика Г. Иванова точно отражает бодлеровский принцип, провозглашенный в «Фейерверках» и оставшийся невоплощенным в творчестве самого Бодлера: «высокопарно рассказывать о смешном» (408).
Кажется, приведенные соответствия и параллели убедительно доказывают сходство основных тематических линий в произведениях Бодлера и Г. Иванова. Основываясь на этом сходстве, мы решимся утверждать, что, работая над созданием «Распада атома», Г. Иванов творчески переосмыслил многие фрагменты из бодлеровских записей. Несомненно, «Фейерверки», «Гигиена» и «Мое обнаженное сердце» не единственные литературные произведения, нашедшие своеобразное отражение в ивановской поэме в прозе; в «Распаде атома» есть мощные гоголевская и пушкинская линии; не исключены и другие серьезные влияния. И всё-таки представляется, что присутствие в тексте Г. Иванова бодлеровских реминисценций имеет особое значение. Мы привели лишь наиболее заметные соответствия, наиболее яркие «отражения»; на самом деле их значительно больше: это и тема «сердечности и жалости», и перекликающиеся между собой фразы о кресте Почетного Легиона, и схожая интерпретация «обыденных вещей». Отметим напоследок еще две параллели. Взятые сами по себе, они могли бы показаться случайными совпадениями, но помещенные в ряд соотношений, о которых говорилось выше, эти две «случайности» оказываются особенно знаменательными.
В очерке «Человек в рединготе» Г. Иванов рассказывает о своей встрече с неким странным субъектом, сидевшим за столиком кафе и бормотавшим нечто невразумительное. «Я прислушался (…). Странный человек в рединготе, перед батареей “калинкинского” на заплеванном “Поплавке” читал гениальную “Charogne” (“Падаль” – Г.М.) Бодлера. Это было забавно» (3, 401). «Забавным человеком» был литератор Александр Тиняков, разыгрывавший роль «проклятого поэта», пытавшийся «перебодлерить Бодлера». Как пишет Г. Иванов, дома у Тинякова в киоте вместо икон помещались портреты Распутина, Ницше, Анны Вырубовой и Бодлера, поэтому бодлеровское стихотворение вложено в уста Тинякова неслучайно. Но ведь слово, ставшее заглавием этого стихотворения, встречается и в «Распаде атома»: «Падаль. Человеческая падаль» (2, 13), – там, где речь идет о «спирте-младенцовке». «Отражение», кажется, несомненное. Но вот другое «отражение», не менее очевидное и, в то же время, удивительное.
В одном из фрагментов «Фейерверков» Бодлера (начало его нами уже цитировалось) о плотской любви сказано так: «…я счел бы себя святотатцем, применив слово “экстаз” к этому процессу распада (désintégration)» (407). Связь названия ивановской поэмы в прозе с этой бодлеровской фразой понятна, тем более что процесс «распада атома» человеческой души ассоциативно связан с процессом разложения тела.
И наконец, вот высказывания Бодлера о литературном стиле, взятые из его дневников: «Два основных литературных достоинства – сюрнатурализм и ирония» («Фейерверки»; 413). «Смесь гротескного и трагического приятна уму, как диссонанс – пресыщенному уху» (416). Пожалуй, невозможно точнее сказать о стилистике и содержании «Распада атома». А что касается формальной стороны, – в «Гигиене» Бодлер пишет: «Всегда оставайся поэтом, даже в прозе. Высокий стиль (ничего нет прекраснее общих мест)» (424). Этому бодлеровскому завету автор «Распада атома» остался верен навсегда, несмотря на все «искаженные отражения».
О живописи и музыке
Весть о далекой свободе
За этот ад, за этот бред
Пошли мне сад на старость лет…
Марина Цветаева
…Цветы, лица, цветы, птицы, рыбы, загадочные линии и опять – цветы… На моем столе горит свеча – почти как в стихах Пастернака. Но вместо метели за окном летний дождь, и это хорошо. Ведь цветы боятся снега и любят влагу. А неяркий огонь вызывает воспоминания – и в пламени свечи возникают – и исчезают, чтобы вновь возникнуть, – всё те же существа, населяющие странную вселенную художника: цветы, лица, цветы, птицы… Я зажег эту свечу в память о Владимире Яковлеве – и между лепестков цветка или пламени мерещатся мне груда золотых яблок на столе, нервное угловатое лицо над портретом ветра, далекая свобода, словно птица за облаками, и комната, похожая на сад…
Дотронуться тонкою кистью
до белой бумаги —
И жестом небрежным
печальный воссоздан цветок.
И взмах лепестка,
словно весть о неведомом благе,
Далёк от вечерней земли
и от неба далёк.
Цветы возникают,
как горькое напоминанье,
Они одинаки
средь серых дорог и равнин.
И взмах лепестка,
словно весть о грядущем прощанье,
Один на вечерней земле и на небе один.
Цветы, как скитальцы,
приходят в наш мир и уходят,
Лишь кистью на белой бумаге
их свет отражён.
И взмах лепестка,
словно весть о далёкой свободе,
Зажжён на вечерней земле
и на небе зажжён…
Эти стихи я написал в 1976 году, через несколько дней после того, как впервые побывал у Яковлева. Впрочем, всё началось для меня несколько раньше: сначала были картины.
1974 год. Мои родители – Тамара и Ираклий Мосешвили приносят домой только что купленные четыре работы Яковлева. На меня восемнадцатилетнего они производят странное впечатление: два маленьких розовых цветочка в углу на серо-зеленом фоне, летящий гусь, похожий на пикирующий истребитель, еще два натюрморта: опять цветы, но уже в вазах. Причем нарисовано всё это несколькими штрихами, как-то коряво, почти детской рукой – так мне тогда казалось. Посмотрев на эти картины, которыми родители восхищались, я снисходительно фыркнул и сказал: «Это и я так могу нарисовать». Сказано было сильно, особенно если учитывать, что к изобразительному искусству я не имею абсолютно никаких способностей: изобразить человеческое лицо, например, так чтобы оно не выглядело уродливым, для меня непосильная задача. Мои родители не стали спорить: они переглянулись и в один голос сказали: «Ну-ну, поживем-увидим». Конечно, они оказались правы: через полгода я влюбился в эти, казалось бы, детские рисунки.
Оказалось, что яковлевские цветы на самом деле не столько даже цветы, сколько – живые разумные существа. Глядя на них, чувствуешь, что вот-вот произойдет чудо: цветок сам по себе взмахнет лепестком, или заговорит, или выйдет из пределов картины в наше трехмерное пространство. У каждого из них словно есть свой особый характер. Они способны мыслить, переживать, рассуждать, спорить, волноваться. Они живут в недостижимом, далеком от нас мире вечной свободы, где нет тягостных законов природы, наук, эволюций. В этом мире, словно в кэрроловском Зазеркалье, всё нелогично, необыденно, незаконченно, наконец. Ничто не разложено по полочкам. Ничто не ясно. Никто не назван по имени. Поэтому, я думаю, сам Яковлев никогда не уточняет, какой, собственно, цветок изображен на картине: левкой, роза или василек. Цветок – и всё. Цветок как существо. Имя существительное, имя собственное, без нарицательных. А еще есть, например, рыбы. Одна из них – в пределах картины, разумеется, – долго жила у нас на стене и имела такой важно-задумчивый вид, будто всю жизнь размышляла над вечными вопросами бытия. Очень знающая рыба, я иногда даже с ней советовался в разных сложных жизненных ситуациях – и думаю, она явно обладала телепатическими способностями и была своего рода медиумом в рыбьем обличье.
Но всё-таки самое яркое воспоминание, связанное с Яковлевым, – это тот самый первый визит к нему. Обыкновенный московский дом на Юго-Западе. Обыкновенная дверь со звонком. По первым шагам за порогом – столь же обыкновенная квартира. Еще одна дверь в комнату. Я вошел в нее и остановился, как вкопанный. Двери, дом, мебель, серое небо за окном – всё исчезло. Обыкновенная квартира растворилась в воздухе, и вместо нее вокруг был сад. Огромный, разноцветный, фантастический. Сад, где вместо деревьев росли живые цветы и ветер звенел их голосами. Добродушные, возмущенные, обиженные, гордые, влюбленные, печальные, сонные, смеющиеся, танцующие, застенчивые, поющие, желтые, синие, упавшие в обморок, солнечные, красные, спящие, больные, играющие, удивленные, – каких только не было… Их сумасшедший хоровод был повсюду, казалось, что у них есть огромные, почти человеческие… или нет, наоборот, совершенно нечеловеческие бездонные глаза, и они смотрят на тебя, и отвести взгляд от них невозможно. Изредка среди них мелькали какие-то полупризрачные фигуры: преверовская кошка с полузадушенной птицей, разные полуобморочные гуси и куры, порой между цветов попадались лица, застывшие в непреходящем изумлении. И окруженный намертво, сдавленный, стесненный этим многоцветным миром зазеркальной флоры, за столом комнаты с пропавшими куда-то стенами сидел маленький черноглазый и черноволосый человек в клетчатой старой рубашке и видавших виды тренировочных штанах. Сидел и отрывистыми фразами говорил что-то не совсем понятное, то про ветер и абстрактные картины, то почему-то про бокс, то про искусство, то про погоду. Иногда его речь словно съезжала с рельсов и превращалась в темную бессмыслицу, но вдруг вновь находила привычную колею, а потом на недолгое время становилась чуть ли не стихами. Он курил сигарету за сигаретой, но его цветы прощали ему вредную привычку, а может быть, ядовитый дым до них просто не доходил. Маленького человека звали Володя Яковлев, и жил он не в комнате, а в саду, созданном его руками и воображением.
Впоследствии я видел его не раз. Он обладал странной способностью, изменяясь, оставаться всё тем же. Его здоровье ухудшалось, зрение слабело, разум тускнел. И всё же не менялось в Яковлеве самое, может быть, главное: детская, недоступная взрослому человеку способность видеть мир, словно впервые. Лица, рыбы, цветы, птицы на его картинах как будто только что созданы Богом и увидены глазами первого человека. Он был способен удивляться обыкновенным вещам. Предметы у него превращались в явления природы, в живые существа. Иногда мне казалось, что и сам Яковлев не столько человек, сколько Существо с заглавной буквы. Существо с другой планеты, видящее наш мир глазами другого мира, может быть, лежащего где-то по ту сторону времени.
Но нет, Яковлев был человеком. Больным, в чём-то ущербным, порой нелепым. Но даже в этой болезни и в этой нелепости сквозь бессвязные, порой полубредовые речи его просвечивала какая-то нездешняя мудрость, чтобы не сказать гениальность. Он был творцом не в высокопарнобанальном, а в самом прямом смысле этого слова. Тем, кто творит, создает, делает. И, возможно, речь ему была не так уж нужна. За него говорили его творения.
Иногда – уже после того, как его положили в больницу, – он звонил нам домой. Я поднимал трубку и слышал знакомый чуть хрипловатый голос. Обычно он просил принести ему сигарет, которые мои родители всегда покупали для него. Бедный Володя, тут же раздававший половину «драгоценного» сигаретного запаса своим соседям по несчастью. Впрочем, большую часть того, что он оставлял себе, у него воровали. Это было легко: Яковлев просто не обращал внимания на такие вещи. А потом снова звонил нам или кому-нибудь из знакомых и жаловался, что у него кончились сигареты.
…Когда мне сказали, что Володя умер, кроме естественной скорби и горечи я почувствовал другое. «Умер» – это не то слово. Он ушел. Ушел в тот, свой, другой мир, где несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Где нет слепоты, душевной болезни, нет больниц и не нужен табак. Где он может поговорить, да может быть, и сейчас беседует в некоем саду с другими такими же «сумасшедшими» – с Нико Пиросмани, который пытался вернуть миру его первозданные краски, или со святым Франциском, который проповедовал птицам и так любил цветы…
…пошли мне сад на старость лет…
Ни Марине Цветаевой, ни Владимиру Яковлеву не было дано этого земного сада в последние годы жизни. Вместо этого им, видимо, был дарован другой сад – небесный. Сад, где живые существа с разноцветными лепестками на своем таинственном языке повторяют похожие на сновидение стихи:
О, мир, пойми! Певцом – во сне – открыты
Закон звезды и формула цветка.
Цветы, лица, цветы, птицы… Вот и свеча догорает. Но есть вещи, которые не исчезают, рукописи, которые не горят, и краски, которые не тускнеют. Нам, живущим в мире необходимой неволи, порой трудно осознать, что искусство Яковлева – это весть о далекой свободе. Свободе нездешней и неумирающей. И если для нас она недостижима, это не значит еще, что ее нет.
Бадди Холли: синий день и черная ночь[107]107Впервые опубликовано: Хит-Парад. № 3 (8). Март 2003.
[Закрыть]
История его недолгой жизни – это фантастическое переплетение странностей, противоречий и совпадений. Начиная с имени: ведь Бадди Холли не имя и фамилия и даже не псевдоним. Это прозвище и орфографическая ошибка. На самом-то деле его звали Чарльз Хардин Холли, но кто это сейчас помнит кроме завзятых «холлиманов»? Причем фамилия писалась не так, как мы привыкли – Holly, – а с одной лишней буквой – Holley. Букву е «потеряли», когда Бадди подписывал свой первый контракт с фирмой звукозаписи. Увидев это неверное написание, он посмеялся и сказал, что так даже лучше. Возможно, потому что Holly похоже на слово holy – святой. Святым он, конечно, не был, но Бадди Святой – это звучало по меньшей мере забавно, ведь Buddy на американском сленге означает что-то вроде «приятель», «свой парень», «чувак». Кстати, прозвище это всегда было в ходу среди музыкантов: можно вспомнить, что был такой знаменитый джазовый ударник Бадди Рич (Buddy Rich), что одного из великих чернокожих блюзменов зовут Бадди Гай (Buddy Guy), что уже после смерти Холли вместе с Джими Хендриксом играл (опять-таки на ударных) Бадди Майлз (Buddy Miles)… Так что Холли оказался в достойной компании…
Он родился 7 сентября 1936 г. в городе Лаббок (штат Техас) и прозвище Бадди получил еще в детстве, когда учился в школе. В седьмом классе Холли познакомился с Бобом Монтгомери – оба играли на гитарах и кое-как пели. Разумеется, они решили организовать самодеятельный дуэт, который без лишних претензий назвали «Buddy and Bob». Их репертуар состоял из кантри и блюграсс-хитов, правда, иногда они разбавляли их ритм-н-блюзовыми номерами. В 1951–1952 гг. они – уже научившись вполне прилично петь и играть – начали выступать в местных дансингах и маленьких залах и вскоре стали очень популярны в Лаббоке и его окрестностях. В 1953 г. их даже пригласили исполнить несколько песен на одной из лаббокских радиостанций, а чуть позже, когда к ним присоединился басист Лэрри Уэлборн, Холли и компании доверили даже ведение еженедельной собственной музыкальной радиопередачи – «Шоу Бадди и Боба». Кстати, Холли, Монтгомери и Уэлборн записали несколько демо-версий разных песен. Уже после смерти Бадди эти записи разыскали, и они были изданы на пластинке под названием «Holly in the Hills».
Как раз в те времена Америку захлестнула рок-н-ролльная волна. Имена героев новой музыки – Билла Хэйли, Чака Берри и, конечно же, Элвиса Пресли – были у всех на устах. Концерты Пресли собирали невиданные доселе толпы поклонников, радиостанции, уловив новое модное веяние, начали транслировать «Blue Suede Shoes», «Hound Dog», «Maybellene», впоследствии ставшие стандартами рок-н-ролла. Наступала новая музыкальная эпоха – и это пришлось по душе Бадди. Нет, он не просто следовал за модой: он почувствовал, что рок-н-ролл – это не только веселая и энергичная, но еще и дерзкая, агрессивная, даже слегка сумасшедшая музыка, совершенно непохожая на уже поднадоевшие ему патриархально-традиционный блюграсс и слащавые кантри-баллады. И Бадди решил напрочь изменить репертуар. Толчком к этому послужил концерт, с которым 14 октября 1955 г. в Лаббоке выступил Билл Хэйли со своей группой «Comets». Команда Холли играла в первом отделении. Разница между песенками Бадди и Боба и рок-н-ролльным ураганом Хэйли была колоссальной.
Именно на этом концерте Холли познакомился с Эдди Крэндаллом, музыкальным агентом из Нэшвилла, сопровождавшим турне Хэйли. На следующий день, 15 октября Бадди и его друзья вновь выступили на «разогреве» – на сей раз перед музыкальным шоу самого Элвиса Пресли. Они сыграли несколько рон-н-роллов, и Крэндалл понял, что Бадди – это необработанный алмаз. Надо только правильно огранить его, вставить в дорогую оправу – и он засверкает так, что, возможно, затмит и звезду самого Элвиса. 4 декабря Крэндалл посылает нэшвиллскому звукорежиссеру Дагу Стоуну телеграмму такого содержания: «Запиши 4 песни Бадди Холли. Не изменяй его стиль ни в чём. Пришли мне сделанные записи как можно скорее». И уже 7 декабря Бадди записывает четыре песни в студии «Nesman» в техасском городке Уичита-Фоллз. Вот так всё и началось.
В январе следующего 1956 г. нанятый Крэндаллом менеджер Джим Денни предлагает записи Холли фирме «Columbia» и получает отказ. Тогда он обращается в нэшвиллский филиал фирмы «Decca». Прослушав записи, представитель компании «Decca» говорит, что он готов подписать контракт, но не с группой, а с Бадди Холли как солистом. В результате группа разваливается, а в жизни и музыкальной карьере нашего героя наступает новая эпоха.
Стоит отметить одну весьма любопытную вещь. К тому времени уже успел сформироваться образ исполнителя рок-н-ролла. Конечно, имиджу каждой «звезды» был свой особенный: набриолиненный «разбиватель сердец» Элвис Пресли, скачущий на одной ноге и при этом виртуозно играющий на гитаре Чак Берри, яростный и грубоватый Литтл Ричард, вечно подпрыгивающий и бьющий по клавишам локтями и даже пятками Джерри Ли Льюис… Все они были непохожи друг на друга, но объединяло их одно: взрывная энергия, буйство, неистовство – и это было словно написано на их лицах. В этом легко убедиться, взглянув на любую – особенно концертную – фотографию Пресли, Берри, Льюиса или Ричарда. А вот у Бадди Холли была внешность, казалось бы, совершенно неподходящая для героя рок-н-ролла. Худощавый юноша среднего роста, большие, в толстой оправе очки, милая улыбка на лице… Студент-»ботаник», «зубрила», пай-мальчик – на первый взгляд, он производил именно такое впечатление. Его трудно было представить себе рвущим струны гитары или поджигающим рояль. На самом же деле в этом «тихоне» жила такая безудержная и заразительная энергия, что многим тогдашним идолам впору было позавидовать. Когда он брал гитару в руки, менялось всё: вместо скромного паренька на сцене появлялся отчаянный сорвиголова рок-н-ролла, а публика тихо – а чаще громко – сходила с ума…
Но вернемся к карьере Бадди. Он собрал новый состав, который, впрочем, впоследствии то и дело менялся. Группу назвали «Buddy Holly and the Two Tunes», т. е. «Бадди Холли и Два Мотива». Они провели три сессии звукозаписи на фирме «Decca»; позже, уже в те времена, когда Бадди добился успеха с группой «Crickets», компания обнародовала эти записи на диске под названием «That'll Be the Day» – исполнителями значились уже «Бадди Холли и Три Мотива». Третьим «мотивом» – кроме гитариста Сонни Кёртиса и басиста Дона Гесса – стал ударник Джерри Эллисон. «Decca» выпустила первый сингл Холли с песней «Blue Days, Black Nights» («Синие Дни, Черные Ночи»). Но в конце 1956 г. руководство фирмы решило, что Холли «неперспективен», и отказалось подписать с ним новый контракт, что было, конечно, большой ошибкой. Впрочем, через несколько лет «Decca» совершила еще большую глупость, отвергнув «Beatles», и лишь заключив контракт с «Rolling Stones», несколько укрепила изрядно пошатнувшуюся репутацию…
…Бадди, наверное, мог бы отмечать 24 февраля как свой второй день рождения. Именно в этот день в 1957 г. его новая группа, названная «The Crickets» («Сверчки») собралась в студии продюсера Нормана Петти в городке Кловис, штат Нью-Мексико, чтобы записать новую песню Холли «That'll Be the Day» («То Будет День»). Кроме самого Бадди в записи, проводившейся также и на следующий день, приняли участие трое музыкантов и двое бэк-вокалистов. Однако вскоре состав претерпел очередные изменения и в окончательном виде выглядел так: Джерри Эллисон – ударные, Джо Молдин – бас, Ники Салливэн – ритм гитара. Плюс, конечно, сам Бадди Холли. Записи «That'll Be the Day» и еще нескольких песен послали на фирму «Roulette» – и получили вежливый отказ. Решили пройти прослушивание исполнителей для конкурса «Arthur Godfrey's Talent Scouts» (что-то вроде «Алло, мы ищем таланты» в американском варианте) – и вновь безуспешно. Затем дела приняли уже совсем плачевный оборот: с Холли и «Crickets» отказались подписать контракт такие известные лейблы, как «Atlantic», «Columbia» и RCA. В конце концов, долгожданный контракт всё же был заключен с фирмой «Coral» (по иронии судьбы это было дочернее предприятие компании «Decca»). Руководителя «Coral» Боба Тиля, хоть с трудом, но всё-таки удалось уговорить. Правда, он на всякий случай решил перестраховаться, и 27 мая 1957 г. сингл «That'll Be the Day» был выпущен на другом, также принадлежавшем Тилю лейбле «Brunswick». Летом Холли и его группа участвуют в многочисленных концертах и турне, «раскручивая» новую запись, а осенью…
Осенью 1957 г. начинается то, что журналисты потом назвали «холли-бумом». 21 сентября сингл «That'll Be the Day» занимает в американском хит-параде третье место. Распродано более миллиона экземпляров. Фирма «Coral» решает ковать железо, пока горячо, и в конце месяца выходит второй сингл с песней «Редду Sue». Она тоже займет третье место в США и тоже будет распродана миллионным тиражом. 1 ноября «That'll Be the Day» возглавляет американский чарт – и, ни много ни мало, на три недели. Буквально тут же выходит первый альбом – пластинка «The Chirping Crickets» («Поющие Сверчки»), затем Холли и К° выступают в знаменитом телевизионном шоу Эда Салливэна. Кстати, в этот момент из группы уходит однофамилец Эда – Ники Салливэн, но это уже ничего не может изменить.
Дальше всё было, как в голливудском фильме об «американской мечте». Только в отличие от некоторых других у этого фильма была трагическая развязка… Но пока всё шло по традиционному сценарию: никому не известный, скромный молодой человек неожиданно становится «звездой». Соответствующие «кадры» несложно себе представить: бесконечные концерты, аплодисменты, неистовствующие поклонники, девушки, пытающиеся прорваться сквозь полицейский кордон, чтобы увидеть хоть разочек вблизи своего идола, а если повезет – то и дотронуться до него. А если очень повезет – то и разорвать его на части… Сюжет знакомый. То же самое происходило и с другими героями рок-н-ролла – Чаком Берри, Джерри Ли Льюисом, Фэтсом Домино и, разумеется, Элвисом Пресли. То же самое будет происходить позднее с ливерпульской четверкой в эпоху «битломании», а затем с «Rolling Stones», Джими Хендриксом, «Doors»…
Любопытно, что необычный, «не рок-н-ролльный» имидж Бадди Холли оказался, как ни странно, очень к месту и стал одной из причин его успеха. Среди всех этих Ричардов и Льюисов он в своих «студенческих» очках, скромном костюмчике и с легкой улыбкой на лице выглядел чуть ли не белой вороной – но при этом энергии и драйва ему было не занимать. И еще – он совершенно не страдал «звездной болезнью», с удовольствием давал автографы, очень редко отказывался от интервью и вел себя одинаково вежливо с поклонниками, журналистами и боссами шоу-бизнеса. Вежливо, но с достоинством. Цену себе он знал. Но выпячивать без конца свое «я», возводить себя в ранг некоего рок-н-ролльного божества, как это делали некоторые другие – это ему казалось пустой и ненужной болтовней, только отнимающей время. А времени у него оставалось совсем немного. Правда, он об этом не знал.
…1958 год. Приняв во второй раз участие в телешоу Эда Салливэна, Холли и «Crickets» отправляются вместе с Джерри Ли Льюисом, Полом Анкой и некоторыми другими на гастроли в Австралию. Австралия тихо сходит с ума. Затем следует турне по штату Флорида – приблизительно в той же компании. Флорида безумствует. Турне по Великобритании. На Туманном Альбионе фурор. Уже после возвращения группы в США, в апреле выходит второй альбом. На сей раз исполнитель обозначен просто как Buddy Holly. «Сверчки» уже воспринимаются исключительно как аккомпанирующий ансамбль. Кстати, в июне того же 1958 года Бадди впервые за долгое время приходит в студию без «Crickets». Запись двух новых песен происходит в Нью-Йорке, и тогда же Холли знакомится с очаровательной пуэрториканкой Марией Эленой Сантьяго. Тем временем концерты, турне, выступления на телевидении сменяют друг друга в бешеном темпе. Песни Холли стабильно попадают в чарты. 15 августа Бадди и красавица Мария Элена заключают брак. Церемония проходит в доме родителей Холли, и благословляет молодых протестантский пастор. Не успел еще закончиться медовый месяц, как неутомимый рок-н-роллер уже продюсирует первый сингл своего приятеля Уэйлона Дженнингса, ставшего впоследствии известнейшим исполнителем музыки кантри. Примерно через месяц после этого Бадди прекращает деловые отношения с продюсером Норманом Петти и «отправляет в отставку» «Crickets». Отныне он «свободный художник», у него множество планов на будущее, которое представляется – и не только ему – блестящим. Супруги Холли обосновываются в Нью-Йорке и в веселой компании друзей встречают многообещающий новый 1959 год…
22 января Бадди записывает несколько песен прямо в своей нью-йоркской квартире – а на следующий день отправляется в очередное турне. Вместе с ним на гастроли едут музыканты его новой группы: гитарист Томми Оллсап, ударник Карл Банч и уже упомянутый Уэйлон Дженнингс – бас-гитарист. В гастролях участвуют также другие музыканты и группы, среди которых 28-летний Джайлс Перри Ричардсон, выступающий под псевдонимом Big Bopper, автор хита «Chantilly Lace» и 17-летний Ричард Стивен Валенсуэла, он же Ричи Вэленс. 2 февраля перед аудиторией не меньше тысячи человек проходит очередной концерт в городке Клир-Лэйк. Уставшие от бесконечных переездов на автобусе музыканты решают добраться до аэропорта города Фарго на небольшом самолете частной компании «Dwyer's Flying Service». Они платят по 6 долларов за билет (сумма по тем временам приличная), но мест на всех не хватает. Дженнингс уступает настойчивым просьбам Биг Боппера и отдает ему свое место. Ричи Вэленс и гитарист ансамбля Холли – Томми Оллсап – бросают монетку и желанное посадочное место достается Вэленсу…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.