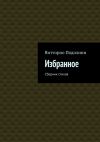Текст книги "Избранное. Том I"

Автор книги: Георгий Мосешвили
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Радиопередачи
Георгий Иванов. Передача 1-я: Отблеск нестерпимого сиянья[111]111Публикуемые тексты радиопередач воспроизводятся по авторским рукописям. Этот и два следующих очерка (о Георгии Иванове и Ирине Одоевцевой) – тексты радиопередач Георгия Мосешвили, прозвучавших на радио «Эхо Москвы» в марте-апреле 1992 г. в цикле «Когда мы в Россию вернемся».
[Закрыть]
[Сегодня передача] посвящена одному из лучших поэтов русской эмиграции – Георгию Владимировичу Иванову.
Говорить о нем мне одновременно и легко и трудно. Легко, потому что я в общем-то много о нем знаю (я написал комментарий к трехтомнику его избранных произведений) и люблю его стихи. Трудно, потому что мне вряд ли удастся дать беспристрастную оценку творчества любимого поэта. И еще – потому что Георгий Иванов просто стал мне по-человечески дорог: его, казалось бы, «мрачная» лирика не раз помогала мне – именно в черные дни. Так что мой рассказ будет – хотя и точен, но, скорее всего, необъективен. И – не судите меня за это строго.
Начнем с того, что было до эмиграции. Георгий Иванов родился в Ковно (ныне уже зарубежный город Каунас) в 1894 г. Шестнадцатилетним юношей познакомился с Игорем Северянином, стал эгофутуристом и выпустил вполне эгофутуристический сборник стихов «Отплытье на о. Цитеру» («о.» здесь означает «остров», сборник назван по известной картине Ватто). Гумилев нашел эту книгу стихов настолько «перспективной» (выражаясь современным языком), что в следующем 1913 г. юноша был без баллотировки (редчайший случай!) принят в «Цех поэтов». В шестерку основных акмеистов Иванов никогда не входил, но стихи его были, пожалуй, «акмеистичней», чем у самих акмеистов. Дальнейшая его судьба связана исключительно с литературой. Автор нескольких поэтических сборников, частый гость в знаменитом артистическом кафе «Бродячей Собаки», друг Гумилева и Мандельштама, он был знаком с Блоком, Ахматовой, Кузминым, Клюевым, Сологубом… Стихи он писал «образцовые» – по едкому замечанию писателя и критика Льва Лунца – очень красивые, изящные, несколько холодные и с оттенком сентиментальности. Вот одно из лучших – до эмиграции:
Где ты, Селим, и где твоя Заира,
Стихи Гафиза, лютня и луна!
Жестокий луч полуденного мира
Оставил сердцу только имена.
И песнь моя, тревогою палима,
Не знает, где предел её тоски,
Где ветер над гробницею Селима
Восточных роз роняет лепестки.
Это стихотворение я взял из сборника Георгия Иванова «Сады» – вот он у меня сейчас в руках – Петербург, 1921 г. Лучшая книга поэта из тех, что вышли при его жизни в России. 1921 – год смерти Блока и гибели Гумилева. Близкий друг расстрелянного поэта, Иванов публикует книгу его неизданных стихов, а через два года – в 1923 (по некоторым сведениям – в конце 1922) навсегда покидает Россию вместе со своей второй женой – поэтессой Ириной Одоевцевой. Недолго пробыв в Берлине, они приехали во Францию и поселились в Париже – тогдашней столице русской эмигрантской литературы.
В двадцатые годы Георгий Иванов много печатался в парижской эмигрантской прессе – и в «Звене», и в «Современных Записках», в «Благонамеренном», в «Новом Доме»… Он писал не только стихи, но еще и критические статьи, очерки, эссе. В 1928 году в Париже вышла его знаменитая книга «псевдомемуаров» – «Петербургские зимы». Речь в ней шла о русских поэтах, с которыми Иванов был знаком, и многие из них в то время были живы – как например, Ахматова, Мандельштам, Кузмин, Северянин… Надеюсь, у нас еще будет случай поговорить о ней отдельно. А сейчас скажу лишь, что критиковали «Петербургские зимы» – и даже не критиковали, а возмущались ею очень многие – и по-моему – совершенно напрасно. Книгу восприняли как настоящие мемуары, претендующие на «правдивость», как «документ», многие усмотрели в ней «вопиющее искажение фактов» и возмутились – и пошло-поехало… Кто только ни ругал «Петербургские зимы»! И Марина Цветаева, и Надежда Мандельштам (уже потом), и Ахматова… Никто не понял, что это, собственно, не мемуары, а проза, импровизация на вечную тему «судьбы поэтов» – только с реальными именами. Позже сам Г. Иванов говорил, что в «мемуарах» этих 75 % вымысла – и лишь 25 % истины. Книга, впрочем, от этого не стала хуже, и ее герои кажутся – живыми.
В 1931 г. в Париже вышел первый после эмиграции сборник стихов Г. Иванова – «Розы». Надо сказать, что книги писателей, а тем более поэтов русского Зарубежья издавались мизерными тиражами – 500, 300, 200, а то и менее экземпляров. Продавались они – за очень редким исключением (вроде Бунина и Алданова) – плохо: некоторые книги могли пролежать на складе 5–10, а то и 15–20 лет. Так вот, «Розы» Г. Иванова были раскуплены за полтора месяца – срок для эмигрантского издания фантастический!
И вот, когда лет десять назад я впервые держал в руках эту книгу (конечно, не в оригинальном издании, а – слепую машинописную копию, выданную тайком и только на 2 дня), ее название меня, честно говоря, не вдохновило: опять томность, изысканность, «лепестки восточных роз», – подумал я, и всё прочее. Читаю первую строчку первого стихотворения: «Над закатами и розами…» Ну, думаю, так и есть, старый добрый, нисколько не изменившийся Георгий Иванов эпохи «Садов»: закаты, розы… Но когда я прочитал вторую строчку, мне стало не по себе. Не знаю, смогу ли я передать словами это ощущение…, впечатление было такое, как будто на меня повеяло ледяным дыханием вечности…
Над закатами и розами —
Остальное все равно —
Над торжественными звёздами
Наше счастье зажжено.
Счастье мучить или мучиться,
Ревновать и забывать.
Счастье, нам от Бога данное,
Счастье наше долгожданное,
И другому не бывать.
Всё другое – только музыка,
Отраженье, колдовство —
Или синее, холодное,
Бесконечное, бесплодное
Мировое торжество.
Вдумайтесь – ведь, на первый взгляд, это действительно сплошные штампы: закаты, розы, музыка, счастье, звезды… Но сделать из этих «общепоэтических красивостей» – истинное чудо и вправду колдовство какое-то – это ли не проявление высшего смысла поэзии?
Другое стихотворение из книги «Розы» – по-моему одно из самых удивительных и таинственных в русской поэзии – вообще необъяснимо. Бессмысленно гадать – о чем оно. В этих неясных, как бы светящихся, почти бессвязных строфах живет какая-то тайна. Это – как музыка: чтобы понять, надо услышать…
Как в Грецию Байрон, о, без сожаленья,
Сквозь звёзды, и розы, и тьму,
На голос бессмысленно-сладкого пенья…
– И ты не поможешь ему.
Сквозь звёзды, которые снятся влюблённым,
И небо, где нет ничего,
Вхолодную полночь – платком надушённым…
– И ты не удержишь его.
На голос бессмысленно-сладкого пенья,
Как Байрон за бледным огнём,
Сквозь полночь и розы, о, без сожаленья…
– И ты позабудешь о нём.
Может быть, некоторые слушатели помнят «синюю ласточку» хрущевской оттепели – небольшую книжку стихов Марины Цветаевой, о которой «литература соцреализма» «без сожаленья позабыла» почти на сорок лет? Книжка эта вышла в 1961 г., и автором предисловия к ней был известный литератор Вл. Орлов. Вот что он писал: «Эмиграция выдвигала в качестве “своего” поэта лощеного сноба и ничтожного эпигона Георгия Иванова, который в ностальгических стишках томно стонал о “бессмысленности” существования или предавался пустопорожним “размышлениям”». Никто уважаемого литератора за язык не тянул: если ему так уж нужно было заклеймить «гнусную» эмигрантскую литературу чтобы книга Цветаевой прошла через Главлит, то можно было отделаться общей фразой и не называть ничьих имен – хотя бы для очистки совести… Но, может быть, товарищ Орлов был прав? Ну что ж, послушаем «томные стишки ничтожного эпигона»…
Закроешь глаза на мгновенье
И вместе с прохладой вдохнёшь
Какое-то дальнее пенье,
Какую-то смутную дрожь.
И нет ни России, ни мира,
И нет ни любви, ни обид —
По синему царству эфира
Свободное сердце летит.
* * *
Я слышу – история и человечество,
Я слышу – изгнание или отечество.
Я в книгах читаю – добро, лицемерие,
Надежда, отчаянье, вера, неверие.
И вижу огромное, страшное, нежное,
Насквозь ледяное, навек безнадежное.
И вижу беспамятство или мучение,
Где всё, навсегда потеряло значение.
И вижу, – вне времени и расстояния, —
Над бедной землёй неземное сияние.
* * *
Это только синий ладан,
Это только сон во сне,
Звёзды над пустынным садом,
Розы на твоём окне.
Это то, что в мире этом
Называется весной,
Тишиной, прохладным светом
Над прохладной глубиной.
Взмахи чёрных вёсел шире,
Чище сумрак голубой…
Это то, что в этом мире
Называется судьбой.
В этих стихах можно найти всё, что угодно – кроме пресловутой «томности», слащавости. Куда-то исчез ровный и холодноватый свет «акмеистической точности» – правда, осталась выучка. Это стихи мастера – но мастера уже «преодолевшего акмеизм». Это странные стихи: в них метафизика становится музыкой, ирония – горечью, а жизнь, красота и смерть – синонимами…
Грустно, друг. Всё слаще, всё нежнее
Ветер с моря. Слабый звёздный свет.
Грустно, друг. И тем ещё грустнее,
Что надежды больше нет.
Это уж не романтизм. Какая
Там Шотландия! Взгляни: горит
Между чёрных лип звезда большая
И о смерти говорит.
Пахнет розами. Спокойной ночи.
Ветер с моря, руки на груди.
И в последний раз в пустые очи
Звёзд бессмертных – погляди.
А теперь поговорим о ностальгии. Знаете ли, была такая дурная традиция, впрочем, увы, есть она и сейчас: когда советский литературовед писал о поэтах и прозаиках Зарубежья, ему непременно нужно было поведать читателю о том, как, ну скажем, Бунин, «задыхался на чужбине», «мучился вдали от Родины», «тяжело переживал разлуку с ней»… И конечно – если верить всей этой литературно-партийной болтовне – все-то они в эмиграции переживали творческий кризис, заходили в тупик, приходили в отчаяние и в конце концов походили на выходцев с того света…
…Имею честь сообщить вам, милостивые господа и дамы, что здесь, как говаривал небезызвестный персонаж Булгакова, «перед нами случай так называемого вранья». Чтение подобных опусов – дело героическое: вам без конца повторяют одно и то же, и вы (о, магия слов!) уже и сами начинаете верить в то, что все без исключения русские писатели в эмиграции только тем и занимались, что «задыхались», «мучились», переставали писать, а если и писали, то, конечно, гораздо слабее, чем некогда в России. Но ведь это смешно! Да, им было нелегко без России. Да, они ее любили, помнили, свято хранили ее традиции. Но там, в чужих странах они создали свой особый мир, «другую планету». Свою культуру: музыку, живопись, философию – и свою литературу, свою поэзию.
Когда же мне приходится слышать, как кто-то говорит о том, что Георгий Иванов в эмиграции задыхался и деградировал как поэт вдали от родины – мне становится уже не смешно, а грустно. Георгий Иванов был патриотом в высшем смысле этого слова и эмиграцию воспринимал как трагедию. Но мучился он, прежде всего, от одиночества человека в этом мире – перед лицом страдания и смерти. И красные и коричневые литературоведы «в штатском» никогда не простят ему «последней прямоты» этого стихотворения:
Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.
Только жёлтая заря,
Только звёзды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо – что никого,
Хорошо – что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.
Коричневые не простят – сами понимаете почему, а красные – потому что иронии не понимают, а искренность ненавидят.
Нет, ностальгия, конечно, была. Однако тоже странная ностальгия: вместо элегических воздыханий – воплощенная опять-таки «с последней прямотой» – говоря словами Мандельштама – горькая ирония.
Январский день. На берегу Невы
Несётся ветер, разрушеньем вея.
Где Олечка Судейкина, увы,
Ахматова, Паллада, Саломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году —
Лишь призраки на петербургском льду.
Вновь соловьи засвищут в тополях,
И на закате, в Павловске иль Царском,
Пройдёт другая дама в соболях,
Другой влюблённый в ментике гусарском…
Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени.
Маленький комментарий. Ольга Глебова-Судейкина – актриса и художница, подруга Анны Ахматовой. Всеволод Князев – поэт, в 24 года покончивший с собой из-за неразделенной любви к Судейкиной. Петербургской красавице Саломее Андрониковой-Гальперн посвящен известный цикл стихотворений Мандельштама «Соломинка». Паллада Гросс (она же Богданова-Бельская, Берг, Дерюжинская, Старынкевич, Педди-Кабецкая) – тоже петербургская красавица, посредственная поэтесса, но весьма экстравагантная дама – Г. Иванов написал о ней довольно забавный «мемуарный» очерк. Кстати, вслушайтесь:
Где Олечка Судейкина, увы,
Ахматова, Паллада, Саломея?
Вам эти строки ничего не напоминают? Нет? Тогда вслушайтесь еще раз – в слова уже другого поэта…[112]112
В этом месте во время радиопередачи звучала песня Ж. Брассенса «Баллада о дамах былых времен».
[Закрыть] Текст этой песни Жоржа Брассенса написан… Франсуа Вийоном. Это знаменитая вийоновская «Баллада о дамах былых времен». Ее, между прочим, переводил на русский Николай Гумилев, другом которого, как я уже говорил, был Георгий Иванов. Так вот, перевод Гумилева начинается так:
Скажите, где, в какой стране
Прекрасная римлянка Флора,
Архипиада, где оне,
Те сёстры, прелестью убора…
Начало стихотворения Иванова оказывается парафразом средневековой баллады Вийона. И это не случайно.
Этих двух поэтов многое роднит – несмотря на различие эпох, судеб, стран и стилей. За всеми шутками и острыми словцами вийоновского «Большого Завещания» скрыта глубокая скорбь – так же, как за иронией Георгия Иванова. О Вийоне у нас часто писали как о поэте-богоборце, этаком стихийном предтече «прогрессивного» и полуатеистического Ренессанса. При этом оставалось совершенно непонятным, как такой поэт мог написать, скажем, «Балладу повешенных». Поэзию Г. Иванова тоже не раз истолковывали подобным образом – и не только в России… Вот что пишет, например, ничтоже сумняшеся, глубокоуважаемый славист Вольфганг Казак в своем «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года» (его третье издание вышло в 1988 г. в Лондоне): «Она (т. е. лирика Иванова – Г.М.) отмечена возрастающим негативизмом и декларируемой антирелигиозностью… и типична для той части русской интеллигенции, которая оторвалась от религиозных традиций, составляющих мировоззрение русского народа». Кажется, Казак совершенно не воспринимает иронии Иванова – и выводит «декларируемую антирелигиозность» из строчки «Хорошо, что Бога нет», воспринимая ее совершенно всерьез. Георгий Иванов, конечно, не был глубоко верующим человеком в церковном смысле. Примерным прихожанином его представить себе трудно. Мало того, иногда его заносило в такие демонические, темные глубины, что не дай Бог нам с вами там побывать. Но воинствующим атеистом он не был никогда. Скорее он был – глубоко страдающим агностиком. Его несчастное колеблющееся сознание слишком остро воспринимало темную сторону бытия, он всю жизнь рвался из своего здешнего «личного» ада – и никак не мог вырваться. Но иногда он все же прорывался – куда-то в вечность, туда, где «над закатами и розами» зажжено «наше счастье» – и тогда совершалось чудо и из черной пустоты возникали сияющие стихи.
В глубине, на самом дне сознанья,
Как на дне колодца – самом дне —
Отблеск нестерпимого сиянья
Пролетает иногда во мне.
Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него…
и понимаю,
Что глядят соседи по трамваю
Странными глазами на меня.
Вот и все на сегодня. К поэзии Георгия Иванова мы вернемся в следующей передаче […] и речь в ней пойдет о вещах очень интересных: о поэме в прозе «Распад атома», о послевоенной жизни поэта, его двух последних книгах, его очень любопытной переписке с Романом Гулем, да и о некоторых других «людях и тенях», если воспользоваться выражением Гумилёва […].
Георгий Иванов. Передача 2-я: Отравленная музыкой стрела[…] Сегодня у нас вторая передача о поэзии Георгия Владимировича Иванова. Но начну я, пожалуй, не с поэзии, а с прозы. Точнее, с поэмы в прозе, которая называется «Распад атома». Отдельным изданием это странное произведение вышло в 1938 г. в Париже. Жанр его определить трудно – скорее всего, действительно, поэма в прозе, но и это не совсем точно. В прошлой передаче я пообещал вам рассказать о «Распаде атома» и, видимо, напрасно. Потому что для серьезного разговора об этой вещи нужна отдельная передача – надеюсь, что мы это когда-нибудь сделаем… А сейчас я ограничусь лишь одной цитатой – но цитатой очень важной для понимания всего сегодняшнего моего рассказа. «Распад атома» – это ключ к «поздней» поэзии Георгия Иванова. Видимо, в 37–38 гг. что-то «сломалось», если так можно выразиться, в его душе. Грусть и горечь в ней остались, но теперь появилось то, чего, кажется, раньше не было, – отчаяние. Как будто для Георгия Иванова в одночасье рухнула гармония мироздания и жизнь стала не только жестокой, но и бессмысленной. Вот что говорит поэт:
«Я дышу. Может быть, этот воздух отравлен? Но это единственный воздух, которым мне дано дышать. Я ощущаю то смутно, то с мучительной остротой различные вещи. Может быть, напрасно о них говорить? Но нужна или не нужна жизнь, умно или глупо шумят деревья, наступает вечер, льет дождь? Я испытываю по отношению к окружающему смешанное чувство превосходства и слабости: в моем сознании законы жизни тесно переплетены с законами сна. Должно быть, благодаря этому перспектива мира сильно искажена в моих глазах. Но это как раз единственное, чем я еще дорожу. Единственное, что еще отделяет меня от всепоглощающего мирового уродства».
Так размышляет лирический герой «Распада атома». Конечно, его нельзя прямо отождествлять с автором. Но здесь случай особый. Эти мысли Иванов будет потом неоднократно повторять – пусть в преображенном виде – в своих стихах. Повторяю, в этом – ключ. И лейтмотив «Распада атома» – «законы жизни – законы сна» – стал лейтмотивом судьбы самого Георгия Иванова.
Годом раньше, в 1937 вышла итоговая для того времени книга стихов Иванова. Названа она была почти так же, как его юношеский, первый поэтический сборник: «Отплытие на остров Цитеру». «Почти» – потому что исчез манерный мягкий знак – и «отплытье» превратилось в «отплытие», а географическое сокращение («о» с точкой) первого сборника стало полновесным словом «остров». Вы скажете, это мелочи, о которых нечего и говорить? Нет, милостивые государи, не мелочи! Иванов ведь ушел не только от своего юношеского увлечения эгофутуризмом, но и от всерьез им воспринятого акмеизма. Акмеистическая точность географического обозначения уступила место черным по белому написанному реальному и страшному слову. Страшному, потому что, по античному преданию, можно уплыть на райский остров любви – Цитеру (реальный остров Кифера – лишь его земной образ), а вот вернуться назад невозможно.
«Отплытие на остров Цитеру» – это двадцать лет поэтической работы (1916–1936). Из них 14 лет в эмиграции. Не исключено, что здесь есть такая грустная аллегория: Цитера – «райская» чужбина эмиграции, а прошедшая жизнь, или место отплытия – Россия, куда уже не вернуться.
Это звон бубенцов издалёка,
Это тройки широкий разбег,
Это чёрная музыка Блока
На сияющий падает снег.
… За пределами жизни и мира,
В пропастях ледяного эфира
Все равно не расстанусь с тобой!
И Россия, как белая лира,
Над засыпанной снегом судьбой.
* * *
Россия счастие. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.
И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,
И нет ни Петербурга, ни Кремля
– Одни снега, снега, поля, поля…
Снега, снега, снега… А ночь долга,
И не растают никогда снега.
Снега, снега, снега… А ночь темна
И никогда не кончится она.
Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия – только страх.
Верёвка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая сума.
Верёвка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья в мире нет.
Что было дальше? Дальше была война, которую Иванов и Одоевцева кое-как пережили на территории «правительства Виши» в южной Франции. Голод, страх, безнадежность, отчаяние… После освобождения – снова Париж – но жить там уже было трудно. Да и довоенного «русского Парижа» уже практически не существовало. «А поэты взяли, да и вымерли…», как скажет позднее – правда, несколько по другому поводу – Игорь Чиннов, тоже замечательный поэт. Кто-то умер своей смертью, кого-то расстреляли нацисты, кто-то навсегда уехал… С трудом сводило концы с концами лишь одно издательство, печатавшее поэтов эмиграции – «Рифма» – да и оно держалось на плаву лишь благодаря энергии и деньгам поэтессы Ирины Яссен. Вот в этой-то самой «Рифме» и вышла в 1950 г. первая послевоенная книга стихов Георгия Иванова – «Портрет без сходства» – она же последняя прижизненная… В «Портрете без сходства» изредка еще встречаются стихи, напоминающие прежнего Г. Иванова эпохи «Роз». Например, такое:
Где прошлогодний снег, скажите мне?..
Нетаявший, почти альпийский снег,
Невинной жертвой отданный весне,
Апрелем обращённый в плеск и бег,
В дыханье одуванчиков и роз,
Взволнованного мира светлый вал,
В поэзию,
В бессмысленный вопрос,
Что ей Виллон когда-то задавал?
Виллон – старинное, пушкинских времен, правописание фамилии французского поэта. Те, кто слышал предыдущую передачу о Г. Иванове, должно быть, помнят стихотворение Иванова «Январский день. На берегу Невы…», неожиданно оказавшееся парафразом «Баллады о дамах былых времен» Вийона. Так вот, первая строка только что прозвучавшего стихотворения – это рефрен вийоновской баллады – той же самой – и притом в переводе Гумилева. Как видите, здесь не простое совпадение.
Да, это стихотворение еще напоминает «Розы», хотя упоминание о «бессмысленном вопросе» уже звучит легким диссонансом… Зато следующее за ним стихотворение – всего из 10 строк – подобно падению в бездонную черную пропасть:
Воскресают мертвецы
Наши деды и отцы,
Пращуры и предки.
Рвутся к жизни, как птенцы,
Из постылой клетки.
Вымирают города,
Мужики и господа,
Старички и детки.
И глядит на мир звезда
Сквозь сухие ветки.
Слушатели, интересующиеся русской религиозной философией, конечно, поняли, что Иванов здесь иронизирует над «философией общего дела» Николая Фёдоровича Фёдорова, считавшего «воскрешение всех мертвых» единственным смыслом нашей жизни и единственным путем к Богу. Но дело не только в фёдоровской философии. Вымирание и воскресение оказываются равно абсурдны, потому что одно влечет за собой другое, или одно становится другим… для неодушевленной звезды, во всяком случае… Безверие? Богохульство? Нет, еще страшнее, но и по-человечески понятнее – отчаяние. Только нет в этом отчаянии никакого эгоцентризма, никакого любования собственной несчастной судьбой, никакой театральности и фальши. Вслушайтесь, Георгий Иванов никогда не «вещает», не учит, не изрекает истин. С горькой улыбкой он иронизирует уже сам над собой, и здесь никакая метафизика не поможет…
Что-то сбудется, что-то не сбудется…
Перемелется всё, позабудется…
Но останется эта вот, рыжая,
У заборной калитки трава.
…Если плещется где-то Нева,
Если к ней долетают слова —
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.
* * *
Всё неизменно, и всё изменилось
В утреннем холоде странной свободы.
Долгие годы мне многое снилось,
Вот я проснулся – и где эти годы!
Вот я иду по осеннему полю,
Всё, как всегда, и другое, чем прежде:
Точно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде.
«Долгие годы мне многое снилось…» Узнаете? Да, «Распад атома», «законы жизни – законы сна», всё тот же горестный лейтмотив. Между прочим, в последние годы жизни Иванов писал еще одну книгу «мемуарного» характера – по его собственным словам – она должна была называться «Жизнь, которая мне снилась». Текст этой вещи – если она была вообще написана – не сохранился. Может быть, отрывком из нее можно считать знаменитое эссе «Закат над Петербургом», в котором северная столица дана, как некое сновидение – или Зазеркалье.
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.
Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность пораженья.
Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.
Игра судьбы. Игра добра и зла.
Игра ума. Игра воображенья.
«Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья…»
Мне говорят – ты выиграл игру!
Но всё равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.
Смерть была действительно, что называется, не за горами. Последние годы жизни Г. Иванов провел – вместе с И. Одоевцевой в Йере-ле-Пальмье – маленьком городке неподалеку от Ниццы – в доме престарелых. Конечно, это была не советская богадельня – за Ивановым там ухаживали, его прилично кормили, пытались лечить (у него было что-то вроде тяжелой астмы)… Но всё равно, представьте себе: Георгий Иванов, друг Гумилева и Мандельштама, «первый поэт эмиграции» (его не раз «удостаивали» таким титулом в эмигрантской прессе), бессменный председатель «Зеленой Лампы» – литературного общества, собрания которого проходили у Мережковских – и вот этот человек – обитатель дома престарелых, пусть даже очень хорошего… Конечно, ему было тяжело… нет, не тяжело, ему было безнадежно там жить, в этом «богомерзком Иере», как он говорил. Чуть ли не единственным лучом света было то, что его стихи стали печататься в выходившем в Нью-Йорке эмигрантском издании «Новый Журнал». Инициатором этих публикаций был сотрудничавший в НЖ известный писатель-прозаик Роман Борисович Гуль. В 1980 г. он опубликовал (все в том же НЖ, редактором которого Гуль впоследствии стал) свою переписку с Г. Ивановым. Вот несколько фрагментов из писем поэта к Р.Б. Гулю: «Дорогой Роман (Николаевич?) Простите, если я ошибаюсь в Вашем отчестве. Ведь мы, в сущности, почти не были знакомы Прошу Вас как члена редакции о следующем: мои стихи напечатать не вместе с прочей поэтической публикой, а отдельно Прошу это (…) и потому еще, что эти стихи «Дневника» нечто вроде поэмы (для меня). (…) мы просим прислать нам под эти рукописи (речь идет также о повести И. Одоевцевой – Г.М.), не дожидаясь печатания, общий аванс. Суммы не называю, но само собою, каждые 10 долларов очень существенны. (…) сделайте это, пожалуйста, по возможности быстро». «Дорогой Роман Борисович (…). Насчет Цветаевой я с удовлетворением узнал, что Вы смотрите на ее книгу, вроде как я. Я не только литературно – заранее прощаю все ее выверты – люблю ее всю, но еще и “общественно” она очень мила. Терпеть не могу ничего твердокаменного и принципиального по отношению к России. Ну, и “ошибалась”. Ну, и болталась то к красным, то к белым. И получала плевки и от тех, и от других. “А судьи кто?” И камни, брошенные в нее, по-моему, возвращаются автоматически, как бумеранг, во лбы тупиц – и сволочей, – которые ее осуждали. И если когда-нибудь возможен для русских людей «гражданский мир», (…) пойдет это, мне кажется, приблизительно по цветаевской линии».
…Вот на наших глазах и развеялась одна из многочисленных «творимых легенд» о Г. Иванове – легенда о его якобы всю жизнь продолжавшемся неприятии Цветаевой – и чуть ли не ненависти к ней. Но вернемся к переписке поэта с Романом Гулем. «После присылки нам разных штанов и пижам – были такие хорошие слова: какой номер сапог поэта, какой воротник рубашки, костюм постараемся достать другой, для Одоевцевой собираем посылку (…). Если Вы об этом всём в бурном темпе нью-йоркской жизни забыли, а сделать хотите – говорю без ломанья – будем очень польщены. Польщены особенно всякому барахлу американского пошиба: курткам, кофтам (…). Номер моих сапог 42, рубашки 38… А как у вас делают вроде ночных туфель – и удобно, и ноги меньше болят (…). Покупать нам не на что, (…) гонорара едва хватает, чтобы есть и платить за квартиру. Но, само собой, если это всё в Вашей власти». Грустно, не правда ли? И – знакомо…
Вот так проходили последние годы жизни одного из лучших русских поэтов XX века. Как и Штейгер, он успел составить свою последнюю книгу стихов, но вышла она – уже посмертным изданием. Этот сборник назывался просто «1943–1958. Стихи» и состоял из трех отделов. В первый «Портрет без сходства» вошли почти все стихи из одноименного сборника. Второй назывался несколько странно – «Rayon de rayonne» – абсурдистская игра французскими словами, более-менее точный перевод – «Отдел искусственных тканей». Это была настоящая поэзия абсурда – только без зауми футуристов и без обериутской клоунады. Судите сами.
Все чаще эти объявленья:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья…
«Сегодня ты, а завтра я!»
Мы вымираем по порядку —
Кто поутру́ кто вечерком —
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.
Невероятно до смешного:
Был целый мир – и нет его…
Вдруг – ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно ничего!
А вот стихи из того самого «Дневника» – которые надо печатать «отдельно от прочей поэтической публики»:
«Желтофиоль» – похоже на виолу,
На меланхолию, на канифоль.
Иллюзия относится к Эолу,
Как к белизне – безмолвие и боль.
И, подчиняясь рифмы произволу
Мне всё равно – пароль или король.
Поэзия – точнейшая наука:
Друг друга отражают зеркала,
Срывается с натянутого лука
Отравленная музыкой стрела
И в пустоту летит, быстрее звука…
«…Оставь меня. Мне ложе стелет скука!»
* * *
Как обидно – чудным даром,
Божьим даром обладать,
Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.
И не только зря растратишь,
Жемчуг свиньям раздаря,
Но ещё к нему доплатишь
Жизнь, погубленную зря.
* * *
Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться…
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но что мне просить у Бога —
И бессмыслица и грех.
Георгий Иванов был не только прекрасным поэтом. Он был еще и незаурядной, сложной, во многом противоречивой личностью. Легенд о нем сочинили предостаточно – впрочем, он и сам нередко давал к этому повод. Многие принимали – и продолжают принимать эти легенды всерьез, в результате чего сложилось такое ходячее представление об этом поэте: циник, атеист, совершенно аморальная личность, пьяница, крайне правый монархист, ярый антисемит – в общем, не человек, а исчадие ада… Из всего перечисленного верно лишь то, что пил Г. Иванов, особенно в последние годы, действительно много – но думаю, что далеко не каждый из нас на его месте был бы трезвенником… Легенду о его богоненавистничестве я попытался опровергнуть в предыдущей передаче – и думаю, мне это удалось. Да и стихи, которые вы только что слышали, свидетельствуют о том, что не был Г. Иванов «воинствующим безбожником», иначе вряд ли он смог бы написать «Но что мне просить у Бога / И бессмыслица и грех». Я не помню в русской поэзии другого примера такого горького и искреннего покаяния. Вообще все эти легенды – настоящий «портрет без сходства»: они внешне правдоподобны, но лживы по сути. Если аморализм заключается в том, чтобы называть «мировое уродство» его истинным именем, то самым аморальным писателем окажется, например, Достоевский. Что же касается «правого монархиста»… Да, Г. Иванов нередко аттестовал себя монархистом и любил повторять: «Правее меня только стена!» Да, одно из лучших его стихотворений посвящено царской семье – вот оно:
Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно…
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник императрица,
Четыре великих княжны…
Да, прекрасные стихи… Но представьте себе настоящего, убежденного монархиста, вроде Шульгина до возвращения на родину или Маркова 2-го, который смог бы о русском самодержавии сказать вот так:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.