Текст книги "Армагеддон № 3"
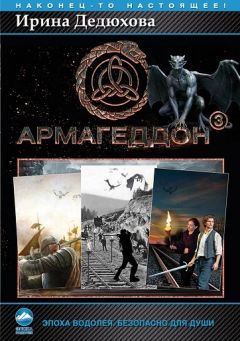
Автор книги: Ирина Дедюхова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Поднявшийся со своего места кришнаит, глядя в упор на матерившегося про себя Ямщикова, произнес странно изменившимся голосом:
– «За тьмою видя высший свет, видя высший блеск, Мы достигли солнца, бога среди богов, света наивысшего!» Вы, товарищ, имейте в виду, что для достижения света наивысшего надо хотя бы меньше матькаться! Усекли?
– Ну, давайте прощаться, – добавил он, почему-то обращаясь теперь к одной Марине. – Что, к примеру, вы можете сказать нашим гостеприимным хозяевам? – спросил он дьячка.
– Я скажу, что капля милосердия точит камень. И то, что они считают гибелью, обернется спасением! – назидательно сказал дьячок Марине.
– Опа-опа-опаньки! Совсем вы не в ту степь понеслись! Харе Рама! Про каплю-слезу им знать ни к чему! – весело перебил дьячка кришнаит, жуя позаимствованный у Марка Израилевича кренделек. – Да то, что им уготовано, и то, сквозь что они проходят, вашими верованиями, по сути языческими, вообще не предусмотрено!
– Ближе к сути, пожалуйста! – строго сказал ему Марк.
– Тогда продолжу высказывания христианина. Сквозь тьму и обман пройдете вы этот кармический круг. Узел будет разрублен новой реинкарнацией. Хорошее число – три! Я думаю, что оно достаточное! А если будет недостаточным, то еще можно столько нареинкарнировать, что никому мало не покажется! Правда? – спросил он Марину, свойски хлопнув ее по плечу.
– Спасибо и на этом. Вы, извините, до Харе Рама кем работали? – вежливо поинтересовался Марк.
– Зоотехником, – растерянно сказал кришнаит. – Я и сейчас двух коров держу, но они сейчас ни молока, ни сметаны не дают, я их к мерзкому не принуждаю. Вера не позволяет.
– Понятно, – сочувственно произнес Марк, многозначительно посмотрев на дьячка.
– Понятно, что последнее слово решил за собою оставить! – захихикал дьячок, ласково потрепав рыжего по плечу.
– Нет, только совет. Важный. Надо принять разлуку, и наш зоотехник вам пообещал, что она не вечная. И надо помнить, что Факельщик всегда прав, Нюхач все за версту чует. А Боец продержится до света истинного. Как-то вы справитесь? – сказал им Марк, озабоченно глядя Марине в глаза.
Все трое минуту посидели молча, а потом стали собираться к выходу. Первым, гремя бидонами, отправился восвояси расхристаный кришнаит в своем убогом пальтишке с оборванными пуговицами. За ним, крестясь и низко кланяясь, вышел дьячок. Последним, тяжело вздохнув, надел шляпу и вышел из купе Марк Израилевич.
Поезд притормозил на какое-то мгновение, а потом рванул с места, все дальше убегая от солнца, медленно катившегося за горизонт.
Носки
Поезд притормозил на какое-то мгновение, а потом рванул с места. Тут же в дверь вновь кто-то деликатно постучал. На пороге стояла одетая в пальто Серафима Ивановна, возле которой прыгал Ларискин пацан тоже в пальто и шапке.
– Мы с Ларисой сейчас выходим… Флик, – тихо сказала Серафима Ивановна. – Пойдем в тамбур, проводишь меня. Там и на наш Байкал посмотришь.
Марина без слов поднялась, накинула свою дубленку и пошла в тамбур за Серафимой Ивановной, шлепком отославшей к матери любопытного паренька. Появление старушки застало ее врасплох, поэтому она никак не могла припомнить, как обратилась к ней Серафима Ивановна? Вроде бы ей показалось, что старуха назвала ее Фликом…
– Мы последние выходим в Нижнеангарске. Лариса дальше к мужику своему на побывку едет, он возле нас в тюрьме сидит. Нынче ведь крупных воров до небес возвеличивают… Ну да Бог им всем судья, – грустно и обыденно сказала Серафима Ивановна. – А я к дочке средней еду, ей рожать через две недели, помочь надо. Впрочем, я тебе говорила…
Серафима Ивановна смотрела на нее с улыбкой, потом взяла за руку и прижала ладошку к своей щеке. Марина молчала, напряженно вглядываясь в лицо старухи, изо всех сил стараясь вспомнить, где же она видела эти голубые, не потускневшие и в старости глаза?
– Я вас обоих сразу узнала, – наконец, сказала Серафима Ивановна. – Когда вы в тамбуре с господином капитаном дрались…
Сны, которые изводили Марину всю эту длинную дорогу, вдруг начали приобретать реальные очертания, встав перед нею в виде сгорбленной морщинистой старушки с неунывающими голубыми глазами. На минуту она представила ее девушкой, гораздо моложе ее самой, нынешней… в чепце, съезжающем на нос.
– Хильда! – выдохнула Марина, прижав руки к груди.
– Ой, не пугай меня так! А то я зареву, а мне выходить скоро, – сказала старуха, зашмыгав носом. – Давно уж не Хильда, да и ты ведь уже не Флик… Но ведь память зачем-то осталась… Только встретив вас, поняла, почему мне так надо было всю жизнь всем вокруг дарить носки…
Старушка сморщилась, плечи мелко затряслись и сквозь слезы она начала произносить речитативом давно обдуманные слова, которые причиняли сейчас обоим почти нестерпимую боль.
– Маменька у меня из сиротского дома была, вязать не умела. А я, как только себя понимать стала, сразу решила учиться вязать носки. К бабушке, свекровке маменькиной, за пять километров одна ходила учиться… Потом нас от совхоза в Москву послали. Там нас женщина в Кремле принимала, Валентина Терешкова… В Космос ее запускали… Ой, Флик, нынче ведь все на бабах держится, все на бабах! Куда нас только не запускают! Так я и ей тоже носки подарила… Думаю, пригодится ведь… На лыжах ходить. Теперь-то понимаю, как мне надо было всю жизнь тебе носки подарить! Вижу уже плохо, на ходу много не наковыряешься… А смотри-ка, какие получились! Пожалуй, лучшие… Значит, везучий ты человек!
Серафима Ивановна вынула из-за пазухи пушистые носки с длинными голенищами и сунула в руки Марине.
– Я у тебя ножку давно приметила, они тебе как раз будут! – утирая слезы, прошептала Серафима Ивановна. – Если бы ты знал, какое счастье было тогда тебя встретить! А те носки… Теплые, от маменьки… Мне же никто никогда ничего не дарил… Я ведь и у тетки на водосбросах в хлеву жила… А там, знаешь, какие блохи кусучие? Никогда не живи в хлеву, слышишь? Никогда!
Марина плакала, прижимая полосатые носки к груди, уже поняв, что же сказал тогда Седой Грегу за повозкой. С усилием она сказала срывающимся голосом:
– Бедная моя! Несчастная!
– Что ты? Что ты, мальчик мой золотой! – протестующе всплеснула руками Хильда и даже рассмеялась сквозь слезы. – Я ж была самой счастливой на свете! Ты даже не представляешь! Флик, я буду молиться, чтобы ты хотя бы вполовину был так же счастлив, как я тогда… Винсент сказал, что капитан распорядился поселить меня в отдельном домике, в саду. Ты это можешь понять? Целую неделю далекий дом в саду был только моим… Для меня ведь тогда все время не было места. Ты не знаешь, как это жить, когда для тебя ни у кого нет места! Мне вот дочка говорит, чтобы я у нее навсегда оставалась. Но у меня нынче тоже дом в саду, а места там очень много… Я нынче хорошую жизнь прожила, и дети у меня хорошие. Но, Флик, такого счастья уж не было! Да и после него, по правде сказать, ничего больше не надо… Не бывает ничего больше после такого счастья. Мне даже дышать тогда было трудно…
Марина начала икать, давясь слезами, ничего уже не видя перед собой. Серафима Ивановна обняла ее за плечи, постучала по спине, отчего икота сразу прекратилась и, ласково гладя по пушистым волосам, шептала знакомым голосом из ее самых страшных снов:
– Не переживай, тебе сейчас все это не нужно. Нас быстро убили, не переживай… Винсент заставил всех женщин одеться драгунами и взять карабины. Обмундирования было очень много, карабинов тоже… Со стороны мы казались большим отрядом, поэтому дезертиры нас не трогали. Мы бы дошли. Но потом к нам приехал черный человек на повозке. Он спрашивал о вас. Мы едва успели ему поменять лошадей и объяснить, как вас найти… По пятам за ним гнались уланы… Он быстро поехал, очень быстро… Но двое поехали сразу за ним. А все другие остались убивать нас. Всех быстро зарубили… Я только видела, как повозка остановилась на вершине холма – и сразу стало темно…
Поезд начал сбавлять ход, тихонько притормаживая в пригороде, Серафима Ивановна трижды крепко поцеловала Марину в щеки, перекрестила, сунула какую-то бумажку в карман и скороговоркой произнесла:
– Тут адрес и телефоны, вдруг в живых останетесь? Запомни, капитан очень хороший! Просто на каждого мужика накатывает время от времени. Сам знаешь, тоже ведь мужиком был, так что не дуйся на него долго, помирись. Сейчас, Флик дорогой, пойдут разъезды… Холодная, Кичера, 423-й километр… Вот думала всю дорогу, куда же вы едете?.. Точно не скажу, но чувствую сердцем что-то нехорошее за станцией Ангоя… Может, в Новом Угояне? Но, самый мой золотой человечек, до разъезда на 855-м километре ваш вагон не дойдет. Так что, удержись в седле, Флик!
В тамбур вышла Лариса с младшим на руках, за ней впрыгнул на одной ножке старший. Потом Петрович вытащил вещи. Серафима Ивановна обняла и в точности, как Марину, поцеловала Петровича, приговаривая:
– Прощай, Алексей Петрович! Извини, коли что не так было. Наших постарайся поберечь, ты же вожатый все-таки. Анюте твоей тотчас позвоню, как до места доберусь. Ты же должен понять, у нее там ребенок и мать-старуха. Думаю, она тоже там слезьми обливается…
Оглянувшись на грустную Ларису, старуха сказала:
– Ну и поревем мы сейчас, Лариска, да? Вот повоем-то!
– Ты чего это, Серафима Ивановна, по живым-то выть собираешься? – осудила ее Лариса. – Надеяться надо!
– Да я надеюсь, – грустно сказала старуха. – Ждать буду. А жаль на сердце такая, что просто душа разрывается! Очень хочется выпить и повыть… Где-то даже Алексея Петровича понимаю. Не одобряю, Алеша, но понимаю. Не надо старухам столько времени для мыслей давать. Слишком много я тут с вами думала от безделья. Поэтому решила, что самое время наклюкаться в зюзку и завыть…
– А еще лучше наклюкаться с рыбкой, омуль у вас здесь восхитительный, да с картошечкой его, заразу, с лучком, – мечтательно сказал Петрович.
– Да! С беляшами, с холодцом! – со смехом поддержала его Лариса. – С дымарем, с пельменями! А потом попытаться повыть, если захочется. Если получится!
– Вот же молодые скалозубы! – беззлобно проворчала старуха, не сдержав ухмылку. – Ладно! Приеду и тесто поставлю. Это у нас такое гадание в Сибири… Поднимется тесто – и вам повезет. Ну, прощайте все! Не поминайте лихом!
Открыв двери из холодного тамбура, покрытого белой изморосью, и заглянув в опустевший вагон, Петрович даже остановился в нерешительности. Повернувшись к Марине, он сказал:
– Что-то жутко здесь стало, Марина Викторовна! Я сейчас этот туалет открою, вы никто в конец вагона не ходите!
– Петрович, ты тоже с Кириллом лучше к нам переезжай, – тихо сказала Марина, все еще прижимая к себе носки.
– Ладно. Но все-таки, мне кажется, сутки мы еще прокантуемся. Утрамбовывать нас через сутки будут. У меня все внутри сжимается…
– Это душа. Душа все чувствует, ее не обманешь.
– Я сейчас топить буду, приходи на огонь смотреть, – расщедрился Петрович.
– Спасибо! – признательно кивнула Марина.
Пока Марина и Петрович провожали последних обычных пассажиров, Ямщиков и Седой по очереди внимательно изучали старую карту с большой красной звездой. Пока смотрел один, другой лежал в задумчивости и как бы должен был мысленно переварить увиденное. Хотя оба толком не понимали, для чего вообще Факельщика снабдили этой бумажкой. Хуже всего, что в голову лезли разные мысли, далекие от целей и задач стремительно приближающего Армагеддона.
– Слушай, Седой, ты прости, может, я тебя от работы мозгом оторвал, – неожиданно сказал Ямщиков, повернувшись к Седому, пытавшемуся тайком обнюхать карту своим румпелем. – Ты никаких стихов не знаешь? Можешь стихи на память почитать?
– Чего тебе надо? Зачем? – с раздражением спросил Седой. Из воспитательных соображений он и после напутствия вел себя с Ямщиковым еще весьма сдержанно.
– Да так… Потянуло что-то, – неопределенно хмыкнув, ответил Григорий.
– «Я помню чудное мгновенье», – нехотя продекламировал Седой первое, что пришло в голову.
– Не, такое я читал! Почти каждый день читаю, осточертело! – отмахнулся Ямщиков и громко продекламировал:
Я помню чудное мгновенье,
Стоял в дверях я, как бурбон,
А вы плевали мне на мненье,
И нагло вперлися в вагон…
– Это что такое? – недоуменно спросил Седой.
– Да так, неважно. А настоящих стихов ты, случаем, не помнишь?
Седой задумался, а потом тихо, почти для себя, прочел:
Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах, зренья нет – ты зришь последний раз.
– Это стихи? – с сомнением спросил Ямщиков.
– Стихи, конечно, стихи! – заверил его Седой. – Как задницу прижмет по-настоящему, так сам заскулишь про прекрасные мгновения, собственным нюхом почуешь, где стихи, а где что-то другое… Душа попросит. Давай-ка, приканчивай разговорчики в строю и начинай башкой работать!
Далее, конечно, его понесло к бесконечным рассуждениям о необходимости именно теперь включиться в настоящую работу, но Ямщиков почти не прислушивался к привычному занудству Седого.
Ямщиков в который раз удивился своей патологической живучести. Вроде бы следовало примириться, что предприятие их обречено. С того самого момента, когда он увидел, кто у них вместо Факельщика. Да хотя бы, когда Нюхач признался, что ничего не чует… Просто принять житейскую истину, что им, как и всему вокруг, суждено умереть. Казалось бы, какая разница? Ведь и появились они не бессмертными. Но нечто упрямое и цепкое прямо у него внутри требовало как можно больше настоящих стихов про то, как «зренья нет»… Оно желало слушать, слушать… и не соглашаться с процитированными соратником красивыми словами, туго сплетенными в рифму с каким-то тревожным ритмом. Надо же! Будто с них списано! Седой горячо что-то доказывал рядом, а Ямщиков понимал, что согласиться со стихами было бы красивым трагическим финалом всего их дурацкого путешествия. И по уму именно такой финал следовало бы принять. Но все-таки и сам Седой заявлял, что вся работа его мозга должна быть направлена в иное, более плодотворное русло. Это, когда он просил его к Наташке в тамбур не ходить…
Из путаных, многоярусных размышлений с огромным количеством сложноподчиненных предложений, его Сусаниным вывел репродуктор, резко заоравший прямо в ухо:
На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется, перрон останется…
Песенка была вроде бы ничего, и Ямщиков сделал радио погромче. Седой умолк и, явно обидевшись, повернулся к нему спиной. На словах «Начнет расспрашивать купе курящее про мое прошлое и настоящее» песня резко оборвалась. Женский голос с негодованием произнес: «Вот так Барбара Брыльска сообщает нам в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром» о негативном поведении некоторых граждан в поездах дальнего следования. Напоминаем всем пассажирам о недопустимости курения в купе и крайней опасности подобных антиобщественных поступков!»
«Хоть бы ты заткнулась, сука!» – подумал Ямщиков, решив немедленно обкурить стихи, свои мысли по поводу и гадкую передачу «Радио МПС» в тамбуре. Но не успел он открыть дверь, как из динамика полились трагические звуки… Печальный, беспомощный мужской голос, которому расстроенным эхом вторили женские полувсхлипы, произнес: «Нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земное сбросила с земли!..»
Инстинктивно втянув голову в плечи, Ямщиков шагнул из купе. Голоса обиженно и разочарованно с явственно различимой слезой сказали ему в спину: «И никого не защитила вдали обещанная встреча! И никого не защитила рука, зовущая вдали!» В этот момент Ямщикову почему-то представились тоненькие нынешние пальчики Флика, и как он этими пальчиками размазывает сопли по щекам, конечно, из-за него, поскольку ему, Ямщикову, уже пришел долгожданный писец. Всхлипнув, он задержался в дверях, но тут же чертыхнулся, поскольку противная баба влезла прямо ему в душу с объяснениями услышанного: «Вот такую жизненную историю рассказал нам артист Андрей Мягков. Никого не защитит вдали обещанная встреча от крушения поездов по причине вывернутых с железнодорожных путей гаек, срезанных костылей и снятых плафонов светофоров!..»
Передача оборвалась на полуслове, и голос Седого, заткнувшего говорильник, вернул Ямщикова к жизни:
– Какого черта, Грег? Ты можешь понять, наконец, что и без тебя тошно?.. Душа-то у тебя есть, ё-моё? Вали куда шел!
Разговорчики в строю
– Скажи, Макаров, но ведь душа-то у нас есть, правда? И Бог где-то должен быть, а?
– А… Ты про это… Что, Рваный, тоже не нравится, что душа и Бог – суть поповские фетиши?
– Не нравится, Макаров. Особенно в данный исторический момент.
– У нас на заводе, перед тем как меня посадили, собрание проводили профсоюзное. Коммуниста одного хвалили за производительность труда. Привожу дословно: «Анищенко душой болеет за порученное ему дело!» Или еще вот, захожу в партком. Там секретарь нашей ячейки в трубку телефонную кому-то кричит: «Да не дави ты на меня, ради Бога!» Можно сказать, что мир – простой, как задница, с одной дыркой посередке, но при этом каждая тварь прекрасно осознает, что есть у нее душа! Есть!
– Значит, есть. Мне, понимаешь, сейчас надо знать точно. Мне как-то проникнуться надо, чтобы всю кодлу в руках зажать.
– Ваших блатных через конвейер не пропускали?
– Да нет… вроде. Зубы выбьют – и ладно.
– А у нашей 58-й статьи это самым страшным считалось. Когда не бьют, кормят даже, но спать не дают. Вообще. Только чуть закемаришь, вежливо пробуждают. Вежливо. И следователи конвейером меняются. Свеженькие. Ты вот скажи, Рваный, если бы у наших врагов народа только тело было, то на кой ему спать? Ведь и так сидишь – ни хрена не делаешь. Спать-то тогда зачем? А то-то и оно, что во сне душа отдыхает и где-то, видно, чем-то питается. Вот какой части тела это надо! Поэтому мучительнее было, когда пытку не тела, но вот этой самой души устраивали. При этом и следователи, и подследственные были уверены, что никакой души не бывает.
– Ты смотри, что суки делали! Слушай, а ты…
– Чего?
– Ты никаких стихов на память не знаешь, Макаров? Почитай шепотом, а? Для души… Наклонись, будто наряд обсуждаем… Устал я очень, вымотался душой, Макаров…
– Ладно. Слушай, – задумчиво прошептал Макаров, почему-то потирая глаза.
Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах, зренья нет – ты зришь последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья – ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила – так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила, словно шпагу, в темные ножны.
И подъемный мост она забыла, опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила, красное дыханье, гибкий смех…
– «И от нас природа отступила – так, как будто мы ей не нужны…» – эхом повторил Рваный. – Есенин? Нет? Но, тоже хорошо сложил… Спасибо тебе, Макаров! От всей души!
– За что, Рваный?
– Да так, в принципе не за хер. Пригнись, сейчас бить буду… Работать, суки драные! Вкалывать будете, гниды, до полной победы социализма и разгрома фашистской Германии! Давай, бывай, Макаров! Я тебя в следующий раз изнахратю, п…к!
* * *
И в одно паскудное утро, когда колонна, как всегда организованно, построилась почти без участия конвоя, зажав в средние ряды явно повеселевших пелагриков, Поройков, глядя на своего молодого лейтенанта с такими же тоскливыми, как у овчарок, глазами, решил наводить свой порядок во вверенном ему подразделении собственными силами.
В качестве суки он наметил себе молоденького чахоточного блатного, которого Рваный снял с кайла и поставил вместе с дистрофиками на заготовку смоляных факелов. Вид у парнишки был хорошо притертый зоной. Поройков мог бы побожиться, что и на свет-то он появился за колючкой, если бы не знал точно, что никакого Бога нет.
Убедившись, что Рваный выскочил на другую сторону откоса, где пара здоровых воронежских налетчиков понедельниками вколачивала костыли, Поройков решил колоть блатаря немедленно. К факельщику он подошел неожиданно сзади, молча сбил с ног и стал методично крушить прикладом верткому, как угорь, фраерочку ребра и зубы. Он отрезал ему путь, не давая откатиться в сторону от костра. На удивление, парень не выл, но, катаясь по стремительно розовевшему снегу, старался спасти даже не голову и живот, а только кисти рук. Поройков еще не вошел в настоящий раж, как произошли странные вещи, саму возможность которых он никогда не допускал даже во сне. Сзади на нем с мычанием бессильно повис немой доходяга, на лбу которого давно была нарисована местная прописка, а в левую ногу, разрывая валенок, вцепилась Пальма. Его Пальма. Мир стал опрокидываться в голове у Поройкова, в бессилии передернувшего затвор.
– Поройков! Прекратить! – орал, размахивая руками, бегущий к ним лейтенант.
Да что же это? Они все с ума посходили? Блатной сумел-таки встать на ноги перед лейтенантом и, отплевываясь кровью в сторону, пытался даже лыбиться разбитым ртом. Он посмотрел Поройкову в глаза, и до старшины вдруг только теперь явственно докатился тревоживший его смысл восторженного ритма, которым дышало все вокруг него.
«Мы умрем!» – звонко стучали с откоса понедельники.
«Мы умрем!» – визгом отвечали им пилы из ближнего леса.
«Мы умрем!» – шептали, потрескивая смолой, факелы.
«Умрем! Умрем! Умрем!» – непрерывной очередью выводили топоры.
Поройков посмотрел в глаза лейтенанта, в которых ответом на все его размышления стояла та же спокойная мысль, вскинул винтовку на спину и, с ненавистью цыкнув на поджавшую хвост Пальму, пошел с обходом вдоль желтевшего свежей галькой откоса.
* * *
Через две недели, вновь не найдя ни в накладной, ни в нарах характерных небольших ящиков с желтыми наклейками Камской пуговичной фабрики имени Клары Цеткин, в которых конвой получал новый боезапас, Поройков даже не удивился собственному спокойствию. Внутри его головы просто сильнее застучал тот ритм, с которым он дольше всех не мог смириться. Похоже, что и зэки, разгружавшие нары были обескуражены не меньше конвоя.
Проверяющих теперь ждали каждый день. И все-таки дрезина появилась неожиданно. Ихняя, лагерная дрезина. Поройков только успел подать команду Пальме и побежал, к подготовленной три дня назад огневой точке. Узкоколейка шла из самого лагеря, а ветер в тот день как раз был северо-западный. Поэтому на ветке никто не услышал ни звука. Лишь после подхода дрезины со стороны лагеря потянуло гарью, и что-то полыхнуло несколько раз. Видно, взорвались бочки с дизелем. Вот почему с-суки автоматы не дали! Кто-то из блатарей, пробегая, успел тюкнуть по шпале, болтавшейся на веревке возле шалаша охраны. Ладно, если два лесных отряда все-таки услышали этот тягучий звук.
Царапаясь по откосу вверх, отчаянно старались спастись проходчики. Ни хрена. Поройков, деловито осматриваясь из гнезда, понимал, что до вершины откоса доползти не успеет никто. Понимали это и несколько доходяг, по-звериному, без слез вывших, бессильно прислонившись к крутому, почти отвесному склону. Возле них металась растерянная охрана. После двух выходов на охоту, жрать-то что-то надо, почти ни у кого даже патронов не было. А последние коробки они еще неделю назад проиграли в карты Поройкову, на организованных им с этой целью посиделках. Овчарки не лаяли, не выли. Они просто сидели и грустно разглядывали людей слезившимися от ветра глазами.
Не обращая ни на кого внимания, навстречу дрезине шел их лейтенант с серым, застывшим лицом. На три шага позади него, как и положено зэкам, за ним продвигались бригадир Рваный и тот стриженый враг народа номер В-986. Шестым чувством охранника Поройков тут же понял, что в правом рукаве у Рваного, скорее всего, отпилок. Что держал враг народа, Поройков так и не понял, но от души пожелал, чтобы зэки дошли под прикрытием лейтенанта до дрезины.
Дрезина сбавляла ход. Собственно, никто никуда не торопился. Начинало темнеть, и Поройков подумал, что до темноты с ними управятся. Очевидно, такого же мнения был и чахоточный факельщик, который начал торопливо поджигать все заготовленные факелы и втыкать их в железные треноги, будто испугавшись, что уже не успеет выполнить свою работу до темноты.
Дрезина остановилась возле лейтенанта. Два совершенно одинаковых полковника смотрели поверх голов. Предусмотрительный Поройков проследил за их взглядом и понял, что ни хрена он в своей жизни предусмотреть не мог. Сверху откоса послышались очереди, и тяжелыми серо-зелеными, плодами оттуда посыпались, неловко раскидывая в полете безвольные руки, две лесные бригады вместе с взводом лагерной охраны. Они катились со странными, успокоенными лицами по обледеневшей гальке откоса возле самого гнезда Поройкова. И он видел, как постепенно замирала жизнь на лицах доходяг внизу, как успокаивались, остервенело царапавшиеся вверх блатные.
Срываясь за мертвецами, живые лежали у подножия сопки, не шевелясь. Поэтому на лицах проверяющих появилась озабоченность. Одного их взгляда на сопровождавший конвой было достаточно, чтобы с дрезины по направлению к осыпавшимся телам начали спускаться автоматчики. До заката было еще далеко, но яркие алые полосы на жестком крупянистом снегу, масляно блестевшие на скупом солнце, казались бликами раннего заката.
Вначале Поройков даже не понял, что же вдруг произошло. Единственное, что он почувствовал сознанием, почти полностью отстранившимся от странных и безмолвных картин, было нестерпимое желание стрелять. Но за мгновение до того, как он начал прицельный огонь по автоматчикам, он увидел, как их сбившиеся в стаю овчарки по команде чахоточного факельщика встали на пути автоматчиков, как вдруг странным светом вспыхнули за его спиной факелы, преграждая любому путь к сопке…
И еще за несколько мгновений до того, как Поройкова прошила автоматная очередь сверху откоса, боковым зрением он увидел драку бригадира Рваного и его зоновского дружка В-986 с двумя проверяющими на дрезине. Причем глаза врагу народа тот проверяющий, что стоял слева, вырвал почти сразу – одним отточенным движением длинных заостренных когтей. А бригадир Рваный, пытаясь прикрыть товарища, ловко шпынял проверяющих, ставших почему-то горбатыми, отпиленным посередке куском лома с заточкой на конце. И вроде как под прикрытием Рваного тот зэк, с залитым кровью лицом, опустился на колени и пополз на карачках к дрезине мимо валявшегося на насыпи лейтенанта, доклад которого навсегда прервал второй проверяющий, быстро чикнув когтями по шее. Что там этот зэк делал на ощупь – Поройкову почему-то надо было непременно узнать, пока медленно меркло сознание. Он успел еще услышать взрыв со стороны дрезины, и только тогда догадался, что тол захватил с собой Рваный, который работал в старом лагере взрывником на диабазе. Потом сразу вдруг стало темно, но испугаться Поройков не успел, потому что рядом с ним, радостно виляя всем телом, уже бежала умница Пальма…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































