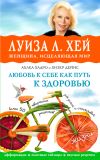Текст книги "Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)"

Автор книги: К. Сентин
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 21 страниц)
Глава XV. Исповедь Марильяка
Восемь огромных башен, соединенных таким же числом каменных валов, твердо стоявших в глубине широкого рва и украшенных куртиной, прикрытой бастионами, да еще охраняемых бдительным оком часовых и грозными жерлами пушек, – так выглядела Сент-Антуанская Бастилия. Это здание, по виду своему столь мрачное и печальное, находилось в конце бульвара – так старинная фамильная гробница помещается в конце прелестной аллеи какого-нибудь парка…
Здесь, в комнате, запертой на крепкие запоры, – правда, сюда проникал хотя бы свежий воздух и несколько солнечных лучей – уже несколько дней лежал на одре болезни граф де Марильяк.
Напряжение сил, которое он перенес, чтобы перелезть через ограду дома Бофруа, поднять при помощи пажа длинную лестницу и войти наконец в комнату Луизы, чтобы спасти ее, пожертвовав собой, оказалось роковым для его раны. Открылась горячка; только она и дала ему, видимо, силы на все это, но в то же время сокрушила последние жизненные начала. А еще терзали его и вливали яд в его рану страшные мысли – не вернуть ему теперь и душевного спокойствия. Луиза виновна – более он в том не сомневался. Себе самому он говорил: «Я исполнил бы только наполовину свою обязанность, если бы спас ее от наказания, но не скрыл ее преступления! Бедная девушка!.. Как упорно все мы старались погубить ее! Почтеннейший кардинал… и вы, король, – надеюсь, мы все трое дадим за нее ответ перед Богом! Но что с ней делать?.. Что с ней будет?..»
В то время, когда он был погружен в эти грустные размышления, паж его, последовавший за ним в заточение, стоял у окна и смотрел с детским любопытством то на часовых, расхаживавших у своих будок, то на простолюдинов, свободных и веселых, которые шли в предместье города или шагали по бульвару; вдруг он вскрикнул удивленно и радостно.
– Что ты, – спросил граф, – уж не услыхал ли, что пробил час твоего завтрака?
– Граф! Граф! – Запинаясь, паж хлопал руками и пристально глядел через железную решетку окна. – Это она! Это в самом деле она!.. Графиня идет мимо сада… поворачивает к нашему замку!..
– Луиза?.. Ты ошибаешься, друг мой! В твои годы все женщины кажутся похожими одна на другую.
– Нет, я ее хорошо знаю, как и вашего зятя графа де Мора – он ее провожает… Но вот он с ней расстается… делает ей знак… Она приближается сюда… Но… я не вижу ее более… Этот проклятый бастион… он закрывает ее от меня! – Паж топнул ногой и сжал кулак, угрожая бастиону.
– Она пожелала меня видеть, и они ей это позволили! – воскликнул Марильяк, и ему сразу показалось, что боль его стала куда слабее.
В это время дверь комнаты отворилась… он вздрогнул… но это вошел комендант Бастилии господин де Беземо, а с ним лекарь. Подошел к Марильяку, снял перевязку, подробно исследовал рану; брови его нахмурились, он бросил значительный взор на губернатора и молча продолжал свое дело.
Во время мучительной для него перевязки Марильяк не сводил глаз с двери; потом обратился к пажу:
– Ты обманулся, мой милый, – это была не она!
Лекарь, окончив перевязку его плеча, обратился к раненому арестанту со следующими двусмысленными словами:
– Хотя я не вижу еще крайней опасности, однако, если вы, граф, желаете, – можно пригласить тюремного священника.
– Понимаю, – Марильяк пристально посмотрел на него, – уж лучше священник без палача, чем оба они вместе… впрочем, результат, в сущности, один и тот же. – Потом голосом более твердым прибавил: – Я христианин и воин, священник не испугает меня. Если он возвещает смерть, то приносит с собой и прощение грехов, а я в нем нуждаюсь. Пусть он придет!
Произнеся несколько незначительных слов для его успокоения, губернатор и лекарь удалились.
Не прошло и четверти часа, как дверь опять отворилась, – это явилась Луиза. Но едва она переступила порог, как почувствовала, что силы ее оставляют; она упала бы, если бы паж ее не поддержал. Опустив глаза перед Марильяком и склонив голову, она сказала наконец, мешая слова со вздохами и слезами:
– Граф, вы спасли мне жизнь! Боже меня сохрани думать, что вы заботились тогда о преступной супруге! Вы хотели спасти ваше имя от позора. Оно останется незапятнанным, клянусь вам! Ваши благородные старания не окажутся тщетны, и, быть может, когда-нибудь я в состоянии буду объяснить вам свои поступки.
– Вы хотите отложить объяснение до другого времени, – отвечал Марильяк с горестной улыбкой, – разве вы не знаете, сударыня, что я близок к смерти?
– О, – воскликнула графиня, скрестив руки, – нет, я не буду иметь причины упрекать себя в вашей смерти! Нет, вы не умрете – у вас столь сильные и могущественные друзья, они примут в вас участие! Я была у них… они, по-видимому, тронуты моим отчаянием, и они вас любят!
– Луиза, – прервал ее граф с восторгом, – вы просили за меня… вы?! Это очень хорошо! – повторял он. – Вы явили себя графиней Марильяк хотя бы перед ними. Но теперь уже ваши молитвы надо воссылать к небу… там… там решается мой приговор! Что касается вашего преступления, то я – причина его… мои угрызения совести… Вы этого не знали? О боже мой, это мне наказание!.. Однако надо, чтобы вы знали, как я страдал!.. Сядьте у моего изголовья… не хочу умереть, не попытавшись оправдаться пред вами… я чувствую – время близко…
Вошел, важно ступая, старик в черном подряснике, благоговейно неся под складками легкой своей мантии серебряный тщательно закрытый сосуд. Это был духовник арестантов; его позвали к больному. Появления его оказалось достаточно, чтобы печальная истина вдруг открылась графине. Она упала на стул близ постели и закрыла лицо руками. При входе священника паж удалился.
– Успокойтесь, дочь моя, – священник обратил свои взоры на Луизу, – не всегда приход наш служит плохим предзнаменованием. Облегчая совесть от бремени, ее угнетающего, мы облегчаем иногда и душу, и тело, ибо угрызения совести есть также болезнь.
В то время как он готовился сказать несколько утешительных слов раненому, граф сам к нему обратился:
– Добро пожаловать, отец мой! Но время дорого, а мне много надо сказать вам.
Луиза хотела уйти, но граф протянул к ней руку.
– Останьтесь, графиня! Отец мой, не перед вами только я должен исповедаться, – позвольте и ей слушать также. Вы оба узнаете тайны моей жизни. Прошу, чтобы один из вас меня простил, а другой отпустил грехи мои!
Священник сперва, казалось, удивился такому странному предложению, но по снисходительности своей согласился смотреть на него как на доказательство христианского смирения и вместо ответа сел возле кающегося, поставив прежде на стол серебряный сосуд, заключавший в себе святые тайны, поклонясь перед ним три раза.
Марильяк начал свою исповедь. Вкратце сказал о первых заблуждениях юности, – их, говорил он, так много, что всех и не припомнить; поведал о роковых обстоятельствах, поставивших его в зависимость от Ришелье; потом, не нуждаясь более в осторожности, – об участии, которое кардинал принимал в его женитьбе.
Невольное движение Луизы помешало вниманию, с которым она слушала его рассказ.
– Я дошел до того дня, с которого открылась для меня новая жизнь, – продолжал он, обратившись к графине, – я женился на вас, Луиза, почти вас не зная. Я исторгнул у вас ту истинную страсть, которая могла бы составить ваше благополучие. Тот, у которого я вас похитил, был другом мне. Но я думал, что и он, и вы легко утешитесь, – тогда я еще не любил! Теперь вы знаете, сударыня, что железная рука кардинала тяготела над моей головой! Как думаете вы, отец мой, достаточно ли этого для моего оправдания перед Богом?
– Положение было опасно, – отвечал духовник, – не всякий выходит победителем из борьбы.
– Но я даже и не вступал в борьбу! – воскликнул граф. – Лишь из низкого корыстолюбия сокрушил я сердце моего друга!
Тут рассказал он о подробностях своей женитьбы – о секретных условиях, наложенных на него королем и им принятых. Священник перекрестился, услышав о любовных интригах благочестивого монарха. Руки Луизы уже не могли скрыть краску, разлившуюся по всему ее лицу.
– Ну что же, можете ли вы мне отпустить грехи, отец мой? – сказал Марильяк. – Можете ли вы меня простить, Луиза?
– Да, сын мой, – отвечал священник, – если только голос раскаяния раздается в вашем сердце.
– Голос, раздавшийся сначала в моем сердце, – Марильяк обращался снова к графине, – был не голос раскаяния… это был голос любви… любви, которую я чувствовал к вам, Луиза! Вижу, вы с недоумением смотрите на меня, вы удивлены, как будто от неожиданного удара. Так вы этого не знали? О боже мой, в душе вашей нет женского тщеславия. Да, клянусь вам, что никогда не было страсти сильнее и истиннее той, которой наполнено было мое сердце. Я прежде играл любовью – теперь ею же должен был загладить свое преступление! Когда вы с презрением меня отвергли, по ненависти ко мне запретили показываться вам на глаза, я, будучи любовником, мужем, скрываясь в толпе, которая дружески подходила к вам, держался вдали, стараясь уловить хоть один взгляд ваш, и считал себя счастливым, когда неясные звуки вашего голоса достигали моего слуха. Неужели не помните вы тех забот, которыми я окружил вас в хижине дровосека во время известной вам охоты… в день нашей встречи в лесу? Тех многочисленных, нечаянных по-видимому, случаев, которые я изобретал с таким трудом? Чтобы глаза мои могли встретиться с вашими, рука – прикоснуться к вашей, мне надо было скрываться… как преступнику, как человеку без религии, который старается завладеть тем, что ему не принадлежит.
Граф прекратил на время свой рассказ; дыхание его стало частым и неровным, пот струился по лицу. Луиза чувствовала глубокое душевное сострадание, присоединившееся к признательности, которой она уже обязана этому человеку, так плохо ею понятому.
Священник со своей стороны находил обстановку этой исповеди странной и, взволнованный страстными речами графа, решил отложить до другого времени продолжение этого разговора – он уже поднимался с места.
– Нет, останьтесь, отец мой, – попросил его граф, – мне надо закончить, пока еще горячка меня поддерживает и дает крови моей теплоту, которой без того она не имела бы. Если слишком живое выражение любви моей оскорбляет чистоту вашей души, то вспомните, что эта женщина – моя жена! Бог, без сомнения, будет милосерден ко мне за эту любовь, потому что только благодаря ей я стою еще чего-нибудь.
Духовник занял снова свое место, проявляя милосердие, и сказал:
– Заканчивайте, сын мой.
Марильяк скоро перешел к тому периоду своей жизни, когда угрызения совести пробудились в его сердце, после того как он увидел, что позор, заслуженный им одним, падает на графиню и грозит покрыть ее в глазах свиты незаслуженным презрением.
– Тогда, – продолжал он, – родилось во мне чувство, похожее, может быть, на добродетель! Оно очистило любовь мою, не ослабив ее. Загладить мою вину, защитить честь вашу, Луиза, спасти вас от сетей, которыми вы были окружены, и я сам вам их расставил, – такова была… цель моя.
И скажу вам, мои усилия не всегда были тщетны. Помните ли вы замок благородных герцогов Монморанси, тот Экуанский дворец, что король Франции назначил вам жилищем?
При этом напоминании графиня затрепетала.
– Я был там, сударыня, между королем и его соучастником! Я понял их намерения и, подобно исправному часовому, караулил ваше жилище, как мать – свое дитя. Завернувшись в плащ, расположившись у корня дерева, я, несмотря на то что время было ночное, не давал сомкнуться глазам своим. Приехали два всадника; я узнал их; они вошли в ваше жилище через потаенный вход, а я с помощью лестницы пробрался туда же по стене, решившись разломать дверь, если придется исторгнуть вас из объятий короля!
Священник опять перекрестился.
– Но в то время как мерзавец ла Шене ходил стражем вокруг замка, дверь комнаты оставалась полуоткрытой, и это вскоре навело меня на след его господина. Одна только перегородка отделяла меня от вас, Луиза. О, какое чувствовал я мучение, слыша ваши мольбы, на которые не обращали внимания! В порыве бешенства, помешательства схватился: даже рукой за эфес шпаги!
– Как, – вскрикнул, испугавшись, священник, – неужели для того, чтобы поразить короля?!
– Может быть, я это и сделал бы, – отвечал Марильяк, обращаясь к Луизе, – да, я решился бы это сделать! В своем ли уме был я тогда? В то время, когда я был в судорогах, едва дышал, яростный крик исторгся из моей груди. На этот крик прибежал ла Шене… и в темноте на него обрушился гнев мой. Отец мой, не довольно ли я страдал в это время, чтобы загладить свои прегрешения? Луиза, уверены ли вы теперь, что я вас любил?
Графиня упала перед ним на колени. Голос Марильяка слабел, холодная дрожь пробежала по его членам.
– Теперь, отец мой, – продолжал он, обратившись после некоторого молчания к священнику, – мне остается только обвинить себя в убийстве, за которое я здесь содержусь. Я убил человека… убил по священному закону чести; я убил его за то, что он оклеветал ту, которую сам Бог отдал под мою защиту! Убил для того, чтобы ни одна женщина не имела права отворачивать с презрением головы своей, проходя мимо графини де Марильяк! Для того чтобы ни один мужчина не имел права насмешливо улыбаться, глядя на нее! Она достойна почтения всех, отец мой! По смерти моей вы скажете, что муж ее, умирая, объявил это. Думаете ли вы, что Бог смилосердится надо мной? Луиза, вы простили меня, не правда ли?
– Грехи ваши велики, сын мой; но милосердие Божие еще больше, – произнес священник.
Марильяк, напрягши все силы, поднял Луизу, все еще стоявшую на коленях, и приблизил ее к себе, как бы желая сообщить ей последнюю свою тайну. Молодая женщина, едва держась на ногах, ослабевшая, почти лишившаяся чувств, склонилась на одр болезни.
– Слушайте меня со вниманием, Луиза де ла Порт, – заговорил он тихим голосом. – Я очень виноват перед вами… с этой стороны я должен также загладить вину свою! Чтобы упрочить благополучие вас обоих, я ничего не могу более сделать… как только умереть… Скоро вы будете свободны… и…
Но Луиза не дала ему закончить.
– Клянусь Спасителем, – громко сказала она, протянув руку свою к святым тайнам, – что графиня де Марильяк будет уважать и хранить имя, которое вы ей дали!
– Да… – сказал Марильяк, – счастье мое недолго будет продолжаться, но по крайней мере оно наступило! – И улыбка радости, сообщившая судорожное движение губам, блеснула в его почти угасших глазах. – Благословите меня, отец мой, – прибавил он, – и пусть приходит ко мне смерть… только бы скорее, пока я не стал сожалеть о жизни!
Священник возложил руки на голову раненого и произносил слова отпущения грехов. Луиза, наклонясь под благословляющую руку, казалось, хотела участвовать в прощении, нисходившем с неба. В это время комендант снова вошел в комнату в сопровождении человека высокого роста в кирасе, сапогах и шпорах. Это был ла Гудиньер, капитан стражи кардинала; молодой паж вошел вместе с ними.
При виде духовника, исполняющего святую свою обязанность, паж, капитан и комендант стали на колени, положив перед собой на пол один – свой ток, другой – каску, а последний – шапку с перьями. Все трое скрестили руки на груди и стояли с благоговением.
Когда священник произнес последние слова, ла Гудиньер встал, подошел прямо к Марильяку и со смущенным видом вручил ему депешу от кардинала-герцога. Ришелье освобождал графа от смертной казни, которой он подлежал по закону против дуэли, и осуждал его только к заключению на несколько лет в тюрьму. Выслушав приговор, Марильяк немного приподнялся и слабым голосом, в котором, однако, заметны были сарказм и веселость, сказал ла Гудиньеру:
– Капитан, засвидетельствуйте мое почтение его преосвященству. Но надо признаться, что меня всегда преследует несчастье, когда дело идет о том, чтобы повиноваться воле кардинала. Он хочет, чтобы я оставался в Бастилии, а я хочу из нее выйти… и скоро… Он приказал мне умереть перед Корбией – мне невозможно было исполнить его приказание. Сегодня он приказывает мне жить… а я умираю… – И Марильяк упал опять на постель.
Взоры его обращались то на пажа, то на Луизу; он произнес еще несколько слов, держа руку на голове пажа, обливавшегося слезами; просил жену позаботиться о нем; потом глаза графа закрылись. Через час сердце Марильяка перестало биться.
На другой день Людовик XIII и Ришелье уехали из Парижа, чтобы присоединиться к ла Мейльере под стенами Гедена; Сен-Марс уехал вместе с ними. Из этого похода, славного по своим результатам, ла Мейльере вернулся маршалом Франции; Сен-Марс – любимцем короля, Ришелье – более могущественным, чем прежде.
Заключение
Через четыре года чуть не все парижское население стеклось к деревне Сен-Дени, где улицы были обтянуты черным сукном; только на некотором расстоянии друг от друга видны были факелы из белого воска. Церковь, также в трауре, убранная мрачными гербами, возвышалась, подобно огромному катафалку, над другим катафалком. Среди многолюдного шума, среди последних звуков органа и молитв людей, находившихся в церкви, вдруг из глубины святилища послышался голос герольда, который возглашал:
– Господин обер-камергер, принесите знамя Франции! Герцог Люинь, принесите жезл правосудия! Герцог Вантадур, принесите королевский скипетр! Герцог д’Юзе, принесите королевскую корону!
И когда все принесли, то опустили, за исключением знамени, в погребальный склеп, и шестнадцать метрдотелей короля бросили туда же свои жезлы, увитые крепом. Герцог де ла Тремуйль опустил только конец своего жезла, наклонил голову и тихим голосом произнес:
– Король умер!
Тогда герольдмейстер три раза повторил:
– Король умер! Король умер! Король умер!
Потом знамя, остававшееся наклоненным, вдруг поднялось, развеваясь, и ла Тремуйль, подняв голову, молвил:
– Да здравствует король Людовик Четырнадцатый, король Франции и Наварры!
И крик «Да здравствует король!», повторяемый вельможами, народом и толпой, наполнявшей улицы и дороги, огласил своды церкви, сошел даже в погребальный склеп, возвратился оттуда, повторенный эхом, и, продолжаясь по дороге, как след вспыхнувшего пороха, раздался наконец на всех перекрестках столицы, став для парижан сигналом к увеселениям и удовольствиям.
Кардинал сошел в могилу прежде своего государя.
В любопытной и внимательной толпе народа – она стояла здесь, в Сен-Дени, чтобы посмотреть, как проходят войска, высшее духовенство, блиставшее червленью и золотом, а также члены парламента в парадных мундирах и капуцины с тяжелым деревянным крестом, увенчанным тернием, и пятьсот бедных горожан, одетых в черное, со свечами в руках, под предводительством своего начальника, – был сержант гвардии, красивый юноша с приятным веселым лицом. Держа руку в отверстии обшитого галунами камзола, а другой закручивая едва пробивающиеся светло-русые усы, он водил глазами по двойной линии народа – не увидит ли хорошеньких девушек…
Вдруг взгляд его остановился на молодой женщине, чьи болезненные, печальные черты свидетельствовали о долгих страданиях. Она опиралась на руку человека, как видно, снедаемого тайной грустью; некоторый беспорядок в костюме, растрепанные волосы, общая небрежность во всем облике помешали гвардейскому сержанту сразу узнать в нем молодого живописца, которого некогда видел он украшенным всеми дарами природы, с оживленным лицом, блестящими глазами, одетого тщательно и со вкусом. Однако, взглянув несколько раз, он все-таки того узнал, и в душе молодого воина пробудились тягостные, неприятные воспоминания. Он протиснулся сквозь толпу, подошел к художнику и ударил его дружески по плечу со словами:
– Лесюёр, неужели не узнаете вы бывшего слугу Марильяка?
При этом имени Лесюёр пришел в сильное волнение и лицо его залилось краской. Женщина, опиравшаяся на его руку, в это время отошла в сторону и стояла позади него; она мгновенно подняла голову и приложила палец к губам – гвардейский сержант тотчас понял этот знак.
– Да, я вспомнил, – отвечал Лесюёр, – вас звали Синьором, – знал только это имя.
– Антон де Песм, – представился молодой человек, – сержант гвардии! – И, подняв руку к шляпе, с гордым видом надвинул ее глубже на голову.
Немая просьба, обращенная к нему, – не произносить более имени Марильяка – его смутила: ведь для того только и подошел к Лесюёру, чтоб иметь удовольствие поговорить о бывшем своем господине. После нескольких неважных замечаний, не зная, как поддержать разговор, он спросил:
– Вы женаты?
– Нет! – В голосе художника прозвучала некоторая досада, как будто вопрос показался ему чем-то неудобным.
Бросив взор на свою спутницу, которая стояла опустив голову, быть может, из-за дополнительной внутренней боли, он прибавил:
– Нет еще!
Эти два коротких слова как будто несколько ободрили ту, что стояла рядом. Вскоре Антон де Песм, сержант гвардии, пожав руку живописцу, удалился. Лесюёр, продолжая поддерживать молодую женщину, вернулся в новое свое жилище, совсем близко от Сен-Дени.
Судьба этой женщины оказалась на будущее связана с его судьбой; она оставила все и поселилась у него, чтобы заботиться о нем, помогать при душевных и телесных болезнях; любила его сначала из благодарности; когда он путешествовал в Дофине, скупала его картины, смотрела за мастерской, поддерживала блеск оружия, чтобы сделать ему сюрприз по возвращении. Но об этом молчала; скажем еще более: из высокой человеческой привязанности она сделалась его поверенной и способствовала в любви, в то время как сама питала к нему неизлечимую страсть. Случилось с ним последнее несчастье, и тогда она поселилась у него, чтобы заботиться о нем, жалеть и утешать. В течение четырех лет была его служанкой, сестрой, другом. Теперь Жанна смела уже надеяться получить титул повыше; но была слаба – почти при смерти: от наследственной грудной болезни и мать ее умерла в молодости. В ее надежде и желании заключалось одно лишь честолюбие – иметь эпитафию со словами: «…жена Евстахия Лесюёра».
Художник все еще не соглашался; но время не терпело. Как и для Марильяка, женитьба для Лесюёра могла теперь быть делом только такой формы: тот искал в ней рычаги, чтобы подняться до богатства и почестей, этот видел средство отблагодарить, отплатить за столь продолжительную привязанность женщины. Любимый благородного происхождения особой – графиней, блистательной любимицей короля, – дал он имя свое бедной девушке. Имя это Жанна получила на смертном одре и носила его всего один день.
Четыре года воспоминания о Луизе не покидали художника ни на минуту. Но Луиза в это время была уже монахиней в Благовещенском монастыре. Она жила там, стараясь покориться воле Провидения, по примеру добродетельной ла Файетт, и дни ее проходили в молитве перед образом Богородицы, помещенным в часовне.
Закрыв глаза Жанне, Евстахий Лесюёр, как известно, вступил в орден картезианцев, где и умер еще в молодости. Здесь-то он и оставил знаменитую свою галерею Сенсо-Брюно. В длинном ряду признанных образцом произведений так часто встречаются и прелестные черты, и простодушное, чистое выражение лица – они против воли то и дело повторялись под его кистью. Вот юная дева стоит на коленях перед алтарем; молодой свеченосец, с поникшей головой, держит факел; ангел нисходит с небес, чтобы приветствовать святого человека… Все они, все трое, имеют лицо Луизы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.