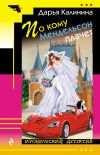Текст книги "Моя борьба. Книга третья. Детство"

Автор книги: Карл Уве Кнаусгор
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Он купил пакетик леденцового драже и пакетик английских карамелек в шоколадной глазури. Карамельки в шоколадной глазури были самые вкусные конфеты, какие я только знал, но и леденцовое драже – тоже ничего. Как всегда, пакетики лежали перед ним на журнальном столе. Время от времени он кидал конфету мне и Ингве. Так было и сегодня. Но я их не ел, оставлял нетронутыми на столе. В конце концов он не выдержал.
– Ешь свои конфеты! – сказал он.
– Мне не хочется, – ответил я.
Он поднялся:
– Ну-ка, ешь свои конфеты!
– Нет, – сказал я, и у меня снова полились слезы. – Не хочу. Не хочу и не буду.
– ЕШЬ сейчас же! – приказал он, схватил меня за плечо и стиснул.
– Я не хочу есть… конфеты, – выговорил я сквозь слезы.
Он обхватил рукой мой затылок и пригнул мне голову так, что я чуть не ткнулся носом об стол.
– Вот они лежат, – сказал он. – Видишь? Ты должен это съесть. Ешь!
– Да, – сказал я, и он отпустил мою голову. Он стоял надо мной и ждал, пока я не вынул из пакета драже в шоколаде и не положил его в рот.
* * *
На следующий день мы поехали в Кристиансанн к бабушке и дедушке. В то время мы часто ездили к ним в те воскресенья, когда «Старт» проводил игру на своем стадионе. Сначала мы у них обедали, а затем папа, дедушка и Ингве уходили смотреть игру, иногда с ними шла мама, а я, тогда еще слишком маленький, оставался с бабушкой.
И мама, и папа по этому случаю принарядились. На папе была белая рубашка, пиджак из коричневого твида с коричневыми накладками на локтях и светло-коричневые хлопчатобумажные брюки, на маме – голубое платье. Мы с Ингве были одеты в рубашки и вельветовые штаны, Ингве – в коричневые, я – в синие.
Небо, хотя и затянутое пеленой облаков, дождя не предвещало. Асфальт был сухой и синевато-серый, а стволы сосен над жилыми домами высились неподвижно, ярко рыжея сухими стволами.
Мы с Ингве залезли на заднее сиденье, папа и мама устроились на передних. Прежде чем запустить мотор, папа закурил сигарету. Я сидел у него за спиной, так что он не мог видеть меня в зеркале, когда я сидел прямо, а только если я наклонюсь в сторону. Когда выехали на перекресток внизу по дороге к мосту, я сложил ладони и мысленно воззвал к Богу: «Боженька милостивый, сделай так, чтобы мы не попали в аварию. Аминь».
Я всегда молился, когда мы ехали куда-нибудь далеко, потому что папа гнал так, что всегда превышал скорость и постоянно обгонял на дороге другие машины. Мама говорила, что он – хороший водитель, так оно и было, но каждый раз, как автомобиль набирал скорость и мы пересекали белую линию, меня обуревал страх.
Скорость и злость были неотделимы одна от другой. Мама водила осторожно, была внимательна, никогда не раздражалась, что машина перед ней еле тащится, а спокойно ехала следом за другими машинами. Такой же она была и дома. Никогда не злилась, всегда находила время, чтобы помочь, не сердилась за разбитую посуду – что поделаешь, бывает! – она любила беседовать с нами, детьми, с интересом слушала наши рассказы, угощала нас необязательными вещами, такими как вафли, булочки, какао, домашний хлеб, в то время как папа, напротив, старался очистить нашу жизнь от всего необязательного: пищу принимают, потому что это необходимо, и время, отведенное на еду, ни для чего больше не предназначено; если мы садились смотреть телевизор, то следовало только смотреть, а не болтать и не отвлекаться на что-то другое; в саду надлежало ходить только по выложенным каменными плитами дорожкам, которые специально для этого и устроены, между тем как по газону, большому и такому заманчивому, не полагалось ни ходить, ни бегать, не говоря уже о том, чтобы на нем полежать. Следуя этой же логике, на день рождения к нам с Ингве никогда не приглашали детей: в этом не было необходимости, довольно было того, что после обеда на столе появлялся торт. Этим же объяснялся запрет приводить домой друзей: зачем играть в помещении, где от нас только лишний шум и гам, если можно бегать на улице? Какую-то роль, вероятно, играло и то, что дети потом могли рассказывать дома, как мы живем, что, в сущности, отвечало все той же логике. По сути, ею объяснялось все. Нам не разрешалось прикасаться ни к каким папиным инструментам, будь то молоток, отвертка, клещи или пила, лопата для снега или метла, не разрешалось также готовить еду на кухне, даже самому отрезать кусок хлеба, включать телевизор или радио. Если нам разрешить, то все вещи будут валяться где попало, а так всюду царил порядок, все вещи лежали на своих местах, и если ими пользовались он сам или мама, то они употреблялись сообразно их назначению, согласно установленным правилам. То же самое и с вождением машины: он стремился попасть из пункта «А» в пункт «Б» как можно скорее, встретив на пути как можно меньше препятствий. В данном случае этими пунктами были Трумёйя и Кристиансанн – родной город, где прошло детство этого тридцатилетнего учителя средней ступени.
* * *
Никогда время не летит так быстро, как в детстве, никогда час не бывает так короток. Все открыто перед тобой. Мир распахнут перед тобой, ты бежишь то сюда, то туда, делаешь то одно, то другое, и вдруг солнце уже село, поглядишь – вокруг стоят сумерки и время уже опустило шлагбаум: ой, никак уже девять часов? Но и так медленно, как в детстве, время никогда не тянется, никогда час не длится так долго. Если открытое пространство закрывается, если исчезает возможность бегать то туда, то сюда, в действительности или в воображении, шлагбаумом становится каждая минута, а время – тесной клеткой, в которой ты заключен. Что может быть тяжелей для ребенка, чем целый час сидеть в автомобиле, едущем по дороге, которую ты знаешь наизусть, направляясь куда-то, где тебя ждет что-то хорошее и желанное? В полном дыма салоне, потому что оба родителя курят, с отцом, который кипит от раздражения каждый раз, как ты, меняя позу, нечаянно ткнешься коленкой в переднее сиденье?
Ах, как же медленно тянулось время! Как долго ждать, пока за окном покажутся знакомые приметы. Сначала крутой подъем от центра Арендала через жилые кварталы к мосту на Хисёйю, потом мимо залива вдоль всего острова, мимо коккепласенского нервного санатория, в котором работает мама, затем под горку мимо магазинов, по мосту через реку Нидэльв и далее по бесконечной равнине с домами, лесами и полями до самого Неденеса. Еще и Февик не проехали! А оттуда еще ехать и ехать до Гримстада, а уж сколько потом от Гримстада до Лиллесанна, а от Лиллесанна до Тименеса, а от Тименеса до моста Вароддбру и от Вароддбру до Лунда, это и говорить нечего…
Мы молча ехали на заднем сиденье, глядя на меняющуюся местность, по которой вилась дорога. Мелькнул за окном залив со шхерами и маленькими островками, затем мы нырнули в густой лес, потом пошли речки и речные долины, жилые поселки и промышленные районы, крестьянские усадьбы и луга – все такое знакомое, что ты уже заранее знаешь, что покажется впереди. Только проезжая мимо зоопарка, мы пробудились из полусонного состояния, потому что тут в любую минуту за высокой железной сеткой могло показаться то или иное животное – бесплатный аттракцион! Но вот длинная ограда осталась позади, и мы снова погрузились в полудрему. Час неподвижного сидения в машине, целый нескончаемый час, прежде чем вокруг начал принимать форму город и центр тяжести между бесконечной ездой и долгожданной встречей с дедушкой и бабушкой наконец сдвинулся. Въехать в город означало вернуться в живой поток времени, стрелки часов снова приходили в движение, вон магазин «Оазис», под ним живет двоюродный брат и двоюродная сестра, Юн Улаф и Анн Кристин, дети маминой сестры Хьеллауг и ее мужа Магне, а вот и каштановые деревья вдоль дороги, высокие облупленные каменные дома у обочины, вон аптека, продуктовый магазинчик «Рюндинг», вот и перекресток со светофором, дальше – музыкальный магазин, белые деревянные домики, узкая дорога и вдруг слева – желтенький дом бабушки и дедушки.
Папа немного проехал мимо дома вниз по склону, затем сдал назад и въехал в проулок напротив, – только так можно было заехать во двор.
В кухонном окне показалось бабушкино лицо. Когда мы вышли из автомобиля, поставленного впритык к кованой, покрытой лаком гаражной двери, и поднялись на покрашенное красной краской каменное крыльцо, навстречу нам на порог вышла бабушка.
– А вот и вы! – сказала она. – Заходите!
Мы зашли в прихожую.
– Ну, мальчики, как же я по вас соскучилась!
Она крепко обняла и расцеловала Ингве, покачиваясь с ним взад-вперед. Он отворачивал лицо, но видно было, что ему приятно. Затем она и меня так же обняла и покачала. Я тоже немного отворачивал лицо, но мне тоже сделалось приятно. Щека у нее была теплая, и от нее хорошо пахло.
– А мы, кажется, видели в зоопарке волка, – сказал я, когда она разжала объятия.
– Подумать только! – сказала она и, засмеявшись, потрепала его по волосам.
– Не было этого, – сказал Ингве. – Карл Уве все выдумывает.
– Было – не было, – сказала она, потрепав и его. – А все равно ведь хорошо, мальчики!
Сняв куртки, мы повесили их в прихожей, где была для этого открытая ниша с вешалками, и, пройдя по синему ковролину, ступили на лестницу. На втором этаже справа располагалась гостиная, слева – кухня. Гостиной пользовались только по торжественным случаям, например на Рождество. У торцовой стены стояло пианино, на нем красовались три фотографии сыновей в студенческих фуражках, над ними висели две картины. У продольной стены стояли три невысоких темных шкафа со стеклянными дверцами, сверху на них были выставлены привезенные из поездок сувениры, среди прочего – светящаяся гондола и чайник из коричневого с золотом стекла с длиннющим носиком, усеянный, по моим представлениям, алмазами и рубинами. В глубине комнаты стояло два черных кожаных дивана, между ними – расписанный розами угловой шкаф, перед ним – низенький столик. Из больших окон открывался вид на реку и город на высоком противоположном берегу. Но во время обычных посещений, вроде нынешнего приезда, мы туда не заходили, а шли налево в кухню, за ней находились еще две комнаты, нижняя из которых соединялась с гостиной раздвижной дверью, выходившей на маленькую лесенку. Половину стены в ней занимало широкое окно, в которое виден был сад, за ним – широкое устье реки и высившийся далеко на горизонте белый Гроннингенский маяк.
Там хорошо пахло, и не только из кухни, где бабушка готовила котлеты с коричневым соусом, которые у нее получались вкуснее, чем у кого бы то ни было еще, но и тем, что составляло как бы постоянную основу всех остальных запахов, – они на него накладывались: запах этот, сладковатый и как будто фруктовый, мне всегда напоминал их дом, стоило уловить его где-то еще, например, когда бабушка с дедушкой приезжали к нам в гости, потому что они приносили его с собой, им была пропитана их одежда, и я сразу же чуял его, едва они входили в нашу прихожую.
– Ну как? – спросил дедушка, когда мы вошли в кухню. – Пробки на дороге были?
Он сидел на своем стуле, немного расставив ноги, одетый в серую вязаную кофту поверх голубой рубашки. Его живот нависал над темно-серыми брюками. Темные волосы были зачесаны назад, и только одна прядь падала на лоб. Изо рта торчала недокуренная сигарета.
– Нет, доехали легко.
– Угадал вчера футбольное лото? – спросил дедушка.
– Да не очень, – сказал папа. – Максимум семь игр.
– А я две десятки, – сказал дедушка.
– Неплохо, – сказал папа.
– Я погорел на седьмой и на одиннадцатой игре, – сказал дедушка. – С последней особенно обидно вышло. Гол забили, когда матч уже кончился!
– Да, – сказал папа, – я ее тоже не отметил.
– Слыхали, что сегодня один ученик сказал Эрлингу? – спросила стоявшая у плиты бабушка.
– И что же? – спросил папа.
– Входит он утром в класс, а один ученик его и спрашивает: «Вы что, никак выиграли в футбольное лото?» – «Нет, – говорит Эрлинг. – А почему ты спрашиваешь?» – «У вас такой радостный вид», – сказал ученик.
Бабушка засмеялась:
– У вас такой радостный вид, говорит.
Папа улыбнулся.
– Хотите кофе? – спросила бабушка.
– Да, спасибо, – сказала мама.
– Устроимся тогда внизу в гостиной, – сказала бабушка.
– Можно мы возьмем наверху комиксы? – спросил Ингве.
– Идите и берите, – сказала бабушка. – Только не перерывайте там все!
– Не перероем, – сказал Ингве.
Осторожно ступая – в этом доме тоже не разрешалось носиться, – мы вышли в прихожую и поднялись по лестнице на третий этаж. Кроме бабушкиной и дедушкиной спальни, там был еще и чердак, а на нем вдоль стены выстроились коробки со старыми комиксами, сохранившиеся еще с тех пор, как папа был маленьким, – с пятидесятых годов. Было там и всякое другое. Среди прочего, например, аппарат для глажки скатертей и постельного белья, старая швейная машинка, разные старинные игрушки, например жестяная юла и какая-то штука вроде робота из того же материала.
Но нас манили комиксы. Домой их нам не давали, разрешали читать только здесь, и мы иногда проводили за этим занятием все время у бабушки с дедушкой. Захватив каждый по пачке, мы вернулись вниз, уселись и не отрывались от чтения, пока на столе не появилась еда и бабушка не позвала нас обедать.
После обеда бабушка мыла посуду, мама вытирала, а папа стоял перед окном в гостиной и смотрел вдаль. Затем вошла бабушка и пригласила его выйти с ней в сад, она, дескать, хочет что-то ему показать. Мама и дедушка сидели за столом, иногда переговаривались, но больше молчали. Я пошел в туалет. Он был внизу, на первом этаже, я не любил туда заходить и терпел, пока мог, но больше откладывать было уже нельзя. Я вышел из комнаты, спустился по скрипучим деревянным ступеням, торопливо пробежал по ковролину через прихожую, проскочил мимо трех пустых комнат, притаившихся за закрытыми дверьми, и шмыгнул в туалет. Там было темно. Несколько секунд, которые потребовались, чтобы зажечь свет, я внутренне трясся от страха. Но страх не прошел, даже когда загорелся свет. Мочиться я старался по краю унитаза, чтобы плеск стоящей внизу воды не помешал услышать, если вдруг раздастся еще какой-нибудь звук. Руки я помыл еще перед тем, как спустить воду, потому что, едва нажав на рычаг, надо было бегом удирать от рычащего бачка и труб: они выли так жутко, что рядом находиться было невозможно. Секунду я постоял, держа ладонь на круглом черном шарике, приготовился и нажал, затем рысцой проскочил прихожую, тоже страшную, потому что в ней каждый предмет словно испускал какие-то волны, и ступил на лестницу. Бежать по ней я, разумеется, не смел, но, поднимаясь по ступенькам, все время, пока не очутился на кухне, ощущал спиной, что за мной кто-то гонится, и только наверху, в присутствии людей, это неприятное чувство прошло.
В окно, выходящее в переулок, я видел, как все больше людей устремлялось из города к стадиону, туда же засобирались мама, папа и Ингве. Дедушка всегда ездил туда на велосипеде, поэтому он отправлялся из дома спустя некоторое время после их ухода. Он вышел в сером пальто, рыжем шарфе, серой кепке и черных перчатках, – я видел в окно, как он спускался с велосипедом под гору. Бабушка достала из морозильника и выложила на рабочий стол булочки, чтобы подать их, когда все вернутся.
Она заговорщицки посмотрела на меня:
– А у меня кое-что для тебя есть.
– А что?
– Погоди, увидишь, – сказала она. – Закрой-ка глаза!
Я закрыл глаза и услышал, как она роется в ящиках, как затем подходит.
– Можешь открыть глаза, – разрешила бабушка.
Это была шоколадка. Треугольная, редкостная, самая вкусная.
– Это мне? – сказал я. – Вся целиком?
– Тебе, – сказала она.
– А для Ингве есть?
– Нет, на этот раз нету. Зато он будет на футболе. Надо же и тебя чем-то побаловать!
– Ой, спасибо большое, – сказал я и разорвал картонную упаковку, из-под которой блеснула фольга.
– Смотри не проговорись Ингве, – подмигнула мне бабушка. – Это наш с тобой секрет.
Я принялся за шоколадку, а она села решать кроссворд.
– А нам скоро поставят телефон, – сообщил я.
– Да ну? – обрадовалась она. – Тогда мы сможем с тобой разговаривать.
– Да, – сказал я. – Вообще наша очередь была еще далеко, а нам поставят, потому что папа у нас политик.
– Политик! – засмеялась она.
– Ну да, – сказал я. – А разве нет?
– Конечно же, да! Как же иначе! Ну, а как тебе в школе? Нравится? – спросила она.
Я кивнул:
– Очень.
– Ну, а что же там самое интересное?
– Перемены, – сказал я, зная, что это ее рассмешит или хотя бы вызовет улыбку.
Я доел шоколадку и, видя, что она снова углубилась в кроссворд, пошел на чердак и достал там парочку настольных игр.
Через некоторое время она подняла голову и спросила, как я смотрю на то, чтобы и нам пойти посмотреть футбол? Я, конечно же, хотел. Мы оделись, она вывела из гаража велосипед, усадила меня на багажник, забралась на седло и, уже одной ногой на педали, спросила, прежде чем оттолкнуться:
– Готов?
– Да, – сказал я.
– Держись покрепче, поехали!
Я обхватил ее обеими руками, она оттолкнулась, опустила другую ногу на педаль, съехала вниз по склону, свернула направо, и мы покатили вперед.
– Тебе удобно? – спросила она.
Я кивнул, затем сообразил, что ей меня не видно, и сказал:
– Да, очень хорошо и удобно.
Так оно и было. Мне нравилось ехать на велосипеде, крепко держась за нее обеими руками. Бабушка единственная из всех трогала нас с Ингве руками, обнимала и гладила по плечу. Она же, единственная из всех, играла с нами. На Рождество и папа иногда садился с нами играть, но только в то, во что хотелось ему самому; мы играли с ним в «Мастер-майнд», в шахматы, в китайские шашки, в покер на костях, в «восьмерки» или в покер на спичках. Мама тоже играла с нами в настольные игры, но чаще мы с ней что-нибудь мастерили, либо дома на кухне, либо в мастерской санатория «Коккеплассен», – это было интересно, но все же не так, как с бабушкой, которая охотно соглашалась заниматься тем, чем хотим мы, с интересом наблюдала за химическими опытами, которые показывал Ингве с помощью набора «Юный химик», или помогала мне складывать пазлы.
Колеса крутились все медленнее и медленнее и наконец почти совсем остановились, бабушка соскочила с велосипеда и повела его вверх по склону.
– Можешь не слезать, сиди, пожалуйста, если хочешь, – сказала она.
Я остался сидеть и разглядывал город, в то время как бабушка, немного запыхавшись, катила велосипед. Когда мы поднялись на вершину, она снова села, остаток дороги до стадиона шел вниз по пологому спуску. Оттуда внезапно донесся могучий протяжный стон, похожий на вздох громадного зверя, затем раздались аплодисменты. Мало найдется звуков, которые бы действовали так возбуждающе, как этот. Бабушка подъехала к одному из узких концов стадиона, прислонила велосипед к глухой деревянной загородке и, поставив меня на багажник, подержала несколько минут, чтобы я мог заглянуть на поле и увидеть, что там делается. Поле тянулось далеко, я не уловил всех деталей, кроме желтых и белых маек, выделявшихся на фоне зеленой травы и чернеющей и колышущейся огромной человеческой толпы вокруг, но общее настроение я ухватил, оно так и хлынуло мне навстречу, я потом упивался им еще много дней.
Вернувшись домой, она принялась готовить еду, чтобы накормить нас перед отъездом, и уже скоро внизу в прихожей открылась дверь, это пришел дедушка, лицо у него было такое недовольное, что бабушка спросила:
– Проиграли, что ли?
Дедушка кивнул, уселся на свое место, она налила ему кофе. Я никогда так и не уяснил себе, каков на самом деле расклад сил между дедушкой и бабушкой. С одной стороны, она всегда подавала ему еду, готовила, мыла посуду и делала всю остальную работу по дому, но в то же время часто сердилась и выказывала раздражение, иногда ругала деда и высмеивала, причем довольно обидно и резко, между тем как он больше отмалчивался и не отвечал ей тем же. Потому что ему это не требовалось? Потому что все, что бы она ни сказала, не задевало его всерьез? Или потому, что он не смел? Когда такое происходило при нас с Ингве, бабушка нам подмигивала, как бы показывая, что все не так страшно, или же, наоборот, использовала нас, заявляя, например, что «наш дедушка даже лампочку вкрутить по-человечески не умеет», а дедушка мог иногда выразительно посмотреть на нас и с усмешкой покачать головой. Никаких других проявлений близости, кроме вербальных или того, как бабушка ему прислуживала за столом, я между ними никогда не наблюдал.
– Ну и как? Говорят, они проиграли? – снова спросила бабушка через десять минут, когда по лестнице поднялись мама, папа и Ингве.
– Так и есть, – сказал папа. – Но, как говорится, «все проиграв – побеждаешь, все потеряв – обретаешь»[4]4
Цитата из драмы Генрика Ибсена «Бранд», перевод А. и П. Ганзен.
[Закрыть]. – А ты что скажешь, отец?
Дедушка буркнул что-то невнятное.
На прощание нам было вручено два пакета – один со сливами, другой с грушами, вдобавок к пакету с булочками. Дедушка попрощался с нами наверху, он не пожелал покидать свое кресло, в то время как бабушка, проводив нас по лестнице, от души обняла обоих, вышла на крыльцо и махала нам вслед, пока мы не скрылись из вида.
Как ни странно, обратно мы всегда добирались быстрее. Я любил ночную езду – свечение приборной доски, приглушенные голоса, доносящиеся с передних сидений, мерцание встречных фонарей, накатывающее волнами, как прибой, и сменяющееся длинными отрезками пути в темноте, где не было ничего, кроме асфальта и обрывков ландшафта, вырванных фарами из темноты на поворотах. То это кроны деревьев, то торчащая скала, то вдруг морской залив. Особенное удовольствие представляло собой ночное возвращение домой, звуки шагов на крыльце, громкое хлопанье автомобильной дверцы, звон ключей, загоревшийся в прихожей свет, открывающий твоему взору давно знакомые предметы. Дырочки для шнурков на ботинках точно глаза, язычок – лоб, холодные взгляды белых розеток над плинтусом, вешалка в углу, словно отвернувшаяся от нас. А в комнате – карандаши и ручки, сгрудившиеся в подставке, будто школьники-подростки, один какой-нибудь независимо выглядывает через край, как через забор, готовый в следующий миг плюнуть оттуда, демонстрируя, до какой ему степени всё и вся до лампочки. Одеяло и подушка на кровати либо лежат аккуратно расправленные, что, кажется, к ним и не прикоснись, похожие на саркофаг или капсулу в космическом корабле, либо хранящие след моего тела, только и ждущие, чтобы кто-то помог им переменить положение, потому что сами об этом попросить не могут. Неподвижный взгляд лампочки. Открытый рот замочной скважины, два винтика на металлической накладке – глаза, а ручка – длинный кривой нос.
Я почистил зубы, громко пожелал маме и папе спокойной ночи и лег в кровать, собираясь почитать полчаса. У меня было две любимые книжки, которые я иногда пытался надолго отложить, чтобы затем прочитать как в первый раз, но, не утерпев, сам же нарушал свой зарок. Одна была «Доктор Дулиттл», про врача, который понимал язык животных: однажды он отправился к ним в Африку, сначала его поймали готтентоты; побывав у них в плену, он наконец нашел то, что искал, – удивительного зверя о двух головах, одна сзади, другая спереди. Вторая книга называлась «Фрези Фантастика»[5]5
Норвежское название сказочной повести, написанной австралийским писателем и поэтом Рональдом Макквиром в 1972 г. Переведенная на норвежский в 1975 г., она получила огромную популярность в стране.
[Закрыть] – о девочке, умевшей танцевать на струях фонтана; после множества приключений она стала танцевать на фонтане, который выпускал из своего дыхала большой-пребольшой кит. Но в этот вечер я достал из стопки другую книжку – «Маленькую колдунью»[6]6
Имеется в виду сказочная повесть немецкого писателя Отфрида Пройслера 1957 г.
[Закрыть], про ведьму, которая была слишком мала, чтобы ее пустили на шабаш на Блоксберге, но она все равно туда пробралась. Она делала много такого, что ей запрещалось, например, колдовала по воскресеньям, читать об этом было невыносимо, ведь когда-нибудь она попадется. И она действительно попалась, но все кончилось хорошо. Я начал читать, но эта история была мне давно знакома, и я стал смотреть картинки. Пролистав книжку, я погасил свет, лег на подушку и закрыл глаза.
Я уже засыпал, а может быть, даже заснул, как вдруг очнулся у себя на кровати, разбуженный звонком в дверь.
Динь-дон.
Кто это мог быть? К нам никто никогда не звонил, кроме тех случаев, когда мы ждали гостей, причем в девяти случаях из десяти это были бабушка с дедушкой или разве что изредка какой-нибудь коммивояжер или кто-то из товарищей Ингве. Но никто из них не стал бы звонить в дверь так поздно.
Я сел на кровати. Услышал, как прошла по коридору мама и спустилась по лестнице. Снизу донеслись тихие голоса. Она вернулась наверх, обменялась несколькими словами с папой, которых я не расслышал, снова спустилась и, должно быть, оделась, потому что вскоре хлопнула входная дверь, а затем во дворе заработал мотор ее машины.
Что случилось? Куда это она в такое время? Ведь уже десять часов!
Через несколько минут по лестнице спустился и папа. Но он не вышел на улицу, а прошел в свой кабинет. Услышав это, я встал, осторожно открыл дверь и прошмыгнул через коридор в комнату Ингве.
Ингве читал, лежа на кровати. Он даже не раздевался. При виде меня он улыбнулся и поднялся с подушки.
– Что это ты бегаешь в одних трусах? – спросил он.
– Кто там сейчас звонил?
– Кажется, фру Густавсен, – сказал он. – Со всеми детьми.
– Так поздно? Почему? И зачем уехала мама? Куда это она?
Ингве пожал плечами:
– Она, кажется, поехала отвезти их к каким-то родственникам.
– А почему?
– Густавсен напился. Разве ты не слышал, как он орал на них?
Я мотнул головой:
– Я спал. И Лейф Туре тоже приходил? И Ролф?
Ингве кивнул.
– Вот черт!
– Папа, наверное, скоро вернется наверх, – сказал Ингве. – Лучше бы ты шел к себе и лег в кровать. Я тоже сейчас лягу.
– Окей. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Вернувшись к себе в комнату, я отодвинул занавеску и посмотрел на дом Густавсенов. И не увидел там ничего необычного. По крайней мере, во дворе все было тихо.
Господин Густавсен напивался не в первый раз, всем это было известно. Как-то весной пронесся слух, что он напился, и мы, собравшись втроем или вчетвером, потихоньку залезли к ним в сад и заглянули в окно гостиной. Но ничего особенного не обнаружили. Он просто сидел неподвижно на диване, глядя перед собой в пространство. Несколько раз мы слышали, как он орет и скандалит – дома при открытых окнах и на лужайке. Лейф Туре только смеялся над ним. А тут, значит, что-то другое? Потому что бегать они от него еще никогда не бегали.
* * *
В следующий раз я проснулся уже утром. Услышал, что в ванной кто-то есть, вероятно Ингве, а с дороги, из-за высокой трехметровой стены, которая защищала от сырости осушенный газон Густавсена, доносилось урчание маминой машины. Сегодня ей надо с раннего утра на работу. Ингве закрыл дверь ванной, зашел ненадолго в свою комнату, тут же вышел и спустился по лестнице.
Велосипед!
Куда он задевал велосипед?
Я совсем забыл спросить его об этом.
Из-за этого он, наверное, так рано уходит. Он остался без велосипеда и пошел в школу пешком.
Я встал, взял одежду и пошел в ванную, умылся водой, которую оставил мне Ингве, оделся и вышел на кухню, где меня уже ждали на тарелке приготовленные папой три бутерброда и стакан молока. Картонка с молоком, хлеб и продукты для бутербродов со стола были убраны. Сам он сидел в гостиной, слушал радио и курил.
На улице шел дождь прямыми ровными струями, иногда их подхватывал порыв ветра и кидал в окна, тогда казалось, что чьи-то маленькие пальцы барабанят в стекло.
* * *
Понедельник был единственный день, когда дома меня никто не встречал. Поэтому мне выдавали ключ на тесемке, который я носил на шее. Но с ним у меня возникали проблемы, у меня он отказывался отпирать замок. В первый же понедельник, когда я под дождем вернулся из школы и гордый собой, радуясь предстоящему приключению, с ключом в руке взбежал на крыльцо, я вставил его в замок, а повернуть не смог. Как я ни старался, у меня ничего не получалось. Ключ прочно застрял в замке. Через десять минут я расплакался. Руки озябли и покраснели, дождь лил как из ведра, все другие ребята давно уже были дома. И тут показалась жившая по соседству женщина, я толком не знал ее – она была уже старая, они с мужем жили в самом верхнем доме, на опушке леса рядом с футбольной площадкой. Она шла по улице, и я, увидев ее, не раздумывая бросился к ней. Весь заплаканный, я спросил ее, не может ли она помочь мне с замком. Она согласилась. Для нее это оказалось проще простого. Немножко потыкав ключом, она повернула его – раз, и дверь открылась. Я сказал спасибо и вошел в дом. Тут я понял, что дело было не в ключе, а во мне самом. В следующий раз дождя не было, и я просто положил ранец на крыльце, а сам побежал к Гейру. Вернувшись домой, папа высказался по поводу ранца, что не дело ему тут валяться, поэтому в следующий понедельник, когда опять стояла сухая погода, я просто унес его с собой, а после сказал, что ходил к Гейру учить вместе уроки, так что ранец был мне нужен.
Тем временем я придумал способ, как мне поступить, когда ближе к зиме погода испортится и будет как сегодня. В котельной у нас было выходящее на лужайку оконце, скорее даже форточка, совсем узкая, как раз чтобы мне протиснуться. Оно находилось на полметра выше моей головы. И вот я придумал с утра открывать это окошко. Риск при этом был невелик, даже если открыть оба шпингалета, – створка очень плотно прилегала к раме. Вернувшись домой, я смог подтащить к окну мусорный бак, залезть на него, открыть окно и забраться в дом, отпереть дверь изнутри, убрать мусорный бак на место, закрыть окно, и тогда никто не узнает, что я не сумел справиться с ключом. Единственная опасность подстерегала в тот момент, когда я буду открывать окошко. Но в дождливую погоду зайти в котельную было только естественно, непромокаемый костюм висел, как правило, там, и открыть шпингалеты ничего не стоило – никому же в голову не придет проверять, подходил ли я к окну. И конечно же, я не такой дурак, чтобы делать это, когда рядом в прихожей папа.
Я съел свои три бутерброда и выпил молоко. Почистил в ванной зубы, забрал из комнаты ранец, спустился по лестнице и зашел в теплый чулан за двумя бойлерами. Несколько секунд постоял, замерев и прислушиваясь. Убедившись, что на лестнице не слышно шагов, потянулся и открыл шпингалеты. Затем оделся в непромокаемое, закинул за плечи ранец, вышел в прихожую, где стояли сапоги – пара бело-синих «викингов», которые мне купили, хотя я хотел просто белые, крикнул папе «Пока!» и побежал за Гейром. Он высунулся в окно и крикнул, что еще только завтракает, но скоро выйдет.
Я подошел к одной из серых луж у них на дворе и стал кидать в нее камешки. Их двор не был посыпан гравием, как у большинства домов в нашем поселке, не было на нем и каменной плитки, как у Густавсена, а просто утоптанная рыжая земля, пестревшая мелкими круглыми камешками. Но разница заключалась не только в этом. За домом у них была не лужайка, а вскопанные грядки, на которых росла картошка, морковь, кольраби, редиска и еще разные овощи. Со стороны леса у них не было деревянного забора, как у нас, или металлической сетки, как у многих других, а была сложенная из камней ограда, которую Престбакму ставил сам. И в мусор они выбрасывали не все, как мы, а хранили, например, картонки из-под молока и коробки из-под яиц, у них это шло в дело на разные нужды, а пищевые отходы они сливали в компостную кучу возле каменной ограды.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?