Текст книги "Рулетенбург"
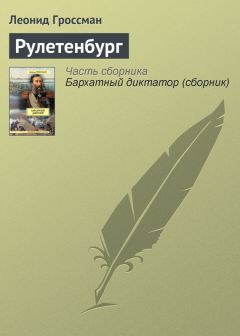
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
К началу 1849 года вокруг Спешнева собрался небольшой круг лиц, разочаровавшихся в Петрашевском. Меня все более влекло к этому русскому баричу, отдающему все свои познания и таланты на службу восстающему плебсу.
– В вас есть горячность, решимость и самоотверженность настоящего революционера, – говорил он мне как-то, – не останавливайтесь же на полпути. В революции нужно быть всегда на самом крайнем фланге, – только этим победишь. Оставьте вашу патриархальную мораль и всю эту слащавую филантропию, – только опасным идеям стоит служить…
В то время его занимал центральный республиканский клуб, организованный в Париже Бланки на принципе самой строгой дисциплины, с допущением лишь немногих афильированных лиц. Спешнев говорил со мной о такой же организации в Петербурге, но только в виде секретного сообщества. Он выдвигал в первую очередь необходимость устройства тайной типографии для широкого распространения наших идей и вернейшей подготовки будущего взрыва. Он поручал мне афильировать к нашему тайному союзу новых членов, впрочем, не более пяти лиц, по строжайшему соображению и самой тщательной проверке. План был всесторонне обдуман и взвешен мною. Я решил приобщить к нашему тайному объединению нескольких ученых, писателей, стихотворцев, – ведь великий астроном и знаменитый поэт возглавляли революционное правительство в Париже. Я думал о моем друге Аполлоне Майкове…
Спешнев не возражал.
– Только помните, – прибавил он, – мы должны не только строить новое общество, но прежде всего бороться со старым. Из опасных идей приобщайтесь к опаснейшей, объединяйте и двигайте обнищавшие массы к захвату власти, к победе над всеми благоденствующими и властвующими в этом дряхлом и все еще живучем феодальном мире. Я читал в одной вашей повести прекрасное описание петербургской окраины – ветхие избенки вместо богатых домов, колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, кроваво-красные, с длинными трубами, – и все вокруг них безлюдно и пусто, угрюмо и неприязненно. Вы еле коснулись величайшей из тем. Овладейте ею. Покажите всем эти колоссальные уродливые красные здания с длинными черными трубами – эти призрачные гигантские руки нищеты, с угрозой взнесенные над мраморными дворцами и гвардейскими казармами резиденций. Проникнитесь всемирно-исторической ролью этих нищих работников, призванных освободить угнетенных и создать новый человеческий строй.
Было за полночь. Единственная свеча на столе ярко догорала, отбрасывая резкие тени. Лицо Спешнева, освещенное сбоку и даже несколько сзади, выступало из глубокого комнатного мрака лишь несколькими светлыми пятнами. Резкость светотеней по-новому обрисовывала эту отточенную голову, сообщая неожиданную энергию и устремленность его светоносному взгляду. Нежное фарфоровое чело, казалось, наливалось тяжелой бронзой, крепло и закалялось. Неподвижное лицо загадочного созерцателя являло черты бойца и бесстрашного предводителя вооруженных толп.
Впечатление это, впрочем, длилось лишь несколько мгновений. Он быстро повернулся к столу, и бледный свет сразу похитил этот резкий и пасмурный очерк. Передо мною снова был иронический галилеянин, кроткий Люцифер или сострадательный Мефистофель.
Свеча вспыхивала, потрескивала и гасла. Я встал, чтоб уйти.
– Да сбудутся наши планы, – сказал я ему на прощание, пожимая руку.
Кто мог думать, что уже все было безвозвратно и безнадежно подорвано? Ему не пришлось повести освободительные армии на штурм феодальных твердынь, мне не привелось афильировать поэтов и художников к нашему тайному союзу. В этот вечер мы, в сущности, навсегда простились с Николаем Спешневым. Мне суждено было еще несколько раз встретиться с ним, но уже в самых необычайных и печальных обстоятельствах. Быть может, когда-нибудь я и расскажу о наших последних встречах, когда жизнь так безжалостно разламывала нашу молодую судьбу, но на этом я теперь закончу мои беглые и отрывочные воспоминания об одном неразгаданном человеке, имевшем столь неотразимое влияние на мою развивающуюся мысль и совесть.
Двадцать второе декабря
Я сегодня ночью видел во сне отца, но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновиденье сбылось.
Письмо Достоевского.28 апреля 1871
Восемь месяцев в крепости.
Неизвестность, молчание, одиночество. Через три дня Рождество. Сколько еще будет тянуться это безмолвное, гнетущее заточенье?
Отупенье и безразличье ко всему. Мешком валится на койку. Где-то по соседству уныло брякает приклад. В дверном глазку, продолговатом и узком, – переносица и брови караульного. Где-то высоко-высоко, сквозь плотную дымку, запевают куранты, медленно звонят колокольцы.
Он укрывается с головой. Вспоминается далекое, ушедшее, словно подернутое сквозной светящейся завесой, раннее и полузабытое. Больничный поп, отец Иоанн Баршев. Два сына его теперь профессора уголовного права. Их, лекарских детей, встречая в саду, всегда учил духовным гимнам. Хриплым, старческим голосом тянул: «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык…» Никак не могли понять, что значит «в Сионе», и странно как-то звучало это имя – Фсиони какой-то, фигляр, итальянец, вроде Фальдони? Но мотив запоминали, – все они были музыкальны – и довольно верно пели его, стараясь выдержать высокие ноты, утончая и напрягая детские голоса… И вот опять этот Фсиони звенит и поет колокольцами хитрых курантов.
Вот они замирают. Какая усталость и тяжесть во всем теле. Словно колокольной бронзой налило, тяжелым сплавом свинца и меди наполнило вены. Как темно, жарко и тяжко…
…Перед ним большие, светлые, белые комнаты. Запах тошнотворный, дурманящий, едкий. Сухой, угрюмый старец с пронзительным взглядом и крупным адамовым яблоком, бегущим по горлу, неумолимо шагает по залам. Вокруг – распростертые навзничь, корчатся женщины. Извиваясь на жестких койках и операционных столах, с невероятно растопыренными ногами, они искупают долгими непереносимыми болями мгновенную радость грехопадения. Служителя их держат за руки и за ноги. И засучив рукава он, штаб-лекарь в белом халате, угрюмо нахмурив брови, недовольно сгибался и копошился в их чреслах щипцами, под звериные крики и вопли. Или с ножом и блестящей пилою, нещадно, упорно и молча, он перепиливал кости, рассекал взбухший живот и рукой, окровавленной по локоть, ворошил багровые груды живого и голого мяса. Или огромной иглой равнодушно и хмуро вонзался в трепещущее дикими муками тело и прошивал, как отрезы холста, лоскутья рваной плоти. Прокалывал пузыри. От стола шел он к койкам, от коек к столам, в сопровождении помощников своих – фельдшеров и сиделок, и всюду за ним оставались ряды запрокинутых тел, голых бедер и окровавленных чресел.
И вот сам он лежит обнаженный, корчась от муки, с окровавленным чревом и голыми тощими бедрами, у рва на глухой деревенской дороге. Здесь настигли его и прикончили. Но он умер не сразу. Вот поднимается иссохшая старческая голова, искаженная острою мукою, пряди липнут к вискам, глаза выкатились, рот искажен застывшим криком, жилы вздулись, лицо посинело. Вот оно, искажаясь в неимоверной гримасе, приближается, вырастает, поглотит все…
Вот шевелятся бескровные губы:
– Федор, что ты прячешь лицо свое?
– Нет, отец, я гляжу на тебя…
– Зачем ты подверг меня этой пытке смертельной?
– Я ее не хотел, отец, и она ужасает меня…
– Но ты возжаждал смерти моей, и она наступила. Ты – убийца мой, Федор.
– Нет, нет, нет, отец; в смерти твоей неповинен!
– Ты – и никто другой. Ты – отцеубийца, ты – мой палач, ты – душегубец.
И старческий пах в синяках и кровоподтеках обнажался и корчился, как у пригвожденных к позорным столбам или распятых страшной древней казнью.
В ужасе он просыпался…
«Снова этот сон – быть беде. Еще не было случая, чтоб этот кошмар не предшествовал несчастью…»
Странный шум донесся до него. Безмолвный равелин неожиданно оживился. Со двора слышался непонятный стук колес по промерзлому снегу. Под сводами коридоров топотали тяжелые шаги, тревожно бряцало оружье, гулко носились военные команды, и под звон ключей скрипели неповоротливые двери одиночных камер.
Из коридора доносится голос:
– Выпустить девятый нумер!
Вот у его каземата грохочет связка ключей, взвизгивает замок, с грузным шорохом отодвигается засов.
Тюремный служитель в сопровождении конвойных, караульного и дежурного офицера вносят связку носильных вещей. Фрак и клетчатые брюки, в которых он был взят в апреле, легкое весеннее пальто от Рено-Куртеса и в придачу только толстые белые чулки, как в больницах или богадельнях.
– Одевайтесь.
– Куда?
– Одевайтесь.
Все становится ясным: в ссылку не пошлют в этом легком костюме. Только на казнь ведут, в чем взяли при аресте.
Он быстро меняет халат на легкий фрак. С отвращением натягивает длинные белые чулки толстой шерсти и грубой вязки. Да, именно в таких чулках должны вешать – это принадлежность казни. Это чулки самоубийц, преступников, казнимых. Вероятно, в такие чулки, несуразно длинные и ужасающе белые, грабители запрятывают краденые кредитки, захватанные кровавыми пальцами…
По коридору проносится гулкая команда:
– Вывести арестованных!
В сопровождении конвойных он выходит на внешнюю площадку. Свежо дохнуло в лицо утренним морозом, запахом снега, холодным ветерком рассвета. В бледно-синих сумерках отчетливо выступила высокая гладкая стена, головокружительный шпиль собора и вдоль двора длинная, бесконечная вереница широких черных карет без фонарей. Скорлупчатыми суставами огромного черного дракона протянулись они с легким извивом вдоль наружной крепостной стены.
Вокруг гарцуют жандармы с саблями наголо, суетливо распоряжаются офицеры тюремной команды, бойко скачет плац-адъютант, проходят конвойные, недвижно стынут у выходов часовые. Узнать кого-нибудь трудно. Только видно – идет посадка арестантов.
Хлопают дверцы карет. Вот и его подводят к подножке. Самый обыкновенный возок – ничего от дракона. В таких колымагах увозили с театральных подъездов, под рев восхищенных зрителей, Асенкову, Лилу Лёве, Тальони. На миг пахнуло сладостным воспоминаньем праздничного зрелища – огней, оркестра, зубчатых корон и пурпуровых мантий, рукоплесканий и закулисных тайн. Но брякает приклад, нетерпеливо стучат копыта…
Перед ним плац-адъютант.
– Садитесь.
Вежливо, словно приглашение… Зловещая учтивость! Кто это сказал: любезность тюремщика возвещает близость плахи?
Согнувшись, он вступает в душный черный короб. Пахнет кожей, лакированным деревом, пропыленным сукном. Вслед за ним протискивается в дверцу огромный серосуконный солдат с блестящим штыком. Суета во дворе продолжается.
Театральная карета
Еще долго, еще жить три улицы остается.
«Идиот»
– Головные кареты, – отъезжай!
Верховой плац-адъютант, отдав команду, несется к воротам крепости. За ним устремляется на рысях взвод жандармского дивизиона. Суставчатый черный дракон развертывает свои сочленения, проползает под сводами ворот, устремляется быстрым летом по невидимым проспектам.
Стекла обмерзли, и только изредка в тонком просвете мелькнет решетка моста или стенка желтеющего здания. Колеса различно грохочут по утоптанному снегу, мостовых или по деревянным настилам переправ. Вот прожелтел арсенал. Метко сыплется топот эскорта. Карета несется… Куда?
Обмерзлое окно неумолимо отделяет от мира, черный ящик кареты отъединил от всего, словно заживо похоронил. Между ним и всем человечеством вытянулось гигантское непроницаемое стекло. Еще брезжит где-то свет… Но он уже безвозвратно отделен от солнца, людей, улыбок, тревог, суеты. Он за ледяным стеклом в узком, тесном, душном шестиграннике. Стекло будет все тускнеть и сжиматься, чернота экипажа сгущаться, расти и поглощать его. Неумолимая черта. Конвойный с неподвижным лицом, – приказано молчать. Поблескивает широкое лезвие штыка. Глухим стуком отзывается внутри кареты топот бесчисленных копыт. Опять деревянное грохотанье, верно, снова мост. Мир спадает с тебя. Даже как-то легче – становишься прозрачнее, невесомее… Но тоска обволакивает сердце почти до тошноты.
Карета круто завернула – оба седока качнулись вбок – и понеслась еще быстрее, очевидно, выехали на длинный прямой путь. Куда же? На какой-нибудь пустырь, за город? Одиночная камера на колесах уносит в пространство, мчит к неведомым снежным полянам, где только столбы с перекладиной. Через какие-нибудь полчаса его мысль погаснет навеки. Хорошо, что нет ни матери, ни жены, ни дочки – какое счастье! Знать, что твоя смерть убивает несколько любящих душ ужасно… Брат Михаил… Но у него своя семья… Погорюет – утешится. Нет даже подруги – любовницы, которая бы поплакала о твоей смерти… Однако какой огромной ошибкой была вся эта краткая жизнь! Какое жестокое одиночество! Всем доступное, всеобщее и великое человеческое счастье целиком принесено в жертву химере, писательству, соперничеству с Гоголем, которого нужно во что бы то ни стало превзойти. Нужно? Для кого? Грязные редакции, уязвленные самолюбия, сплетни и зависть литературных кружков, насмешки и мелкие интриги, тонкая клевета и тяжелый труд, вознаграждаемый легкомысленной иронической рецензией утомленного и раздраженного критика, – вот на что променял он жизнь и молодость, великую, полную ощущений, простую и сладостную жизнь с ее чудесными живыми ростками. Слава! Гений! Потрясение сердец! Какая ошибка, какая вопиющая ненужность! Ведь счастье и достоинство – это тишина, незаметный труд, неизвестность и человечески нужная, повседневно полезная, хотя бы и докучная, деятельность. Лучше бы строил мосты, шоссе и водопроводы, не думая о том, какой отзыв о тебе появится в «Отечественных записках». Фу, как все это мелко! Если бы снова начать жизнь – как бы разумно построил ее. Семью, детвору, тихий труд… Нет, кажется, не смог бы преодолеть эту жажду писания…
Слегка кружилась голова – от духоты или покачивания экипажа… Казалось, карета не двигалась, вдруг застывала и не то чтоб останавливалась на мостовой, а каким-то неведомым способом повисала в пространстве беззвучно, недвижно. Где-то внизу глухо проносились всадники, сыпался топот копыт, что-то бряцало, цокало, грохотало, но черный лакированный сундук с непроницаемыми плоскими квадратами молочных стекол продолжал недвижно стынуть в воздухе. Как странно: в каземате иногда казалось, что пол под тобой колышется и ходит, как в каюте, а здесь мчащаяся во весь опор карета вдруг недвижно виснет. И потом неизвестно почему внезапно это ощущение пропадало, и карета с вооруженным соседом снова катилась, колеблясь и подрагивая, по твердому снежному насту, под эскортом невидимых всадников, проносящихся куда-то звонким галопом.
Где ж это мы?
Он наклонился и почти прильнул к стеклу, где в густой изморози желтел узкий протаявший просвет.
– Не выглядывайте, а то меня накажут шпицрутенами, – произнес почти жалобно огромный солдат.
Достоевский отшатнулся. Он отвел глаза от окна и стал смотреть прямо перед собой.
Свежелакированная передняя стенка кареты зеркально отражала блестящий нож штыка, медные пуговицы, кивер и бляху конвойного. Он стал всматриваться в это протянувшееся перед ним глубокое черное зеркало и различать в нем понемногу бледное пятно своего лица. Узкие прорези глаз, остроконечные скулы, светлая весенняя шинель – все это сквозь тонкий прозрачный слой виднелось в темном провале кареты. Словно отраженье в глубоком колодце. Карету трясло и подбрасывало (видно, на крутом спуске с моста), и при каждом толчке изображение кривилось, искажалось, переламывалось, так что, казалось, бледная голова в черном зыбком глянце отрывалась от туловища и падала в черноту. Вспомнилось дворцовое зеркало, в которое гляделся в самый вечер смерти удавленный император Павел – тусклое, желтое стекло, вернувшее ему царственное отражение со свернутой шеей и оторванным черепом.
Лошади понесли бешеным аллюром. Не конец ли пути? Стало темнее – узкая улица с высокими домами. Лицо конвойного по-прежнему непроницаемо. Так когда-то в ранней молодости он описывал поездку своего помешавшегося героя в сумасшедший дом. Лошади несли безумца по какой-то неведомой дороге, все чернело вокруг, было глухо и пусто, и только два огненных глаза зловещей, адской радостью блестели из мрака кареты. Это беспощадный медик, ужасающий и грозный, неумолимо и прямо мчал своего безнадежного пациента в страшное заключение одиночных камер с ледяной водой и смирительными рубашками, – туда, где конец всякой радости, где пустыня, мрак и отчаяние. Герой его вскрикивал и хватался за свою больную, истерзанную, словно раненую голову… И все же ему было лучше. От безумья оправляются, из желтых домов возвращаются, только смерть безнадежна и окончательна.
Лошади замедлили аллюр. Черный фургон стал.
Плац-парадное место
Почему в строении мира необходимы приговоренные к смерти?
Из черновиков «Идиота»
– Выходите.
Где ж это? Он огляделся по сторонам. Убогие почернелые лачуги окраины, оранжевые стены гвардейских казарм, бледно-желтое здание нового вокзала, пять куполов тяжеловесного собора лейб-гвардии Семеновского полка. Все это широким, просторным кольцом окружает огромную, унылую, белую, удручающую пустыню. Площадь гвардейских казарм для смотров и учений. Семеновское плац-парадное место. Вал, замыкающий площадь, залит молчаливой толпой. Ведь верно собралось несколько тысяч, а какая глубокая тишина. На Западе – он это не раз читал – во Франции, Испании, Италии – казни привлекали веселую толпу развлекавшихся зрителей с подзорными трубками, нарядными уборами, щегольским вооружением. Под хохот, бойкую болтовню, заигрывания и шутки, под музыку и легкий говор зрителей всходили еретики на костры и аристократы на гильотину… Нет, уж лучше эта петербургская молчаливая толпа, оцепенелая и угрюмая…
Посреди плаца гвардейские части выстроены в каре. Это батальоны полков, в которых служили осужденные офицеры – Пальм, Григорьев, Момбелли. Живой прямоугольник войск обступил деревянный помост, обтянутый черным сукном.
Впереди три высоких столба. У подножия каждого – яма.
В разрытом снегу, словно в кратере глинистого холма, уныло чернеют три разверстых могилы.
Вспомнилась мертвецкая в больнице на Божедомке – чернеющее отверстье, ледяной дых и трупный запах.
Так вот оно, место казни – с эшафотом, войсками и толпой.
Все это он оглянул в одно мгновенье. Перед каретами караульные уже выстраивали привезенных.
Вот они все. Исхудавшие, пожелтевшие, обросшие. Поэты и правоведы, офицеры и инженеры, учителя и журналисты. Обыкновенная «пятница» Петрашевского.
Против горсти читателей Фурье и Консидерана – части трех гвардейских полков, начальник столичной полиции, конные жандармы, флигель-адъютанты его величества. Силы достаточные, быть может, для взятия форта.
Гулко разносится по снежной площади команда:
– Выстроить в шеренгу!
Плац-майор вытягивает их в цепь. Перед фронтом осужденных появляется неожиданная фигура: черный, костлявый и длинный священник в погребальном облачении, с крестом и евангелием. Под его предводительством конвойные ведут их обходным путем вдоль шпалеры войскового квадрата к эшафоту.
Сейчас он умрет. Но навязчивая память продолжает работать, и потребность соображать, думать, строить умозаключения ни на мгновенье не прекращается. Мозг работает, как паровая машина. Вот карниз Семеновской казармы облупился, а между окнами второго этажа проступили пятна сырости. Необходим ремонт – переустроить подъезд, переоборудовать освещение и непременно вытянуть справа глаголем служебный корпус – цейхгауз, канцелярии…
Да, жаль жизни, но не это главное, – все умирают, и без казни он, тщедушный и хворый, мог рано умереть… Нет, пуще всего жаль этого творческого горения сердца, которому суждено было – он это знал и в это верил – разгореться костром, охватить, быть может, полнеба своим заревом… Да, этого жаль бесконечно.
Они прошли вдоль двух изгородей гвардейского каре и повернули, чтоб проследовать вдоль третьей. Впереди, прямо перед ними – черный помост и три стройных серых мачты, прочно врытых в промерзлую почву. Жить остается десять, двадцать минут? Но где-то продолжала робко и беспомощно биться надежда: «А может быть, все же… А вдруг чудо?..»
Линия войсковых частей пройдена до конца. Вот черная площадка. В светлом сукне, в орденах и перчатках, в гренадах и серебряных шнурах, группа военных следит за порядком. Из гвардейских частей вызывают офицеров и фельдфебелей. Осужденных подводят к коротенькой лесенке помоста. Скользя по мерзлым ступенькам, они всходят на эшафот.
– На караул!
Взметаются с четким лязгом ружья. Нервною дробью рассыпаются барабаны. На подмостки выходит аудитор с бумагой в руках. Слабым, дребезжащим тенорком, выкрикивая части фраз для войск, для толпы на валу, с паузами и новыми визгливыми возгласами, он прочитывает высочайший приговор.
Ветер шумит, мысли проносятся вихрем, цельную фразу нельзя воспринять, она доходит клочками до сознания – что это, мозг уже начал сдавать или вьюга глушит надрывный фальцет чтеца?
«Генерал-аудиториат по рассмотрению дела… военно-судный комиссией, признал… все виноваты в умысле на ниспровержение государственного порядка… определил: подвергнуть смертной казни расстрелянием».
Аудитор невероятно повышает свой петушиный голос и подносит руку к полю форменной шляпы. По площади тонким вскриком разносится:
– Государь-император на приговоре собственноручно написать соизволил: «Быть по сему».
Из плотного серого воздуха выступил вдруг блещущий бликами огромный длинноногий самодержец в коронованной бронзовой раме, леденящий неведомого зрителя своими пронзительно-неумолимыми зрачками. Руки, сжатые у бедер, разжались для подписи новых смертных приговоров, и мрачной памятью о виселицах санкт-петербургского кронверка возникли и вытянулись из снежного наста Семеновской площади три длинных серых столба над узкими гробоподобными ямами.
Зияющая черная язва сейчас поглотит его. Через несколько минут голова его, мыслящая, вспоминающая, творящая, станет вещью, отвратительным и ужасным предметом, страшной падалью, которую только и можно что закопать поглубже.
С эшафота продолжает звучать дребезжащий тенор аудитора. Разносятся по площади имена, статьи, приговоры, и с грозной ритмичностью снова и снова звучит назойливо жуткий припев:
«Подвергнуть смертной казни расстрелянием…»
Девять раз прозвучала бесстрастная формула. И вот звучит в десятый.
– Отставного инженер-поручика Федора Достоевского, 27 лет.
Сознание воспринимает и память удерживает каждое слово.
– За участье в преступных замыслах…
«Неужели в подготовке цареубийства?..»
– За распространение частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти…
«Так за письмо Белинского?..»
– И за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против правительства…
«Главная тайна разоблачена! Дубельт настоял на своем…»
– Подвергнуть смертной казни расстрелянием.
Как странно: теперь совсем не страшно. Неизбежность. Холодная ясность сознания. Так, верно, тот, кто боится разбойника, успокаивается в последнюю секунду, когда нож уже приставлен к горлу.
Аудитор продолжает читать:
– Служащего в Азиатском департаменте министерства иностранных дел, коллежского советника Константина Дебу первого…
Снова и снова деревянно и бесстрастно гудит и разносится до самого вала:
– Подвергнуть смертной казни расстрелянием.
Думы проносятся вихрем.
«Во что превращусь сейчас? Быть может, в этот сноп лучей, играющий на золотом яблоке этой гигантской луковки… А может быть, и вся-то вечность – тесная, затхлая, заплесневелая каморка, вроде холодной избы или камеры каземата, или обмерзлой полицейской кареты, или вот этой разрытой ямы. Почему непременно – свет, лучи, херувимы? Жизнь ведь подготовила к эпилогу сырой, промозглый подвал на целых восемь месяцев, да вот братскую могилу на столичной площади. Откуда же после смерти блистанья, арфы, лучезарность? Грязная конура с цвелью, слизью и мокрицами – вот тебе и вся вечность. Да, именно так оно и должно быть».
Сквозь серую утреннюю муть ярче проглянул бледный отсвет солнца. Казалось, что-то легким звоном наполнило воздух. Кто-то сказал в стихах: «На небе солнце зазвучало». Ведь кажется бессмысленно, а чудесно… Ах да: «Die sonne tönt nach alter Weise»[1]1
Как было древле, солнце строгоМеж братских сфер свой гимн поет,Своей назначенной дорогойС громовым грохотом течет.«Фауст». Пер. В. Брюсова.
[Закрыть].
Лучи солнца и ритм строфы пробудили бодрость. Смерть вдруг показалась невероятной.
– Не может быть, чтобы нас казнили, – шепнул он своему соседу.
– А это что? – указал тот на телегу, прикрытую рогожей. – Ведь даже гробы подготовили.
Аудитор складывает вчетверо бумагу и опускает ее в боковой карман. Он медленно сходит с помоста. Снова гулкий барабанный бой. Под отвратительную слитную дробь грохоча высокими сапогами, всходят на эшафот палачи в ярких рубахах и черных плисовых шароварах. Обряд военной казни сохранял старинную театральность. Осужденных ставят на колени. Палачи переламывают надвое над их головами подпиленные шпаги. Сухой и жесткий треск разламывающейся стали четко режет морозный воздух.
По мерзлым ступенькам, в широкой черной рясе, колеблемой ветром, скользя и спотыкаясь, гигантским зловещим вороном всходит на плаху священник.
В руках его большой серебряный крест. Черный духовник протягивает осужденным свое малое орудие казни и смиренномудро предлагает им исповедоваться в своих грехах, прежде чем предстать пред лик божий.
Достоевского передергивает. Представитель церкви, принимающий участие в обряде казни? Слуга Христа, участвующий в общем деле с палачами? Священнослужитель с крестом в руке и евангельскими стихами на устах, содействующий убийству двадцати человек и наводящий богослужебный порядок на эту дикую процедуру массового расстрела?
Он с отвращением отвернулся от бородатого и длинноволосого человека в просторном до пят балахоне, крепко сжимавшего вытянутой рукой свой плоский серебряный брус, струя монотонную проповедь: «Обороцы греха есть смерть…» Насколько чище и праведнее показались в тот миг безмолвные солдаты выделенного взвода, которым предстояло через несколько мгновений разрядить свои ружья в живых людей.
«А что, если бы Христос, после восемнадцати веков, сошел теперь в Петербург на Семеновский плац, где вбиты столбы для расстрела, где вырыты ямы для трупов, и двадцать человек, полных молодости, сил и нерастраченных дарований, ждут своей незаслуженной смерти? Что сказал бы ему этот священник с распятьем в руке? Что ответили бы все эти генералы, представляющие здесь, у плахи, благочестивейшего православного государя, вчера только подписавшего это двадцатикратное расстрелять? Вероятно, – заключили бы в каземат Санкт-Петербургской крепости, а потом поставили бы у столба Семеновского плаца…»
И вот последний обряд – предсмертное переодевание. Тут же на эшафоте их летние плащи сменяют на просторные холщовые саваны с остроконечными капюшонами и длинными, почти до земли, рукавами. Что это? Смирительные рубахи, маскарадные домино, тальмы оперных заговорщиков?
Внезапно раздается с эшафота долгий, раскатистый и дерзкий хохот.
Все оборачиваются.
Трясясь, словно от неудержимой спазмы, и как бы намеренно повышая с каждым приступом раскаты своего хохота, Петрашевский вызывающе взмахивал своими клоунскими рукавами.
– Господа!.. (хохот душил его). Как мы, должно быть… смешны в этих балахонах!..
Великий пропагатор остался верен себе. Эшафот огласил он хохотом, быть может, стремясь в последний раз выразить свое презрение власти и одновременно пробудить бодрость в товарищах.
Они стоят все, высокие, длинные, белоснежные, как призраки.
Необычайная одежда колышется от ветра, лица полузакрыты спадающими капюшонами. – «Так вот они, саваны приговоренных»…
Их перестраивают по трое. Он стоит во втором ряду. Раздается окрик распорядителя казни:
– Петрашевский.
– Момбелли.
– Григорьев!
Три белых призрака, под конвоем взводных, по вызову аудитора, медленно сходят по скользким ступенькам помоста. Их привязывают веревками к трем серым столбам. Длинными рукавами смертной рубахи им скручивают за спиною руки.
В окрестностях Чермашни бродил страшный разбойник Карп с кистенем. Хотели его изловить и повесить. Беглый каторжник зарезал тьму народа, насиловал малолетних, но так и гулял на воле, не даваясь властям. И вот теперь казнят Федора Достоевского за чтение письма Белинского к Гоголю…
Первая тройка привязана к столбам. Лицо Петрашевского спокойно, только глаза невероятно расширены. Он, казалось, смотрел поверх всего. Спокойно ждал, чтоб внешне произошло еще что-то. Голова его была печальна и прекрасна.
Лицо Момбелли было недвижно и бледно, как стена. Григорьев был словно весь исковеркан пыткой приближающегося конца. Перекошенное лицо его каменело в гримасе ужаса, глаза стекленели как у безумца. «Как это еще никто не догадался изобразить лицо приговоренного за минуту до удара гильотины?»
(Недавно – через пятнадцать лет – в одной из швейцарских галерей – в Лозанне или Базеле? – он видел как раз такую картину. – Как она называлась? Казнь офицера или смерть майора? Последняя ступень эшафота, бледная, словно кожа прокаженных, запрокинутая голова, посинелые губы у самого креста и уже неясно, сквозь дымку слабеющего сознания, складки пасторской мантии и позумент на кафтане палача. Перед полотном маленького европейского музея с мучительной отчетливостью возникли врезавшиеся навеки в память две омертвелых головы Семеновского плаца.)
Три взвода солдат, предназначенных для исполнения приговора, отделяются от своих частей и под командой унтер-офицеров маршируют по намеченной линии – пять сажен впереди столбов. Перед каждым приговоренным выстраиваются в одну линию пятнадцать гвардейских стрелков. Предстоящее совместное убийство как бы снимает с каждого отдельного исполнителя ответственность за кровопролитье.
Снова команда:
– Заряжай ружья!..
Стук прикладов и шум шомполов.
– Колпаки надвинуть на глаза!
Скрываются под капюшонами изумленные глаза Петрашевского, бледная маска Момбелли, безумная гримаса Григорьева.
Но резким движением головы Петрашевский сбрасывает с лица белый колпак: «Не боюсь смотреть смерти прямо в глаза!..»
Сейчас прольется кровь. Затем очередь следующей тройки (конвойный уже подвел их к самому краю площадки). Остается жить две-три минуты… Вдруг вспомнилось: в инженерном училище на лекции истории профессор Шульгин – искусный оратор, лектор-художник – изобразил как-то казнь Дю Барри. Любовница короля, как мышь, испугалась смерти, заметалась, молила о пощаде, обливалась слезами, упиралась, билась, кричала, хватала за руки: «Господин палач, господин палач, молю вас, не делайте мне больно!» Тогда казалось – вот ужас, который тебя никогда не коснется. С тобою этого случиться не может. Как уверенно было это сознание! Казнить его, инженер-кондуктора верхнего класса Федора Достоевского? Да за что? Никогда! И вот этот неожиданный изворот вечно издевающейся жизни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































