Текст книги "Рулетенбург"
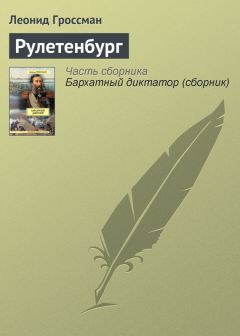
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Маша
Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни.
Письмо к М. Д. Исаевой.4 июля 1855 г
Он не мог вспоминать о ней связно и последовательно, это было невыносимо больно. Словно что-то укоряло его и мучительно надрывало душу стыдом и раскаянием. Но думать о ней какими-то клочками, вырывать из прошлого отдельные мгновенья, вдруг видеть перед собой ее лицо, даже раздраженное и злое, но близкое и чем-то неразрывно и навсегда с ним связанное, – это он мог, к этому он постоянно обращался, в этом для него таилась особая, горестная отрада.
Бледное лицо, налитое желчью смертельной болезни и до крикливости ярко расцвеченное по щекам румянцем гибельной лихорадки. Таким он увидел его впервые, этим чахоточным обликом жизнь улыбнулась ему за остроконечными палями каторги.
Он помнит утро. Под иссушающим азиатским солнцем – словно живая картина тропической флоры. Желтые тюки и пестрые цибики чаю, двугорбые верблюды и вьючные мулы, арбы и телеги с алмазно сверкающей солью. Сюда, на большой меновой двор Семипалатинска, свозят для ирбитской ярмарки и попутных деловых оборотов сушеные фрукты и шелковые ткани из Бухары и Кокана, войлоки и деревянную утварь – из киргизских аулов, вина – из ханства Ташкентского, золотых фазанов – с Балхашского озера, редкостную пушнину сибирских чащ – шкуры черных волков, белых соболей, тигров и барсов. Сюда доходят через попутные рынки и степные ярмарки бирюза и жемчуг из Персии, индиго и ароматные коренья – из Индии, фарфор и серебро в ямбах – из Китая, шали и пуховые материи – из Кашмира. Отсюда тянутся невидимые нити торговых сношений Москвы с Кашгаром и Афганистаном.
Рынок бурлит. Шумный говор степных базарчей и резкие окрики караван-башей покрыты ревом верблюдов, ржанием коней и мычанием волов. Кокандские, бухарские, ташкентские и казанские купцы скупают, перепродают, меняют. Колышутся на ветру полосатые халаты и мелькают островерхие головные уборы киргизов. Бойко действуют контрабандисты с китайской границы, страстные, хитрые, смелые авантюристы наживы, поэты краж, вдохновенные грабители-хищники, словно созданные для романтической поэмы.
Под стеною идет мелкая торговля, походная розница, летучий базар. Здесь прельщают панским и красным товаром. Глиняные бутыли, распоротые и вскрытые ящики с бархатистыми грудами урюка, башмалы, кишмиша, дичь и свежие фрукты, кожи, верблюжья шерсть, полотенца, ковры и шелка, бархат, позументы и мишура… А вокруг, во все стороны, куда ни взглянь, желтеют сыпучие пески, необозримо раскинулась киргизская степь, струится под солнцем азиатская пустыня, синеют, сливаясь с небом, далекие холмы Семитау…
Он с нею вдвоем, и весь этот шумный и потный рынок для него чудесен, как сказания арабских путешественников. Семипалатинск – да ведь это почти Китай! А там проторенными торговыми путями караваны в несколько перевалов доходят до Индии, достигают Кашмира, поят верблюдов из быстрых потоков Инда. А дальше – Персия, Шираз, Испагань… Древняя Азия снова веяла на него из этих знойных, сверкающих степей, шурша складками наносных песков и неощутимо навевая свои густые, пряные и до изнеможения дурманящие поверья.
Она хватает ткани – полосатые, как тигр, пятнистые, как леопардова шкура, оранжевые, синие, вишневые, винные, ярко-желтые, темно-лиловые, легкие, воздушные, струящиеся… Перед ней пестрыми грудами насыпаны китайские материи: канфы, канчи, ленты, завидоны. Небрежными и страстными жестами она прикладывает их на мгновенье к бедрам, к груди, к животу, набрасывает на плечи, почти вся закутывается в них, не переставая всматриваться в набегающие складки и новые сочетания пестрых узоров. Худощавое тело ее выгибается в неожиданных поворотах, на щеки набегает неестественно яркий румянец – не то от возбуждения, не то от скрытого и тайного недуга. Она любит жизнь, наслаждения, игру случайностей, праздность, приключения. Ей запомнилось что-то смутно о Франции ее предков или, может быть, об Африке? Тонкое ли наследье Галлии или знойная кровь египетских воителей бродят в ней и томят все ее существо? Изломанная и смятая жизнью, она любит воображать в своем прошлом роскошь и счастье, никогда не улыбавшиеся ей в действительности. Ложью воображения она пытается восполнить эту обидную пустоту жизни с ее ударами, ранами, болезнями, лишениями.
– О, я знаю другую жизнь! – говорит она, когда они усаживаются на обломки старой кумирни, передохнуть от длинной прогулки.
По выщербленным стенам змеятся письмена на тунгузском языке, высеченные в камне ламайскими жрецами. Вдали на кубовом небе ослепительно вычерчены белоснежные конусы минаретов.
– В семье нашей хранились традиции старого французского дворянства, дед мой – Франсуа-Жером-Амедей де Констант эмигрировал в эпоху террора. Он прибыл в Россию, кажется, с герцогом Ришелье, и был принят ко двору…
Кашель долгой спазмой прерывает ее рассказ. Упорно и нещадно колотит он ее грудь, трясет ее слабенький торс, не дает перевести дыхания. Он с участием и жалостью смотрит на нее, не зная чем помочь. Припадок наконец замирает.
– Да, это было при дворе Екатерины. «Я ценю роялистов, – сказала ему с величавой улыбкой императрица, – вы же доказали свою верность трону…»
Он слушает, не возражая. От пьяного циника Александра Ивановича Исаева он давно уже знает: предок Маши – мамелюк наполеоновских полчищ, застрявший при отступлении великой армии и каким-то образом заброшенный в Астрахань.
В одном из тех припадков пьяной откровенности, когда человек почти бесстыдно оголяет себя всего, наслаждаясь своим унижением и словно захлебываясь в грязи, переполнившей его жизнь, этот горький пропойца поведал ему всю историю своей горемычной спутницы во всех ее ужасающих подробностях. Заплетающимся языком, сбиваясь и неожиданно взлетая на высоту покаянного отчаяния, мешая в своей пьяной речи отвратительные детали своего супружеского быта с евангельскими стихами и библейскими прорицаниями, он бросал в его лицо бесстыжие истории о горячем темпераменте Маши и длинной веренице ее любовников, нередко обижавших и унижавших ее, пылкую и влюбчивую до самозабвенья.
Она в упоении продолжает плести свою воображаемую родословную и фантастическую биографию. Он тщательно остерегается прервать рассказ своей возбужденной и разговорчивой спутницы, понимая всю его врачующую силу для ее ущемленной души. Ей так сладостно воображать никогда не бывшее в жизни ее изящество, благообразие, высокий тон, – все как у знатных людей, – а не эту суетливость и неопрятность бедного и многочисленного семейства где-то в глухом углу…
– Дворянский пансион, – продолжает она, – оценил мои способности. Я владела французским языком лучше нашей директрисы. Меня хотели перевести в Петербург, в Екатерининский институт. Отцу предлагали место правителя дворцовой конторы. Но по бесконечной скромности своей он принял пост начальника карантина в Астрахани…
И тянется напряженная экзальтированная повесть об успехах и победах, прерываемая сухим кашлем и легкими удушьями. Во всем этом болезненно и мучительно дребезжит безнадежно надорванная струна неудавшейся жизни. Глаза разгораются, щеки залиты румянцем. Главное он знает сам: вышла замуж за горького пьяницу и попала в сибирскую глушь, где никому не нужны ее дипломы, французские фразы, истерически изощрившийся вкус, желание пленять и блистать. Муж пьет горькую: распухло лицо, мешки под глазами, взъерошены остатки волос, взгляд виновато блуждает. Вечно в компании захолустных забулдыг, бессапожных чиновников, отпетых людишек. Нужда, безнадежность… И вот чахнет она, рожденная для столиц и Европы, в сибирской глуши, в киргизских степях, среди сплетниц, завистниц и пьяненьких.
Он полюбил ее первой, до сих пор не растраченной страстью. Холод Панаевой, ласки девушек с Невского или грошовые объятья острожных калачниц только сгущали огонь в его сердце, копили в нем жгучую, буйную страсть.
И вот – Маша Исаева. Он загорелся и медленно исходил обжигающим все существо его пламенем. Так впервые с ним. Это на всю жизнь. Она его только жалеет, – он это знает – да по своей доброте и горячности не отвергает его ласк. Но ведь он бессрочный солдат, нищий, ошельмованный, в прошлом – неудачник-литератор, теперь – отверженный, выкидыш жизни, бесправный; неисцелимо больной…
И все же идет к нему в хижину через пески и колючки.
Жар печет невыносимо. Босою ногой не ступишь по песку, яйцо испечется в минуту догуста. Накалены изразцы мечетей и ржавый щит городского герба над крепостными воротами: золотой навьюченный верблюд под пятилучной звездой…
Как неприглядна его идиллия любви! Казармы, тюрьма, гауптвахта, и где-то в углу, за строениями кривая избушка, без окон на улицу: низкая калитка (чтоб сразу, одним махом отсечь голову злоумышленнику), закопченная темная комната солдата, переделенная убогой ситцевой занавеской. И только кривой стол в углу засыпан странными, мерцающими вещами. Это его коллекция чудских древностей, терпеливо собранная им в казармах, на рынках, у мелкого ремесленного люда, – всюду, где могли сохраниться эти драгоценности курганов: кольца, бусы, монеты, браслеты, серьги, наконечники копий, глиняные фигурки с монгольскими лицами, медные бляхи и подвески с изображением всадников, зверей, птиц, рыб и пресмыкающихся. Он показывал ей последние находки – остаток ожерелья с бубенчиками, обломок гребенки с конской головой. Но она равнодушна к литым изображениям, украшавшим грудь шаманов, и ко всем ассирийским украшениям древних финских резчиков Приуралья. Ей нужно топить в дурмане убогой романтики свою нужду, неудачи, хворость, унижения, все жгучие и неизбывные обиды судьбы…
Маша металась, глотала каждое пустое наслаждение, торопилась вобрать их побольше, словно знала, что времени у нее мало, что вот-вот оборвется хрупкая нить ее жизни. От этого было в ней что-то напряженное, блеск в глазах неестественный, не то сквозь слезу, не то от внутреннего перегорания сердца, сухие горячие руки, влажные губы, неожиданные и какие-то раздражающие вздрагивания. Во всем необычный накал и обреченность всего существа. Вот-вот вспыхнет, сгорит без остатка…
…И вот разлука. Переезд Исаевых в Кузнецк. Снова судьба отнимает самое дорогое…
Вскоре он получил от нее письмо о смерти Исаева. Умирал в нестерпимых страданиях. Но в мученьях о ней он забывал свои боли. Повторял беспрерывно: «Что будет теперь с тобою?» Похоронили бедно, на чужие деньги (нашлись добрые люди), она же была как без памяти. Несколько дней и ночей сряду не спала у его постели. У ней ничего нет, кроме долгов в лавке. Кто-то прислал ей три рубля серебром. Нужда толкала руку принять, и приняла… подаяние…
А затем – все страшнее и страшнее. Маша его оставляет. Глухой городишко. Сплетни, кумушки, сватовство, интриги, новые увлечения?.. В Маше бурлит полуденная кровь, бродит густое вино Африки, разожженное глухой отравой смертельного недуга. Ей нужны любовники, наркоз чувственной авантюры, мгновенные и острые обманы разврата. Ей нужно хоть на миг озарить этот бесцветный, словно насквозь пропыленный мир унижений, отречений, обид ослепительной вспышкой страсти. Она томится, выжидает и словно оплетает вязкой и невидимой паутиной его, вожделенного возлюбленного.
Он – это Варгунов, учитель кузнецкой школы, бесцветнейшее существо, но образцовый мужчина. Она отобрала себе лучшее в своем захолустном кругу. Молод, силен, хорош. Не то что бессапожные чиновники из исаевской компании!
В бумагах Достоевского старая сибирская тетрадка. Сюда он вносил словечки, речения, говоры, афоризмы каторги. Пригодится для будущих творений – обрывки острожных песен, разудало-иронические пословицы, сложившиеся на лету между казарменными нарами, кордегардией и инженерной мастерской. И тут же записи дня, черновики писем, отголоски тяжелых и горьких эпизодов его личной летописи…[2]2
Сибирский роман Достоевского дан здесь в его собственных записях. История его любви к М. Д. Исаевой воспроизведена в виде небольшой композиции из отрывков переписки Достоевского в 50-е годы.
[Закрыть]
…На масленице я был кое-где на блинах, на вечерах даже танцевал. Обо всем этом и о некоторых здешних дамах я написал Марии Дмитриевне. Она вообразила, что я начинаю забывать ее и увлекаюсь другими. Потом, когда настало объяснение, писала мне: «Я невольно охладела к вам, почти уверенная, что не к тому человеку пишу, который недавно меня только одну любил».
Я заметил эту холодность писем и был убит ею. Вдруг мне говорят, что она выходит замуж. Я истерзался в мученьях, впал в отчаяние. Вдруг письмо: «если бы человек с какими-нибудь достоинствами посватался к ней, – что отвечать ей?..» Все было ясно. Две недели я пробыл в таких муках, в таком аде, что и теперь не могу очнуться от ужаса…
Я написал письмо отчаянное, ужасное, которым растерзал ее. Но, кажется, ей отрадна была тоска моя, хоть она и мучилась за меня.
После этого она уже решилась мне все объяснить: и сомнения свои, и ревность, и мнительность, и наконец объяснила, что мысль о замужестве выдумана ею в намерении узнать и испытать мое сердце.
Тем не менее это замужество имело основание. Кто-то в Томске нуждается в жене и, узнав, что в Кузнецке есть вдова, еще довольно молодая и, по отзывам, интересная, через кузнецких кумушек (гадин, которые ее обижают беспрестанно), предложил ей свою руку.
Она расхохоталась в лицо кузнецкой свахе…
…Но дальше что? Она больна. Гадость кузнецкая ее замучает, всего-то она боится, мнительна, я ревную ее ко всякому имени, которое упоминает она в письме. В Барнаул ехать боится: что, если там примут ее как просительницу неохотно и гордо. Если отец потребует к нему, то надо ехать в Астрахань… Для меня все это тоска, ад. Право, я думаю иногда, что с ума сойду!
Я готов под суд идти, только бы с ней видеться.
Я был там, я видел ее! Как это случилось, до сих пор понять не могу!.. Она плакала, целовала мои руки, – но она любит другого! В эти два дня вспоминала прошлое и ее сердце опять обратилось ко мне. Она мне сказала: «не плачь, не грусти, не все еще решено; ты и я и более никто!» Я провел не знаю какие два дня, это было блаженство и мученье нестерпимые! К концу второго дня я уехал с полной надеждой.
Но вполне вероятная вещь, что отсутствующие все же виноваты.
Так и случилось! Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня…
Я пропал, но и она тоже…
Ей двадцать девять лет; она образованная, умница, видевшая свет, знающая людей, страдавшая, мучившаяся, больная от последних лет ее жизни в Сибири, ищущая счастья, самовольная, сильная, готова выйти замуж теперь за юношу двадцати четырех лет, сибиряка, ничего не видавшего, ничего не знающего, чуть-чуть образованного, начинающего первую мысль своей жизни, тогда как доживает, может быть, последнюю мысль.
Не губит ли она себя снова? Он учитель в уездной школе, имеющий в виду 900 рублей ассигнациями жалования. Через несколько лет он ее бросит. Что с ней будет в бедности, с кучей детей и приговоренною к Кузнецку? Что, если он оскорбит ее подлым упреком, что она рассчитывала на его молодость, что она хотела сладострастно заесть его век, и ей, чистому, прекрасному ангелу, это, может быть, придется выслушать!
…Разрывается мое сердце.
Я говорю с ней обо всем этом. Она слушала и была поражена. Но у женщин чувство берет верх даже над очевидностью здравого смысла.
Резоны мои упали перед мыслью, что я на него нападаю, подыскиваюсь: она плакала и мучилась. Мне жаль стало, и тогда она вся обратилась ко мне – меня жаль!
По ее же вызову я решился написать ему все, весь взгляд на вещи: ибо прощаясь, она совершенно обратилась опять ко мне всем сердцем. С ним я сошелся: он плакал у меня на груди, но он только и умеет плакать! – Я знал свое ложное положение; ибо начни отсоветовать, представлять им будущее, оба скажут: для себя старается, нарочно изобретает ужасы в будущем. Притом же он с ней, а я далеко.
Так и случилось. Я написал письмо длинное ему и ей вместе. Я представил все, что может произойти от неравного брака. Они оба возмутились. Она отвечала, горячо его защищая, как будто я на него нападал. А он истинно по-кузнецки и глупо принял себя за личность и за оскорбление дружескую братскую просьбу мою (ибо он сам просил у меня и дружбу и братство) подумать о том, чего он добивается, не сгубит ли он женщину для своего счастья; ибо ему двадцать четыре года, а ей двадцать девять, у него нет денег, определенной будущности и вечный Кузнецк.
Он всем этим обиделся; сверх того вооружил ее против меня, прочтя наизнанку одну мою мысль и уверив ее, что она ей оскорбительна. Мне написал ответ ругательный. Дурное сердце у него, я так думаю!
Она же после первых вспышек уже хочет мириться, сама пишет мне, опять нежна, опять ласкова, тогда как я еще не успел оправдаться перед ней.
Чем это кончится, не знаю, но она погубит себя, и сердце мое замирает…
(Черновик письма)… Еще одна крайняя просьба до вас, добрейший, бесценный мой Александр Егорович! Ради бога, ради света небесного не откажите. Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь. Он теперь получает 400 рублей ассигнациями и хлопочет держать экзамен на учителя, выше, в Кузнецке же. Тогда у него будет 900 рублей. Поговорите о нем Гасфорту, как о молодом человеке, достойном, прекрасном, со способностями; хвалите его на чем свет стоит, что вы знали его, что ему не худо бы дать место выше. Гернгроссу тоже о нем напишите что-нибудь. Его зовут: Николай Борисович Варгунов. Он из Томска.
Это все для нее, для нее одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой,
Он имел одно виденье,
Непостижное уму…
Брат, ангел мой, помоги мне последний раз. Я знаю, что у тебя нет денег, но мне надобны некоторые вещи, именно для нее. Мне хочется подарить их ей; покупать здесь невозможно, стоит вдвое дороже. Если б я имел деньги, я б тебе выслал; но я не имею и потому умоляю, не откажи мне в этом последнем пособии…
Вот вещи, которые я желаю иметь; они почти необходимы.
1) К Пасхе шляпку (здесь нет никаких) конечно весеннюю.
2) Теперь же шелковой материи на платье (какой-нибудь кроме glace) (цветом как носят), она блондинка, росту выше среднего, с прекрасной тальей, похожа на Эмилию Федоровну станом, в то время как я ее помню).
Мантилью (бархатную или какую-нибудь) – на твой вкус. Полдюжины тонких голландских носовых платков, дамских. 2 чепчика с лентами по возможности голубыми, не дорогих, но хорошеньких.
Косынку шерстяного кружева (если недорого).
3) Если требования эти покажутся тебе требованиями, если тебе сделается смешно, читая этот реестр, оттого, что я прошу чуть ли не на 100 руб. сер. – то засмейся и откажи. Если ж ты поймешь все желание мое сделать ей этот подарок и то, что я не удержался и написал тебе об этом, то ты не засмеешься надо мной, а извинишь меня…
Сибирский дневник проложен ветшающим и пожелтелым документом. Он иногда перекладывал эти списки, акты, бумаги, приобщая их к своим старым записям, словно замыкая ими отошедшую главу своей жизни. Круглым, писарским почерком выписано:
«Из метрической книги Одигитриевской церкви гор. Кузнецка Томской губернии.
1857 года, февраля 6 дня. Повенчаны: служащий в Сибирском Линейном батальоне № 7-й прапорщик Федор Михайлов Достоевский, православного вероисповедания, первым браком, 34 лет. Невеста его: вдова Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя по корчемной части, коллежского секретаря Александра Исаева, православного вероисповедания, вторым браком. Подлинную метрическую запись подписал: священник Евгений Тюменцов, диакон Петр Дашков, дьячок Петр Углянский и пономарь Иван Слободский.»
Годы ревности, боли, мучительства…
И вот эти мутные, душные, сырые дни в Москве: ручейки в переулках, звон, щебет, дребезжание колес. А в комнате – полутемной, беззвучной, зловещей – отходит иссохшая, вся пожелтевшая женщина-мумия. Хрипы, клокотания в горле… душит последний припадок, кровь хлещет горлом, жизнь убывает последними каплями… Сердце его истерзано болью, горе вырвало часть существа его. И только листок в блокноте:
«16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?..»
От нее он унес в жизнь память как о женщине, непоправимо надорванной смертельной болезнью, горькими запоями мужа, черной нуждою, унизительными невзгодами нелепо обернувшейся жизни.
В казино
Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы.
«Игрок»
– На королевском мюнхенском театре новая опера «Тристан и Изольда»…
– А, этот Рихард Вагнер! Известный игрок. Говорят, в прошлом году он оставил здесь все до последнего пфеннига…
Обрывок разговора донесся до него, пока он проходил через атриум казино. Имя было знакомо: Рихард Вагнер недавно лишь давал концерты в Петербурге, Серов с Аполлоном Григорьевым прожужжали им уши в редакции о великом музыкальном бунтаре. Оказывалось, и он увлекался рулеткой! В этом был слабый аргумент самооправдания.
Он решил и без денег пройтись по курзалу: рассеяться видом игры, ознакомиться с шансами дня.
Игорные комнаты уже были полны. Вечерний час собрал у длинных зеленых столов густую толпу. Почти бесшумно вращались разноцветные циферблаты. Было жарко от газовых рожков, от столпившихся тел, от дыханий. Пахло дорогими духами, лакированным деревом, человеческим потом. Со всех сторон над столами, в проходах, в зеркалах – матовая чернота сюртуков и переливной шелковый блеск кринолинов. Над всеми табло легкое и ровное жужжание улья. Отчетливо-сдержанные возгласы и безошибочно-ловкие жесты крупье в ладно скроенных черных спенсерах. Хрустение новых кредиток и мелодическое позванивание золотых монет. Все это слегка волновало, взвинчивало его истонченную нервную систему, чуть-чуть кружило голову и возбуждало мозг, как в иные минуты творческой ночной работы, когда мысль необычайно прояснялась, зорко видела, безошибочно угадывала и взнуздывала волю на непрерывное преодоление трудностей и неутомимое упорство в завоевании ускользающих образов.
Он не любил этого парадного зала с показной и фальшивой роскошью отеля, ресторана или клуба. Ледяной лоск паркетов и декоративная роспись плафонов, гипс стенных багетов, позолоченные решетки дверных входов, бронза и кожа – все это довольно безвкусно замыкало пустой и алчный мирок легкой наживы в поддельное подобие дворцового убранства. Его всегда раздражали эти алебастровые извивы по углам, расписанные по стенам цветочки, корзиночки, ручейки и фонтанчики. «Кому нужны здесь эти пейзажи, лепные волюты, стекляшки люстр, бронзовые завитушки кенкетов? Все только и думают, что о денежной добыче…»
Перед ним мягко, бесшумно и плавно вращался расчисленный жернов рулетки и сухо стрекотало в своем пленном полете по лакированному дуплу массивное костяное ядрышко цвета человеческого черепа.
Кто изобрел эту красную чашку с быстро несущимся металлическим диском, испещренным разноцветными цифрами над узенькими углублениями тридцати семи впадин? Ячейки счастья и смерти, разорений и обогащений, источники крупных деловых оборотов, неслыханных разгулов и безвестных самоубийств – в какой простой механизм были здесь сведены тонкие и хрупкие нити бесчисленных человеческих судеб! На острие этой коротенькой стальной оси умещались, как духи в богословских диспутах Средневековья, замыслы великих творений, операционные планы банкиров, вожделения сладострастников и смертельные катастрофы неудачников. Кто свел сложные узлы бесчисленных человеческих жизней в хитроумное сочетание этих кроваво-траурных цифр, несущихся в своем безумном беге к новым, безвестным сочетаниям успехов, наслаждений и несчастий?
Старая дама в глубоком кресле обращалась к седому французу с щегольской эспаньолкой и тонко завитыми усами:
– В мое время, поверьте, игры были разумнее: крабс, например, или бириби. Шансы были вернее.
– Ну, а фараон, сударыня? Что может быть коварнее игры, в которой размер вашего проигрыша скрыт от вас паролем?
– Но осторожные не доверялись случаю… А здесь попробуйте воздержаться от соблазна! И кто это изобрел эту дьявольскую игру?
– Говорят, какой-то монах, гениальный счетчик…
– Да что вы? Давно ли?
– Я помню еще времена рулетки в Пале-Рояле, у Фраскати, в бульварных кофейнях. Она появилась у нас во времена Консульства…
Франкфуртский банкир, родственник Ротшильдов, бросил перед собой на сукно замшевый мешочек с золотом и с методической осторожностью ставил по одной монете на цвета. Выигранные фридрихедоры вырастали аккуратными столбиками, как на конторке менялы.
Достоевский опустился в кресло и, следя за игрою, задумался. В каторжной казарме были свои крупье и понтеры. Только называлось это не французским термином, а татарским словом майдан: потертый коврик, сальная свечка и лохматые жирные карты. Азарт дикий и во всю ночь. Куча медных денег и лихорадочно горящие глаза под клеймеными лбами. Тихо и чинно, чтоб начальство не услышало; обузданная и почти безмолвная, но отчаянная борьба за лишний чеканенный кусочек металла. Сущность та же, что и в висбаденском казино. Здесь тот же майдан, только что понаряднее…
– В прошлом году, – продолжал развлекать свою даму француз, – здесь сильно проигрался один молодой грек. Что-то, кажется, около семисот тысяч. И можете себе представить – сел за стол, где шла крупная игра, неожиданно выхватил пистолет – и ну палить в воздух! Все разбежались, а он, продолжая стрелять, захватил все золото и был таков.
– Вот на эти случаи в Саксон-Ле-Бене изобрели «виатик»: выдача проигравшемуся суммы на отъезд…
– Нет, знаете, грек-то побольше собрал. Пистолет выгоднее…
Банкир спокойно придвигал к себе груду тонких монеток. Со всех сторон завистливые взгляды устремлялись на его добычу. Пожалуй, еще кто-нибудь выхватит из-под полы пистолет…
А может быть, и всегда: игра – это путь к преступлению? Произвольное течение золота и случайное скопление его в дряблых старческих руках – да разве это не вызов к убийству? Да может ли полный сил и задатков игрок, проигравшийся в пух и сорвавший все планы и замыслы, не посягнуть на бессмысленную добычу этих дряхлых счастливцев?
Разве сам он не думал об этом однажды?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































