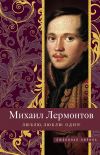Текст книги "Избранное. «Былое и думы» Герцена. Декабристы – исследователи Сибири. Н. Н. Миклухо-Маклай. Мои чужие мысли. Статьи"

Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«Случай удобен. Если мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов», —
писал Пущин Фонвизину, когда началось междуцарствие. Декабристы в благодарной памяти потомков заслужили имя героев, сознательно вышедших на верную гибель, почти не надеясь победить. «Страшно далеки они от народа», писал Ленин; этой далью они и были обречены на поражение.
Молодой император стянул к Сенатской площади, где выстроилось каре восставших, верные правительству войска. Противники стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям. Обе стороны выжидали, обмениваясь редкими выстрелами. Вялая атака конногвардейцев была отбита московцами. Смеркалось, дул холодный ветер. Люди стойко стыли на ветру. Вдруг правительственные полки расступились: батарея артиллерии стала между ними. Разверстые зевы пушек сверкнули в сером мерцании сумерек. После первой команды залпа не последовало: «Как стрелять-то, ведь там свои», – говорили артиллеристы. Но вот вторая команда – и завизжала картечь. Восставшие дрогнули; одни кинулись под арку, на Галерную, другие на лед Невы. Лед ломался под ногами бегущих, темнея, теплея от крови. Галерная через минуту была завалена трупами: тут были солдаты, матросы и просто зрители. Пальба длилась около часу. Осколки стекол сыпались из окон Сената, снег мелкими вихрями крутился над площадью. В промежутках между выстрелами можно было слышать, как кровь струилась по мостовой, растопляя снег. Среди мертвых ползали раненые. Они пробирались к воротам, но визг картечи и смерть настигали их всюду.
Тщетно Николай и Александр Бестужевы на Галерной пытались собрать и построить бегущих, чтобы упорядочить отступление; тщетно Михаил пытался построить колонну на льду Невы: все было кончено. Император победил. Первым приказом молодого царя было арестовать заговорщиков и убрать трупы, отмыть со стен кровь, посыпать лед песком. Во дворец, окруженный кольцом из пушек и пылающих костров, а оттуда в Петропавловскую крепость, всю ночь приводили участников восстания – обезоруженных, со связанными веревкой руками. Во льду на Неве были проделаны проруби: туда спускали мертвых, а иногда и живых. Все было кончено. Николай Бестужев, переодетый простым матросом, попытался скрыться, но был схвачен неподалеку от Кронштадта. Александр и Михаил Бестужевы сами явились во дворец. Рылеев, Никита Муравьев, Корнилович, Торсон, Пущин и многие-многие десятки других стали узниками – сразу или через несколько дней. Все было кончено. Начиналась трагедия следствия и комедия суда.
Само собой разумеется, что в казематах Петропавловской крепости литераторам было не до занятий литературой, а ученым – наукой. Узник Алексеевского равелина Николай Бестужев бился уже не над усовершенствованием корабельных приборов и не над теорией земного магнетизма: выломанным из вентилятора жестяным крылышком, отточенным о печь, он буравил кирпичную кладку стены – за стеной сидел брат Михаил. Измученные сознанием поражения, запуганные угрозами пыток и смертной казни, сбитые с толку милостивыми обещаниями царя, голодные, закованные в кандалы, они обдумывали уже не проблемы механики, истории, физики, а ответы на бесконечные вопросные пункты, присылаемые им из следственной комиссии. От каждого ответа зависела собственная участь, участь товарищей, участь семейств… Одни спешили покаяться, другие держались достойно, поражая следователей бестрепетной прямотой ответов. Но интересно отметить, что многочисленные записки, поданные декабристами царю из казематов Петропавловской крепости, – записки, в которых они объясняли причины и цели восстания, – богаты, кроме обличений неправды, взяточничества, насилий, тиранства, обширными материалами из области быта, экономики, истории родной страны. «Негры на плантациях счастливее многих помещичьих крестьян», – пишет императору Александр Бестужев. И тут же обильные сведения о причинах неурожаев в России, о причинах упадка торговли и банкротства купцов. Записка Штейнгеля богата сведениями о хлебной торговле, о штрафах, о финансах, об откупах, о налогах, о состоянии флота. Записка Якубовича трактует вопросы финансовой политики и обложения налогами… В апреле 1826 года Торсон из могилы каземата просит разрешения послать царю записку об усовершенствованиях, необходимых русским кораблям. В мае коменданту сообщено, что царь милостиво позволяет Торсону писать «о разных собранных им полезных сведениях касательно флота». Весь опыт замечательного мореплавателя, ученого исследователя новых земель, изобретателя и кораблестроителя, всю ненависть к бюрократам и казнокрадам, уничтожающим «прекраснейшее творение великого Петра», вложил он в свою записку. Это было как бы завещание, написанное ученым моряком накануне его гражданской смерти.
После томительного заключения, а затем путешествия на фельдъегерской тройке с жандармом – путешествия, скрашенного встречами с поджидающими на станциях родными, сочувствием безвестных крестьянок, торопливо крестящих «несчастных» или бросающих им в сани пятаки и баранки, – глазам осужденных открылся неведомый край.
«Когда мы утром тихо тянулись по подъему, верст 20 до станции, стоящей одиноко, уныло на самом гребне хребта, – вспоминает декабрист Лорер, – и когда с вершины открылось необозримое море лесов – синих, лиловых, с дорогой, лентой извивающейся по ним, то ямщик кнутом указал вперед и сказал:
– Вот и Сибирь!»
Лишь немногие из осужденных были сосланы прямо на поселение – в города и села Сибири; для большинства же из них Сибирь обернулась Благодатском, Читой, потом Петровским заводом. И как только физические силы узников, изнуренных дорогой, стали постепенно восстанавливаться и страшные воспоминания о суде и следствии отступать на задний план, привычная потребность умственной деятельности брала свое, глаза просились к книге, руки – от лопаты, тачки, мельницы, молота – к перу и бумаге. Узники Читы и Петровского обучали друг друга иностранным языкам, Никита Муравьев читал лекции по стратегии и тактике, Николай Бестужев – по истории русского флота, лекарь Вольф – по физике, химии и анатомии, Бобрищев-Пушкин – по прикладной математике, Корнилович – по истории России, Одоевский – по истории русской словесности. Муханов сочинял и вслух читал товарищам повести, Николай Бестужев – воспоминания о Рылееве, Михаил Кюхельбекер рассказывал о кругосветном плавании на шлюпе «Аполлон», Торсон докладывал о путешествии в Антарктику, – о том самом путешествии, отчет о котором на воле все еще не удавалось напечатать… Возбужденная умственная деятельность помогала узникам Читы и Петровского коротать часы, дни, недели, бесконечные годы каторги, помогала бороться с тяжелыми приступами хандры, а то и безумия. Но постепенно – для одних через 8, 10, для других через 12 и через 15 лет – двери тюрьмы отпирались и каторжники «обращаемы были на поселение». Тут, на берегах Ангары и Лены, Енисея и Селенги происходила встреча лицом к лицу, без палисадов, замков, решеток и охраны с могучими реками Сибири, с ее тайгой, степью, с ее людьми. Вся многолетняя научная подготовка, совершавшаяся на воле и в тюрьме, оказывалась теперь мобилизованной для изучения новой, открывающейся перед глазами страны. И чем в большей степени, чем глубже удавалось поселенцам вдуматься в нужды того края, куда занесла их судьба, полюбить его и сродниться с ним, тем ощутимее и плодотворнее оказывались результаты их научной и общественной деятельности.
Николай I отличался врожденным солдафонским, скалозубовским неуважением к таланту. Мало сказать неуважением: это была какая-то органическая, глубокая ненависть, вызываемая, быть может, смутной догадкой о том, что талант – это тоже власть, что талант нелегко укротить, даже располагая целым корпусом жандармов, что талант светит, хоть загони его под землю, что в выдающихся деятелях русской культуры таится сила, неподчиненная ему, непокорная, существующая вопреки его воле.
Рассадив декабристов по казематам крепостей, разослав их по рудникам, каторжным тюрьмам, кавказским полкам, он нанес жестокий ущерб развитию русской культуры. С возмущением писал о его постыдной роли Лев Толстой:
«Когда какой-нибудь смельчак решался докладывать, прося смягчения участи сосланных декабристов или поляков, страдающих из-за той любви к отечеству, которая им же восхвалялась, – он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: “…Рано!”, как будто он знал, когда будет не рано и когда будет время»[21]21
«Полное собрание художественных произведений». М. – Л., 1930, повесть «За что», т. 15, с. 71.
[Закрыть].
Однако гнусный замысел Николая можно считать удавшимся только наполовину: дарования декабристов не погибли в Сибири. Декабристы явились исследователями быта, нравов, языка, преданий, религии, песен населяющих Сибирь народов; они изучали ее климат, ее природу, ее растительный и животный мир; они вводили усовершенствования на ее заводах и на ее полях; они стали учителями, лекарями, просветителями ее населения. Сначала им было запрещено иметь чернила, бумагу и перья; потом разрешено писать, но запрещено печататься; многое, написанное ими в Сибири, истреблено ими в ожидании обыска, затеряно почтовыми чиновниками, уничтожено рукою жандарма – и все же научная работа декабристов не погибла: одинокие ручейки мало-помалу одолевали препятствия и неслышно вливались в могучую реку великой русской культуры.
Глава первая
«На берегу широкой Лены»
Есть для меня потомство, если нет современников.
А. Бестужев
В художественных произведениях декабристов суровая прелесть Сибири впервые блеснула под пером Рылеева.
В начале 1823 года Рылеев задумал поэму об участнике заговора Мазепы, Войнаровском, сосланном со всей семьей на Лену, в Сибирь. Читатель встретился в поэме Рылеева с отважными охотниками-якутами, с караванами русских купцов; заглянул в светлые воды Байкала, услышал шум тайги, увидел белую равнину и разнообразные склоны гор.
В изображении Рылеева герой поэмы – мужественный борец за свободу родины. С подлинным Войнаровским – авантюристом, представителем алчной казацкой старшины, образ, созданный Рылеевым, не имеет ничего общего. Да и не во имя документальной точности была написана эта поэма вождем тайного общества. Не о прошлом думал Рылеев, работая над своей поэмой, а о настоящем и будущем России; не о судьбе Войнаровского, а о своих современниках, борцах за освобождение Родины, об их трагической и славной участи.
Поэме предшествовало посвящение – стихи, обращенные к единомышленнику и близкому другу Рылеева Александру Александровичу Бестужеву.
Вместе издавали они альманах «Полярная звезда», вместе писали революционные песни, ходившие по рукам среди солдат:
Ты скажи, говори,
как в России цари
правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят, —
вместе готовились погибнуть в борьбе за свободу родной страны.
Прими плоды трудов моих, —
писал, обращаясь к Александру Бестужеву, Рылеев, —
Плоды беспечного досуга,
Я знаю, друг, ты примешь их
Со всей заботливостью друга.
Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства;
Зато найдешь живые чувства, —
Я не Поэт, а Гражданин.
Все произведения Рылеева, говорящие о прошлом, всегда были глубоко современны, всегда являлись внятным призывом к политической борьбе. Призывом к борьбе была и поэма о Войнаровском. Рылеев написал ее для того, чтобы еще раз воскликнуть:
Но я решился: пусть судьба
Грозит стране родной злосчастьем;
Уж близок час, близка борьба, —
Борьба свободы с самовластьем.
Потерпев поражение в этой борьбе, герой поэмы Рылеева оказывается сосланным в «страну метелей и снегов», в Сибирь. Там, на берегу широкой Лены, в дебрях тайги он случайно встречается с Миллером, русским ученым, изучавшим историю, нравы и природу Сибири.
В стране той хладной и дубравной
В то время жил наш Миллер славный.
В укромном домике, в глуши
Работал для веков в тиши.
...........................................
В часы суровой непогоды
Любил рассказы стариков
Про Ермака и казаков,
Про их отважные походы
По царству хлада и снегов.
Герой поэмы встречается с Миллером на охоте, приглашает ученого к себе в юрту и рассказывает ему свою печальную, но гордую повесть.
Перенеся место действия поэмы в Сибирь, Рылеев сделал попытку реалистически изобразить Якутск, суровую сибирскую зиму и короткую весну. Он позаботился о том, чтобы в его романтической поэме проступили подлинные краски сибирской природы и сибирского быта. В ту пору, в связи с открытиями русских путешественников на Тихом океане, в Арктике и в Америке, с ростом сибирской торговли и горнозаводского дела, с развитием на новооткрытых землях пушных промыслов, интерес к далеким северо-восточным морям и землям в передовом русском обществе увеличивался с каждым годом. С жадностью читались описания путешествия Крузенштерна и Лисянского, посетивших в начале нового века Камчатку, Курильские острова, Сахалин и остров Кадьяк; путешествия Хвостова и Давыдова в северной части Тихого океана; описания плаваний Головнина и плаваний Коцебу. С уважением вспоминались имена простых русских людей, казаков, звероловов, промышленников, бесстрашных морепроходцев и землепроходцев XVII и XVIII веков, которые пядь за пядью осваивали хребты и таежные дебри Сибири, не боясь ни буранов, ни пустынных пространств, ни грозных льдов на вечно бурных морях. Подвиги Ивана Москвитина, Владимира Атласова, Семена Дежнева, Василия Пояркова – могли ли они не увлечь живое воображение поэта?
Работая над поэмой, Рылеев изучал сочинения путешественников по Северной Сибири, отрывки из которых нередко появлялись в журналах в начале двадцатых годов. Пользовался он, по-видимому, и знаменитым «Описанием сибирского царства» Миллера (того самого Миллера, с которым встречается в Сибири и беседует главный герой его поэмы), а быть может, и работами великого предшественника декабристов Радищева, опубликованными в 1811 году. К его услугам были и многотомные труды знаменитых академических экспедиций, организованных Российской академией наук во второй половине XVIII века: экспедиции по Сибири Палласа, Соколова и Зуева, путешествия Георги, изучавшего Забайкалье…
Но были у рылеевской поэмы не только книжные – живые источники. Как раз в 1820 году Рылеев тесно сошелся с двумя будущими декабристами – Владимиром Ивановичем Штейнгелем и Гаврилой Степановичем Батеньковым – уроженцами Сибири и крупными сибирскими деятелями, да и помимо них многие из будущих декабристов живо интересовались Сибирью. Таков был молодой моряк Завалишин, вместе с Лазаревым и Нахимовым совершивший кругосветное путешествие на фрегате «Крейсер», побывавший в Калифорнии и возвратившийся в Петербург через Сибирь, горюя о том, что недостаток судов и сильный разлив реки помешали ему «разведать Амур». Таков был Корнилович, напечатавший в «Северном архиве» за 1825 год статью «Известие об экспедициях в Северо-Восточную Сибирь флота лейтенанта Барона Врангеля и Анжу в 21, 22 и 23 гг.» – историю замечательной русской экспедиции на северо-восточные берега Сибири.
«…мы можем похвалиться подвигами наших мореходцев, – писал Корнилович в этой статье – …Беллинсгаузен, находясь в южном Ледовитом море, был далее Кука и совершил свое путешествие кругом света скорее, нежели сей английский мореплаватель; наконец, гг. Врангель и Анжу во время исследований северо-восточного берега Сибири, исполнив сие поручение с успехом, испытали в сей экспедиции трудности, с которыми едва могут сравняться столь много прославленные подвиги капитанов Парри и Франклина. Все иностранные журналы наполнены сведениями об их путешествии; все ждут от нас подробностей об оном…»
Сам же Рылеев был близок к одному из руководителей Российско-Американской компании, члену Государственного Совета адмиралу Мордвинову, и в 1824 году поступил в Компанию на службу. Это была полуправительственная, полукупеческая коммерческая организация, учрежденная, как гласил ее устав, для «промыслов на островах и на матерой земле Северо-Западной Америки», то есть «на тех землях Американского материка, которые тогда принадлежали России. Естественно, что во всех своих торгово-промышленных предприятиях Компания теснейшими узами связана была с Сибирью.
Многое влекло членов тайного революционного общества к сближению с руководителями организации, чья деятельность на островах Тихого океана и в русских владениях Америки с небывалым прежде размахом открывала новые заманчивые пути для русской торговли. Но более всего Рылеева и его друзей влекло к Компании желание сблизиться с купечеством, завязать тайные связи не только среди дворянства, но и среди представителей нового крепнувшего сословия.
Рылеев, братья Бестужевы, Завалишин, Корнилович, Штейнгель, Батеньков, братья Кюхельбекеры охотно бывали на обедах у Ивана Васильевича Прокофьева – директора Компании, а когда там же поселился Рылеев – дом на Мойке, близ Синего моста, сделался для будущих декабристов родным. Члены тайного общества – настоящие и будущие – постоянно собирались на скромных «русских завтраках» у Рылеева и на пышных обедах у Прокофьева; Александр Бестужев и Штейнгель подолгу жили в этом доме. Поэт Кюхельбекер с любопытством расспрашивал посетителей Рылеева, побывавших в Тихом океане, о том, «как стреляют бобров и котов морских в селении нашем в Америке, называемом “Росс”», а моряк Романов, совершивший на одном из кораблей Компании кругосветное плавание, горячо объяснял собравшимся необходимость «для географических познаний и торговых выгод отечества нашего» сухим путем достигнуть из русской Америки Ледовитого океана и Гудзонова залива.
Непосредственно же о самой Сибири Рылеев в пору своей работы над поэмой более всего мог получить сведений от Штейнгеля и Батенькова – урожденных сибиряков, много лет прослуживших в Сибири. Отец Штейнгеля, капитан-исправник Нижне-Камчатского округа, преследуемый кознями лютого и пьяного начальства, кочевал по Сибири и Камчатке, таская за собой жену и детей: 1014 верст по старой Охотской дороге проделал мальчик в берестяном коробе, привязанном к седлу. Окончив морской корпус, Владимир Иванович водил транспорты по бурному Охотскому морю, потом стал начальником Иркутского адмиралтейства. Штейнгель многое мог порассказать поэту о якутских юртах, обмазанных глиной, о том, как ледяная каша на Лене не дает ходу байдарке, о том, как оживляется заброшенный Якутск во время весенней ярмарки, о меткости тунгусов-охотников, о бесстрашии сибирских ямщиков, о хищничестве сибирских чиновников…
Еще более мог быть полезен Рылееву своими богатыми познаниями о Сибири Гаврила Степанович Батеньков. Он, как и Штейнгель, был коренной сибиряк. Родился Батеньков в Тобольске, татарскую грамоту, по собственному признанию, усвоил ранее русской и мальчиком любил слушать рассказы дяди Осипа, промышлявшего котика на Алеутских островах. После войны, оправившись от ран, Гаврила Степанович получил назначение на службу в родную Сибирь в качестве управляющего Х округом путей сообщения. Он построил в Томске новую мостовую, новый мост, укрепил набережную реки Ушайки. Три весны подряд наблюдал он в Томске вскрытие рек; результаты своих наблюдений он записал, сопроводив замечаниями по «общей теории стечения двух рек». Эти три записи Батенькова – первые в России гидрометрические наблюдения над речными разливами. Но настоящий размах придала деятельности молодого инженера служба при Сперанском, явившемся в 1819 году в Сибирь ревизовать и благоустраивать край. Когда Сперанский прибыл в Тобольск, Батеньков подал ему проект о преобразовании путей сообщения в Сибири, составленный так, чтобы облегчить дорожную повинность, отягощавшую туземное население. Сперанскому понравился проект, заинтересовал его и автор проекта. Прежде чем преобразовывать страну, необходимо было досконально изучить ее, собрать возможно больше географических, статистических, этнографических, экономических сведений. Добывать этот материал Сперанский и поручил Батенькову. Он приблизил молодого инженера к себе, ввел его в свой личный штат и дал целый ряд поручений. Батеньков ездил в Кяхту для обозрения тамошней границы и кяхтинской торговли; ездил в Иркутск, чтобы выяснить, возможно ли заменить деревянную набережную Ангары земляным откосом, обследовал состояние кругобайкальского тракта и предложил учредить новый, более удобный и короткий. Им был составлен проект геодезической съемки Сибири, статистическое описание крупнейших сибирских городов, написан вместе со Сперанским новый устав о ссыльных и устав, уничтожающий страшный закон, в силу которого дети каторжников не выходили на волю, а тоже обречены были оставаться каторжниками… Он составлял учебники для школ взаимного обучения, учрежденных Сперанским в Сибири; докладывал о «соляных ключах Якутии», о необходимости «иметь попечение», чтобы чиновниками «не был утесняем» якутский народ. Недаром уже в старости, неволей заброшенный в Сибирь, Батеньков писал:
«Многие здешние установления мною изобретены и названы. В ходе дел течет мое собственное слово».
Описание гор и рек сибирских – и «зимний океан снегов», и «олень, закинувший за спину рога», и «длинношерстный чабак» – словом, сибирские краски явились в поэме Рылеева как отблеск вечерних дружеских бесед. Впрочем, Батенькову, Штейнгелю, Рылееву, Александру Бестужеву было о чем побеседовать в эту преддекабрьскую бурную пору и помимо соляных ключей Якутии и удобств кругобайкальского тракта. У каждого из участников этих оживленных разговоров накопилось достаточно горьких наблюдений, чтобы любовь к родному народу обернулась ненавистью к его угнетателям. Александр Бестужев, хотя и был лихим танцором, щеголеватым гвардейцем и бойким литератором, желанным гостем в редакциях журналов и в светских гостиных, хотя и ожидала его впереди блестящая карьера, трезво смотрел на окружающее, и собственные успехи не заслоняли от него бедствий родного народа. С горячностью рассказывал он друзьям о возмутительной продаже крестьянских семейств в розницу, о вымогательствах чиновников, о том, как в Кронштадтском адмиралтействе матросов запрягают в телеги вместо лошадей. Батеньков не мог забыть Лоскутова, нижнеудинского исправника, любителя порки; тот никогда не являлся в селах иначе, чем окруженный казаками и возами прутьев. Когда Сперанский со свитой приблизился к Нижнеудинскому уезду – люди, выбегая на дорогу, падали на колени перед его возком и неподвижно стояли по пояс в грязи с просьбами на головах. Сперанский арестовал Лоскутова. Двое белых как лунь стариков не поверили глазам своим и, дергая генерал-губернатора за полу, шепотом твердили ему: «Как бы тебе, батюшка, чего худого не было; ты, верно, не знаешь – ведь это сам Лоскутов!»…
В последние годы Батеньков вынужден был служить под начальством Аракчеева и вдоволь нагляделся на злодейства, творящиеся в военных поселениях, да и Штейнгель, хотя и занимал в Москве высокие посты, немало повидал и претерпел чиновничьих утеснений и козней… Что с того, что Батеньков исследовал реки и горы, богатства Сибири и нужды ее населения, – все шло прахом в руках у Аракчеевых и Лоскутовых. Что с того, что Штейнгель преобразовал иркутское адмиралтейство по последнему слову техники? Его сместили, адмиралтейство снова развалилось. Что с того, что после пожара Москвы Штейнгель славно поработал над восстановлением Кремля и колокольни Ивана Великого? Начальству он не умел угодить, двор смотрел на него косо, Александр I не любил его – он снова лишился места. Что с того, что все они готовы работать на пользу родного народа – строить мосты и набережные, писать статьи и стихи, прокладывать дороги, водить корабли, учить ребятишек – пока делами заправляет Аракчеев и царь, дарования и добрая воля образованнейших людей России никому не нужны…
«Разговоры про правительство, негодование на оное, остроты, сарказмы встречались беспрестанно, коль скоро несколько молодых людей были вместе, – вспоминал впоследствии об этом времени Батеньков. – Зрелище военных поселений в Западной Сибири, угнетаемой самовольным и губительным управлением, общее внутреннее неустройство, общие жалобы, бедность, упадок и снижение торговли, учения и самых чувств возвышенных, неосновательность и бездействие законов – все, с одной стороны, располагало не любить существующий порядок, с другой – думать, что революция близка и неизбежна… В январе 1825 года пришла мне в первый раз мысль, что поелику революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна, то мне непременно должно в ней участвовать и быть лицом историческим».
К концу 1825 года сборища в доме у Синего моста сделались уже настоящими политическими сходками: там обсуждали будущую конституцию, толковали об освобождении крестьян, о способах расправы с царской фамилией и о том, что не худо было бы привлечь на сторону революции члена Государственного совета, известного резкостью и прямотой своих мнений Мордвинова и либерального законодателя Сперанского… Количество участников тайного общества росло с каждым днем. «Я почел бы себя недостойным имени русского, если бы отстал от них», – так сообщал впоследствии Батеньков о своем вступлении в общество… В этой раскаленной обстановке надвигающихся революционных событий обсуждалась в доме у Синего моста и сибирская поэма Рылеева. Александр Бестужев со свойственной ему быстротой и легкостью сочинил предисловие к поэме друга. Сибири в своем сочинении он не коснулся – Сибирь не занимала его воображения, его, как истинного романтика, более влекли к себе пламенная Таврида и снежные вершины Кавказа. Предоставив ученому приятелю Рылеева Корниловичу объяснять в примечаниях, что такое «даха», «чабак» и «юрта», Бестужев взял на себя труд изложить полную приключений биографию главного героя. И уж, конечно, слушая звучные строфы поэмы, рассеянно пропуская мимо ушей педантические замечания Штейнгеля о приемах охоты на оленя, он и вообразить себе не мог, что в поэме описан один из будущих эпизодов его собственной жизни, что скоро он сам, собственными своими глазами, увидит и Лену, и тайгу, и «толпу преступников усталых», что истину слов Данта, избранных Рылеевым в качестве эпиграфа: «Нет большего горя, как вспоминать о счастливом времени в несчастье…», он скоро проверит на себе самом, когда в якутском одиночестве станет вспоминать о петербургских друзьях.
Эти люди предугадывали судьбы России, предугадывали и судьбу восстания, но никто из них, разумеется, не знал, какая судьба в ближайшем будущем ожидает его самого. Бестужев не знал, что скоро он окажется в Якутске, в том самом Якутске, где встречаются герои поэмы Рылеева, революционер и ученый, и сам встретится там с ученым, и сам станет героем революционной поэмы, только написанной уже не Рылеевым, а другим – далеким – поэтом; седой неудачник Штейнгель не знал, что скоро в его жизни совершится еще одна неудача – последняя… Батеньков не знал, что в родную Сибирь он вернется полуодичавшим узником, разучившимся ходить, говорить, смеяться, истомленным двадцатилетним одиночным заключением, которое сведет его с ума; что в горячечном бреду в равелине он напишет в припадке жалости к самому себе: «Милой, бесчастной… Доколе ты будешь страдать? Как могло быть, что на двадесятом годе твоей жизни не нашлось от солдата до царя – кто бы тебя понял…», а очнувшись от бреда, станет вопрошать из каменного гроба стихами:
Скажите: светит ли луна?
И есть ли птички хоть на воле?
И дышат ли зефиры в поле?
По-старому ль цветет весна?
Ужели люди веселятся?
Ужели их, их не страшит?
Друг смеет другу поверяться
И думает и говорит?
И сам ответит себе:
Не верю. Все переменилось.
Земля вращается, стеня,
И солнце красное сокрылось…
Что в бреду он будет называть цели общества безумными, всячески отрицать свое участие в нем, а очнувшись, твердою рукой напишет на вопросном листе:
«Странный и ничем для меня необъяснимый припадок, продолжавшийся во время производства дела, унизил моральный мой характер… Постыдным образом отрицался я от лучшего дела моей жизни. Я не только был член Тайного общества, но член самый деятельный. Тайное общество наше отнюдь не было крамольным, но политическим. Оно, выключая немногих, состояло из людей, которыми Россия всегда будет гордиться. Ежели только возможно, я имею полное право и готовность… разделить с членами его все, не выключая ничего. Болезнь во время следствия, по всей справедливости, не должна бы лишать меня сего права. Цель покушения не была ничтожна, потому что она клонилась к тому, чтобы, ежели не оспаривать, то по крайней мере привести в борение права народа и права самодержавия, ежели не иметь успеха, то по крайней мере оставить историческое воспоминание. Никто из членов не имел своекорыстных видов. Покушение 14 декабря не мятеж, как к стыду своему именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции политической».
…Он не знал, что его друг, наставник, мудрый покровитель и любезный хозяин Сперанский, заподозренный Николаем в сочувствии восставшим, окажется не членом нового правительства, как предполагали заговорщики, а членом суда над ними и, чтобы заслужить доверие царя, станет ревностно изобретать для подсудимых хитроумные вопросы и со свойственным ему педантизмом, столь знакомым Батенькову по совместной работе в Сибири, разобьет осужденных на разряды, сформулирует вину каждого разряда и определит наказание. Что единственным, кто осмелится протестовать против смертной казни, будет действительно неподкупный Мордвинов…
Александр Бестужев 14 декабря энергично помогал брату своему Михаилу и князю Щепину-Ростовскому поднять и вывести на площадь московский полк. Согласно терминологии следственного дела, Александр Бестужев «во все время происшествия… возбуждал нижних чинов к буйству и к уклонению от присяги…» Он ушел с площади одним из последних, сделав тщетную попытку собрать солдат и защитить отступление… К концу ночи, когда сквозь белесый ночной туман уже занялась заря нового утра, Александр Бестужев понял, что все кончено, и решил, не скрываясь далее, явиться на гауптвахту дворца. Он явился туда надушенный и разодетый, как на бал. После короткого допроса в кабинете царя его вывели на площадь. Взвод солдат окружил его, чтобы вести в крепость. Бестужев сам скомандовал солдатам «марш», поймал шаг и щеголевато зашагал с ними в ногу.
Его посадили в Петропавловскую крепость, в Алексеевский равелин и заковали в железа. 10 января 1826 года он потребовал чернил и бумаги; со свойственным ему блеском и горячностью, с тем «сердечным красноречием», которым так любовался в его критических статьях Пушкин, он написал записку об истории свободомыслия в России. Он писал о казнокрадстве чиновников, о насилиях помещиков, о заколачивании палками солдат. Записка предназначалась царю. Но видно легче было произносить горячие речи перед взволнованным строем солдат, держаться храбрецом под градом пуль, лихо скомандовать «марш» конвою, который вел его в крепость, написать царю благородное послание, чем переносить зловещую тишину каземата, ожидание смерти и бесконечные провокации следователей. Николаю I удалось запутать Александра Бестужева в искусно сплетенных сетях. На допросах он сбивался и говорил иногда лишнее – во вред себе и другим. Он был приговорен к смертной казни через отсечение головы, но помилован и после года заключения в крепости Свартгольм увезен на поселение в один из городов Восточной Сибири – в Якутск… в тот самый, увековеченный Рылеевым, Якутск!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?