Текст книги "Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар"
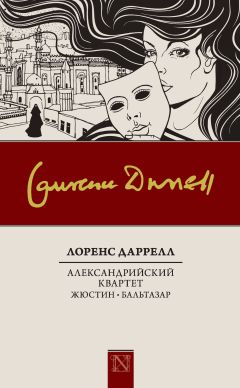
Автор книги: Лоренс Даррел
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)
Все страны света, все до одной
Пусть сойдутся во всеоружье,
И мы (ик!) им покажем!»
«Было ясно, что попугай тоже пьян. И голос звучал так странно в этой комнате, пустой и зловещей (Клеа я ничего рассказывать не стал, не хотел ее расстраивать, она ведь тоже была к нему очень привязана)».
«Ну, затем обратно в участок, с мундиром под мышкой. Нам повезло, никаких следов Китса поблизости видно не было. Мы снова заперлись в камере, глотая воздух, как две потные рыбы на пляже. Тело закоченевало так быстро, что надеть на него китель, не сломав при этом рук, казалось делом немыслимым: они были тонкие – на просвет – и ломкие, как сельдерей, по крайней мере мне так показалось; так что я пошел на компромисс – завернул его просто-напросто в китель и застегнул пару пуговиц. С брюками было проще. Нимрод честно попытался помочь мне, но его тут же вырвало, и большую часть времени он провел, интеллигентно рыгая в углу. Он действительно принял эту историю близко к сердцу и, помню, все повторял еле слышно: “Бедный старый педик”. Как бы то ни было, в результате наших героических усилий угроза скандала была ликвидирована; кстати, едва мы успели привести твоего друга в некоторое соответствие с общепринятыми нормами, и тут же до нашего слуха донеслось тарахтение “глобовской” машины – ее с другой не спутаешь, а следом – голос Китса, уже из дежурки».
«Да, не забыть бы тебе сказать, что в течение следующих нескольких дней были два смертных случая и двадцать с чем-то острых отравлений араком из района Татвиг-стрит, так что Скоби, можно сказать, не ушел, не попрощавшись с соседями. Мы попытались сделать анализ этого пойла, но правительственный химик-эксперт, взяв несколько проб, в конце концов сдался. Одному Богу известно, какого черта твой старичок там понамешал – и зачем».
«При всем том похороны получились – загляденье (хоронили его с отданием всех почестей, как офицера, погибшего при исполнении служебных обязанностей), и там была вся Александрия. Пришла целая толпа арабов, его соседей. Не часто приходится слышать мусульманские завывания над христианской могилой; и о. Павел, католический капеллан, был скандализирован сверх всякой меры, а может быть, он просто испугался, что нечистый дух самогона вызовет из-под земли всех афритов Иблиса – как знать? Ну, и обычные здесь прелестные ляпы – по недосмотру, конечно, не по злому умыслу (могила оказалась маловата, могильщики начинают ее расширять, но, сделав ровно половину, объявляют забастовку и требуют еще денег; карета греческого консула срывается с места – лошадь понесла – консула потом выуживают из колючего кустарника и т. д. и т. п.), – мне кажется, я тебе уже писал. Скоби, наверно, именно об этом и мечтал – чтобы лежать покрытым славой и чтоб оркестр полицейских сил играл “Последнюю вахту” – пусть не очень стройно и сбиваясь то и дело на египетскую микрохроматику – над отверстой могилой. А речи, а слезы! Сам же знаешь, люди не стесняются в подобных случаях. Было такое впечатление, будто я случайно попал на похороны святого. Вот только перед глазами у меня все стояла та старушонка в полицейском участке!»
«Нимрод говорит, что когда-то он был весьма популярен в своем quartier [187]187
Квартал (фр.).
[Закрыть], но потом стал вмешиваться в религиозные обряды – обрезание детей его, кажется, не устраивало, – и его открыто возненавидели. Ты ведь знаешь арабов. Они будто бы даже грозились его отравить. Конечно, он переживал. Он ведь столько прожил там, и, я думаю, другой-то жизни у него и не осталось. С экспатриантами такое часто случается, не так ли? Короче говоря, он начал пить и “ходить во сне”, как говорят армяне. Его всячески оберегали и даже выделили специально двоих полицейских, чтобы те бдели за ним во время “прогулок”. Но в тот вечер он от них удрал».
«“Как только человек начинает переодеваться, – говорит Нимрод (он и в самом деле совершенно лишен чувства юмора), – это – начало конца”. Но в данном случае он прав. Не сочти за дерзость. Медицина научила меня смотреть на вещи с некоторой иронической отстраненностью – только так можно сберечь энергию, силу чувств, принадлежащих по праву тем, кого мы любим, – и не тратиться зря на мертвых. По крайней мере, таково мое мнение».
«Нам ли тягаться в выдумке с реальной жизнью, со всем ее гротескным арсеналом ужимок и выкрутасов? И как только художникам достает безрассудства пытаться раз за разом набросить на нее сетку смыслов – личных, слишком личных? (Сей камушек и в твой огород тоже.) Ты, конечно, ответишь, что на то и лоцман, чтобы указывать по курсу мели и зыбучие пески, радости и горести и тем дать нам всем над ними власть. Все это так, но…»
«Хватит на сегодня. Осиротевшего попугая приютила Клеа; она же заплатила и за похороны. Писанный ею портрет Скоби так и остался, должно быть, стоять на полке у нее в комнате – наверняка не знаю. Попугай, кстати, все еще говорит его голосом, и она даже жаловалась мне как-то раз: он ее пугает, такое иногда говорит… Как ты думаешь, может ли человеческая душа поселиться в теле зеленого амазонского попугая, чтобы хоть немного продлить во времени память о человеке? Хотелось бы так думать. Но теперь – это совсем уже давняя история».
IX
Когда бы ни случилось Помбалю всерьез расстроиться («Mon Dieu! Я сегодня разложился совершенно!» – его английский бывает порой весьма причудлив), к душевным мукам он тут же спешил добавить основательный приступ подагры, чтобы освежить память о своих норманнских предках. Специально для такого рода состояний у него было старинное, обитое красным плюшем судейское кресло с высокой спинкой. Он садился в кресло, клал любовно закутанную ногу на особую скамеечку, читал Mercure и размышлял на вечно свежую тему – какого рода выговор, а то и перевод по службе он получит за очередную свою gaffe [188]188
Бестактность, промах, ляп (фр.).
[Закрыть], и как скоро. Весь его отдел – ему ли не знать – имел на него зуб и рассматривал его поведение (пьяница и бабник) как не подобающее по статусу. Конечно, они ему просто завидовали – состояние у него было не то чтобы очень значительное и не могло вовсе избавить его от печальной необходимости работать за деньги, но все же позволяло ему жить более или менее en prince [189]189
По-княжески (фр.).
[Закрыть] – если можно считать княжеской нашу крохотную с ним на двоих, насквозь прокуренную квартирку.
Поднимаясь в тот день вверх по лестнице, я уже знал, что встречу наверху нечто полуразложившееся, – уж очень сварливый у него был тон. «Это вам никакие не новости, – повторял он, взвинчиваясь раз от раза. – Я вам запрещаю об этом писать». Одноглазый Хамид встретил меня в коридоре – запах сгоревшего масла – и безнадежно махнул слабой рукой. «Мисс, она ушла, – сказал он; сие имело означать, что Мелиссы нет дома, – давно после обеда в шесть. Мистер Помбаль очень нехорошо». Имя друга моего он произносил так, словно в нем вовсе не было гласных; вот так: Пмбль.
Заглянув в гостиную, я обнаружил Китса, большого и потного, нелепо раскинувшегося на стареньком диване. Он ухмылялся, сдвинув шляпу на затылок. Помбаль сидел, как на нашесте, в кресле для подагры, нервный и злой. В воздухе стоял ощутимый запах похмелья и очередной gaffe. Что унюхал Китс на сей раз? «Помбаль, – сказал я, – где ты умудрился так отделать свою машину?» Помбаль охнул и провел ребром ладони по своим вторым и третьим подбородкам, тему я выбрал явно неудачную; очевидно, Китс пытал его о том же.
Помбалева малолитражка, о которой шла речь, его любимое детище, стояла во дворе только что не смятой в лепешку. Китс с шумом втянул воздух и сглотнул. «Это все Свева, – сказал он, – а мне не разрешают дать в номер». Помбаль застонал и принялся раскачиваться в кресле: «Он не хочет рассказать мне, как все было на самом деле».
Помбаль начал сердиться всерьез. «А не убраться ли вам к чертовой матери?» – рявкнул он. Китс, всегда готовый стушеваться перед человеком, чье имя фигурирует в дипломатических списках, встал и сунул блокнот в карман, мигом стерев с лица улыбку. «Ухожу, ухожу, – сказал он и, как щитом, прикрылся, так сказать, каламбуром: – Chacun à son gout [190]190
«У каждого – свой вкус» (фр.), но gout – по-французски «вкус», а по-английски – «подагра».
[Закрыть], не так ли?» – уже спускаясь по лестнице. Я уселся напротив Помбаля и стал ждать, пока тот успокоится.
«Очередная gaffe, дорогой мой, – сказал он наконец, – и во всей affaire Sveva самая пока наихудшая. Она, знаешь… бедная моя машина… ты ее видел? Вот, пощупай, какой у меня желвак на шее. А? Чертов камень».
И он с обычной страдальческой миной, жестикулируя бурно и нервно, принялся описывать последний постигший его удар, а я попросил Хамида принести нам по чашке кофе. С его стороны вообще было неблагоразумно затевать интрижку со Свевой – дамой весьма огнеопасной, – и вот теперь она была в него влюблена. «Влюблена! – стонет Помбаль и корчится в кресле. – Сам ведь знаешь, женщины – моя слабость, – кается он, – а с ней все было так просто. Боже мой, это вроде как – подходит официант и кладет к тебе на тарелку блюдо, которое ты не заказывал или кто-то другой заказал, а тебе принесли по ошибке; она вошла в мою жизнь… как bifteck a point [191]191
Хорошо прожаренный бифштекс (фр.).
[Закрыть], как фаршированный баклажан… Что мне оставалось делать?»
И вот вчера я подумал: «Если все принять во внимание: ее возраст, состояние зубов и так далее, так она может, чего доброго, заболеть, и это вылетит мне в копеечку». Кроме того, мне вовсе не нужна любовница в качестве perpetuum mobile. И я решил съездить с ней вдвоем в какое-нибудь тихое местечко у озера и там сказать ей «прости». И вдруг – как она взовьется! Выскочила из машины, потом к реке – а там на берегу чертов уйма камней. Я слова сказать не успел, и тут вдруг Piff Paff Pang Bong! Жестикулирует он весьма красноречиво. «Воздух просто набит камнями. Лобовое стекло, фары, все, все… Прихожу в себя мордой в сцеплении, лежу и ору. Шишку ты щупал. Ну совсем рехнулась. Когда ничего стеклянного не осталось, она схватила валун тонны в две весом и начала лупить по машине и после каждого удара кричала “Amour! Amour!” – маньячка, самая настоящая. Я этого слова в жизни слышать больше не желаю. Радиатор к черту, крылья все помяты. Видел, да? Вот ты поверил бы, что девчонка может быть на такое способна? А дальше знаешь, что было? Я тебе скажу, что было дальше. Она бросилась в реку. Нет, ты встань на мое место. Я плавать не умею, она тоже. Если б она утопла, представляешь, какой бы вышел скандал! Ну и я, конечно, за ней. Мы вцепились друг в друга и орали, как две трахнутые кошки. А уж воды я наглотался! Потом пришел какой-то полицейский и вытащил нас. Бесконечный procès-verbal, туда-сюда… Я утром даже не стал звонить в консульство, духу не хватило. Нет, жизнь не стоит того, чтобы жить».
Он был на грани слез. «Это уже третий мой скандал с начала месяца, – сказал он. – А завтра карнавал. Знаешь что? Я долго думал и родил идею. – Он заговорщицки улыбнулся. – На карнавале я себе тылы обеспечил – даже если напьюсь и выйдет какая-нибудь история, как всегда. Я так замаскируюсь – просто шик. Ага!» Он вдруг пристально посмотрел на меня, словно прикидывал, можно ли мне доверять. Результаты наблюдения, очевидно, вполне его удовлетворили, он развернулся к буфету и сказал: «Если я тебе скажу, ты ведь не проболтаешься, а? Мы ведь, в конце концов, друзья. Дай-ка мне шляпу, там, на верхней полке. Ты сейчас со смеху умрешь».
В буфете я обнаружил огромную широкополую шляпу по моде года этак девятьсот двенадцатого, увенчанную целой зарослью ветхих страусовых перьев – сей букет был прикреплен к тулье длинной толстой булавкой с массивной головкой из голубого камня. «Эту, что ли?» – спросил я недоверчиво; Помбаль самодовольно усмехнулся и кивнул. «Ну, кто меня в ней узнает? Дай сюда…»
Я действительно чуть не умер со смеху – настолько потешно он в ней выглядел, – и на память мне тут же пришел Скоби в своей дикой Долли Варден. Он был похож на… нет, того, что сотворило это пернатое чудо с жирной его физиономией, описать решительно невозможно. Он тоже рассмеялся и сказал: «Правда, вещь? Мои засранцы-коллеги в жизни не догадаются, кто была эта пьяная женщина. И если генеральный консул не напялит домино, я… я стану делать ему авансы. Я сведу его с ума, я зацелую его насмерть, страстно. Старая свинья!» Внезапная вспышка ярости только подлила масла в огонь – он стал выглядеть еще комичней, – и я взмолился, чтобы не задохнуться от смеха: «Сними ты ее, ради всего святого!» – и снова увидел перед собой Скоби.
Он снял шляпу и немного посидел, ухмыляясь, пораженный собственной гениальностью. Что бы он завтра ни натворил, все будет шито-крыто. «Костюм у меня тоже есть, – добавил он гордо. – До последней булавки. Так что берегись меня, понял? Ты ведь тоже там будешь, да? Я слышал, будет два больших бала одновременно, и мы сможем кочевать с одного на другой, а? Чудесно. Мне даже полегчало, а тебе?»
Та самая роковая шляпа, что послужила непосредственной причиной роковой смерти Тото де Брюнеля следующей ночью, на балу у Червони, – Жюстин была уверена, что эту смерть муж припас для нее самой, я же… Но вернусь к Комментарию, туда, где обрывается мой след.
«Проблема с ключиком от часов, – пишет Бальтазар, – с тем самым, который ты тогда помогал мне искать в трещинах между камнями на Гранд Корниш – зимой, помнишь? – разрешилась весьма странным образом. Я тебе говорил – мой хронометр тогда остановился, и я даже успел заказать ювелиру новый золотой анкх, точную копию. Но пока суд да дело, ключ ко мне вернулся, и вот при каких обстоятельствах. В один прекрасный день ко мне в клинику пришла Жюстин, обняла меня, поцеловала – и вынула его из сумочки. “Узнаешь? – спросила она, улыбнулась и добавила: – Извини меня, Бальтазар, дорогой мой, ты так переживал из-за меня. А мне в первый раз в жизни пришлось поиграть в карманного воришку. Понимаешь, в доме есть один сейф, и я решила во что бы то ни стало получить к нему доступ. На первый взгляд ключи показались мне одинаковыми, и я решила попробовать, не подойдет ли к замку твой. Я хотела вернуть его тебе на следующее же утро, пока ты не хватился пропажи, но кто-то взял его у меня с туалетного столика. Не говори никому, ладно? Я подумала: может, Нессим увидел его случайно, понял, в чем дело, и взял, чтобы самому посмотреть – подходит он к сейфу или нет. К счастью (или к несчастью), он не подходит, и сейф я открыть не смогла. Но и шум поднимать тоже было опасно – а вдруг он его и в глаза не видел; а у меня не было никакой охоты привлекать к этому ключику внимание – а он еще такой похожий… Я проверила Фатму, не в лоб, конечно, и обыскала все свои шкатулки. Пусто. А через два дня Нессим принес его сам и сказал, что обнаружил его только что в коробочке для запонок; сходство со своим он, конечно, заметил, но о сейфе не сказал ни слова. И просто попросил меня вернуть его тебе и по возможности извиниться за задержку”».
«Конечно, я был обижен и так ей и сказал: “В конце-то концов, что ты забыла в Нессимовом сейфе? – спросил я. – На тебя это совсем не похоже, и, должен тебе заметить, мое о тебе мнение отнюдь не улучшилось – после всего того, что Нессим для тебя сделал”. Она опустила голову и сказала: “Я только надеялась – может, там окажется хоть что-нибудь о ребенке – Нессим, как мне кажется, что-то от меня скрывает”».
Часть 3
X
«Сдается мне (пишет Бальтазар), что если ты попробуешь каким-то образом включить все рассказанное мной в свою рукопись – “Жюстин”, так ты ее назвал? – книга у тебя получится более чем странная. История будет рассказана, так сказать, на разных уровнях. Сам того не подозревая, я, быть может, подсказал тебе ее форму, нечто новое, необычное! Помнишь Персуорденову идею насчет романа “с раздвижными панелями” – есть что-то общее, правда? Или как в средневековом палимпсесте, где идущие от разного корня истины наслаиваются друг на друга и каждая отрицает, а может быть, и дополняет предыдущую. Монахи трудятся, скоблят и на месте элегии пишут стих из Священного Писания!»
«Не думаю также, чтобы эту аналогию нельзя было с успехом применить к александрийской действительности, сакральной и в то же время профанной; скользишь меж Феокритом, Плотином – и Септуагинтой – по сообщающимся кровеносным сосудам разных рас, – и звучит ли истина по-коптски, по-гречески или по-еврейски – на арабском ли, на турецком, на армянском… Разве я не прав? Действие времени на пространство неторопливо, как оседает в Дельте ил на морское дно, нанося песок, выстраивая острова, меняя русла… Так с возрастом жизнь оставляет на лицах людей, мазок за мазком, морщины, след пережитого, перечувствованного, и кто отличит след смеха от следа слезы? Кротовины опыта на песках бытия…»
Так пишет мой друг, и он прав; ибо Комментарий ставит теперь передо мной проблемы куда более серьезные, нежели проблема объективной «правды жизни» или, если хотите, «искусства». Он, как и сама жизнь, – вне зависимости от того, пытаешься ты ей навязать свою волю или плывешь по течению, – поднимает вопрос формы: эти камни тяжелей и тверже; и как же мне собрать воедино россыпь застывших кристаллами фактов, как выплавить из руды металл смысла и отлить в нем – мой город, град любви и бесстыдства?
Хотел бы я знать. Хотел бы я знать. Покров приоткрылся, и я увидел столько, что стою теперь, оторопев, на пороге новой книги – новой Александрии. Я рисовал магический знак, чтобы вызвать из мрака ушедших и умерших, я вплетал в рисунок имена городских талисманов – Кавафиса, Александра, Клеопатры и прочих, – я сам его придумал. Я присвоил явленный мне образ, я охранял его ревниво, и он был истина, но не вся, а только лишь часть от целого. И вот теперь, в ослепительном блеске новых моих сокровищ, – а истина, хоть она, подобно любви, и безжалостна, также не может не восприниматься как богатство – что мне делать дальше? Поставить новые пределы, отступив от истины прежней, забивая в фундамент бут, хриплый камень новых фактов, – и возвести на камне сим новую Александрию? Или пусть все будет по-прежнему: характеры, расстановка сил – может быть, наоборот, изменилась истина?
Всю весну я жил на острове, придавленный гротескным Бальтазаровым подарком, – чувства мои обострились невероятно, и, как ни странно, даже в отношении вещей куда как давних. Интересно, а возможно ли вообще чувство ретроспективное, ретроактивное?
Все, что я написал, основано было на страхе Жюстин перед мужем – и страх был непритворный, и слезы были искренними. Я своими глазами видел на его лице холодную немую ревность – и видел в ее глазах страх. И вот теперь Бальтазар говорит мне: он никогда не сделал бы ей зла. Чему верить?
Мы часто обедали вместе, вчетвером; и я сидел за столом, безмолвный, пьянея памятью о поцелуях (не выдуманных, настоящих), и верил – ведь она сама так сказала, – что присутствие четвертого, Персуордена, усыпит Нессимову ревность и даст нам свободу быть вместе! Если же верить Бальтазару, ширмой, обманкой был я. (Я вспомнил? или придумал задним числом? – воспоминание об особого рода улыбке, мелькавшей время от времени в уголках Персуорденовых губ, не то циничной, не то нахальной?) Тогда я думал, что прячусь за его спиной; выходит, он прятался за моей! До конца поверить в это мне мешает… что? Качественный анализ поцелуя женщины, способной прошептать «Я люблю тебя» так, словно ее вздернули на дыбу? Конечно же, конечно. В любви я эксперт – все мы эксперты в любви, но англосаксы в особенности. Итак, я должен верить поцелую, а не слову друга? Невозможно, ведь Бальтазар не врет…
Неужто слепота сопутствует любви по определению? Конечно, я отворачивал лице свое от мысли, что Жюстин способна изменить мне в то самое время, когда я ею обладаю, – а разве бывает иначе? Принять в то время истину настолько горькую я был не в силах, хотя в глубине души всегда знал, с самого начала: она не сможет хранить мне верность вечно. И если мне случалось прошептать самому себе эту кощунственную мысль, я тут же добавлял поспешно, как всякий муж, как всякий любовник: «Но, в конце концов, что бы она ни делала, любит она по-настоящему одного меня!» Такие софизмы способны утешить, – такая ложь только лишь и дает любви длиться!
Да и сама она ни разу не дала мне прямого повода в ней усомниться. Только однажды, помню, возникло у меня в связи с Персуорденом – даже не подозрение, намек на подозрение, и тут же растаяло. Однажды он вышел нам навстречу из студии, и на губах у него был след губной помады. Но едва ли не в тот же самый миг я заметил у него в руке сигарету – он, должно быть, просто подобрал сигарету, оставленную Жюстин в пепельнице едва начатой (вполне в ее стиле), на фильтре тоже была губная помада. Если хочешь найти объяснение, нет ничего проще, чем найти его сразу.
Чертов Комментарий, под завязку груженный вопросительными знаками; он обладает удивительным свойством всегда попадать в больное место, о чем бы ни зашла речь. Я уже начал переписывать его – я имею в виду, от начала до конца – медленно и через силу; и не только для того, чтобы лучше понять, где и в чем он противоречит собственной моей версии реальности; я хочу увидеть его как некое единство – как самостоятельную рукопись, как сторонний взгляд на события, которые я понял однажды по-своему и прожил, как понял, – или они меня прожили. Неужто и вправду я столького не видел, прямо у себя под носом, – коннотации улыбок, случайных слов и жестов, послания, написанные пальцем в лужице пролитого на стол вина, адрес, нацарапанный на уголке газеты, которую тут же свернули и отложили в сторону? Неужто придется наново переработать весь мой опыт, чтобы все же пробиться к истине, к самому ее сердцу? «У истины сердца нет, – пишет Персуорден. – Истина – женщина. Потому она – загадка. А женщина, и это большее, что мы, не будучи французами, можем о ней сказать, есть животное ночное».
Согласно Бальтазару, я неверно понял саму природу страхов Жюстин в той их части, что имела отношение к Нессиму. Я, кажется, уже писал об инциденте с машиной: Жюстин ехала ночью на Нессимовом «роллсе» цвета ночной бабочки через пустыню в Каир, чтобы встретиться с Персуорденом, и вдруг погасли фары. Ослепленная тьмой, она крутанула руль, и, слетев с дороги, машина запрыгала с бархана на бархан, выхлестывая из-под колес длинные струи песка – как агонизирующий кит. Затем, «свистя как стрела», «роллс» врезался в очередной бархан и остановился, бормоча и подрагивая, засыпанный песком по лобовое стекло. К счастью, она не пострадала, и у нее хватило присутствия духа выключить мотор. Но что случилось с фарами? Пересказывая мне события той ночи, она говорила, что позже, когда осматривала машину, обнаружила подпиленные кем-то проводки – кем?
Насколько я помню, именно после этого случая ее страхи относительно Нессима приобрели реальные очертания. Она и раньше говорила: да, он ревнует; однако ни о чем подобном даже и речи не было – а трюк был в лучших традициях Александрии. Чтобы представить мои собственные опасения, особо богатой фантазии, я думаю, не нужно.
И вот в Бальтазаровых заметках я читаю о том, как дней за десять до аварии она увидела из окна студии Селима: он шел через лужайку к машине; уверенный, что никто за ним не наблюдает, он открыл капот и вынул из-под него маленький черный диск – у Нессима в офисе был диктофон, и вставляли в него точь-в-точь такие же – по крайней мере, так ей тогда показалось. Селим завернул диск в тряпочку и унес в дом. Прежде чем предпринять что-то, она долго сидела у окна, курила и думала. Затем спустилась вниз, села в машину и погнала ее подальше в пустыню, чтобы осмотреть повнимательней. Под капотом был закреплен небольших размеров аппарат – ничего похожего видеть ей прежде не доводилось, ей, однако, показалось, что он похож на записывающее устройство. Проволочка шла куда-то в сторону приборной панели – должно быть, там, в путанице разноцветных проводков, был спрятан микрофон. Хотя микрофона она так и не нашла. Тем не менее она подрезала пилкой для ногтей проволочку в нескольких местах, ничего больше не трогая, – с виду прибор был в полном порядке. Вот тогда-то, по мнению Бальтазара, она либо нечаянно вытянула из гнезда, либо повредила по неосторожности другой проводок – тот, что шел к фарам. По крайней мере, она ему так сказала, хотя мне ни о чем подобном слышать от нее не доводилось. Если верить Бальтазару, она, столько раз заводившая со мной разговор о нелепой, непростительной нашей беспечности, об опасностях, которым мы себя подвергаем, на самом деле лишь подзадоривала меня, заманивала – и я болтался у Нессима перед глазами, как красная тряпка перед быком!
Но только лишь поначалу; позже, уверяет меня Бальтазар, явилось нечто, всерьез заставившее Жюстин подозревать мужа в неком заговоре против нее: а именно – убийство Тото де Брюнеля во время карнавального бала у Червони. Почему я раньше не писал об этом? Я ведь помню тот бал, я там был, но все же, хотя трагическое это происшествие как нельзя лучше соответствовало тогдашней атмосфере, прочие были и небыли заслонили его от меня. Александрия в то время была на удивление богата подобного рода неразгаданными тайнами. И хотя я прекрасно знал, каким именно образом Жюстин склонна была толковать сие печальное событие, сам я не очень-то ей тогда верил. И все же не могу понять, почему я даже не упомянул об этой смерти, хотя бы мельком. Как и следовало ожидать, истинное объяснение настигло меня месяцы и месяцы спустя: я уже сидел на чемоданах, собираясь покинуть Александрию – навсегда, как мне казалось, – вдвоем с девочкой, дочерью Мелиссы, дочерью Нессима. Клеа как-то раз, ночью, рассказала мне правду – из первых рук!
Карнавал в Александрии – мероприятие сугубо светское, и никаких календарных совпадений с религиозными празднествами любого толка. Мне кажется, когда-то его учредили члены трех-четырех могучих здешних католических семейств – пытаясь, может быть, хоть как-то сохранить чувство сопричастности противоположному берегу Средиземного моря – Венеции и Афинам. Но сейчас, по-моему, не осталось в городе ни одной состоятельной семьи, у которой не стоял бы дома наготове шкаф, доверху набитый бархатными домино, в ожидании трех дней хаоса, – будь то копты, мусульмане или евреи. После Нового года карнавал – самый любимый в городе христианский праздник; и дух, безраздельно царящий в течение этих трех дней и ночей, есть дух анонимности, всеобщей и полной: домино, зловещее черное бархатное домино, способное стереть без следа приметы лица и пола, – оно не даст вам отличить мужчину от женщины, жену от любовницы, врага от друга.
Безумнейшие вихри темной воли города выходят из подполья, ведомые и направляемые невидимыми демонами Хаоса, королями шутов, хозяевами праздника. Стоит лишь солнцу скрыться, и на улицах появляются маски – поначалу одиночки, пары; потом небольшие компании, с музыкальными инструментами, с барабанами – они оглашают песнями и смехом свой путь в какой-нибудь богатый особняк или в ночной клуб, где прихваченный ночным морозцем воздух уже омыт черномазым жаром джаза – перенасыщенным раствором, попеременным хрюканьем и взвизгом саксофонов и ударных. В бледном сиянии луны они вырастают как из-под земли, закутанные, подобно монахам, в черные плащи с капюшонами. Одинаковость костюмов сообщает им всем мрачное, униформное единство силуэта – в походке одетых в белое египтян сквозит тревога, тот самый сквозняк страха, что позже бросит щепоть перца в льющийся из окон безумный смех, – легкий полуночный бриз донесет его, быть может, до кафе на берегу; веселье на пределе, на грани безумия, срыва.
Голубоватая весенняя луна медленно карабкается вверх по крышам домов, по минаретам, по лохматым затылкам чуть потрескивающих пальм, и под ее лучами город оживает, как просыпается от зимней спячки зверь: он выбирается из-под земли, распрямляет затекшие члены и с головой, жадно уходит в музыку трехдневного веселья.
Выплескивается из погребков джаз и будоражит зимний тихий воздух проспектов и парков, долетает до берега, чтобы смешаться, может быть, с глуховатым рокотом винтов океанского лайнера в глубоководных руслах эстуария. Или слышишь вдруг и видишь на секунду рябь и плавные кривые фейерверков на черном небе – небо сворачивается по краям и вспыхивает разом, как загоревшийся лист копирки; сумасшедший смех в странной смеси с хриплым мычанием старенького парохода за пирсом – как будто забыли за воротами корову.
«Кто любит – бойся карнавала», – гласит поговорка. Появляются закутанные в черное ночные существа, и вместе с ними появляется тревога, поначалу едва ощутимая. Город живет быстрее, жарче, воздух теплеет, и чувствуешь вдруг кожей лица первые легкие прикосновения весны. Carni vale – ежегодный праздник плоти, мумия на три дня сбрасывает пропитанные смолами бинты пола, имени и лица и нагой ступает во вседозволенность грезы.
Один особняк за другим распахивает двери – к сказочным чертогам, где пляшут отраженные языки пламени на фарфоре и мраморе, на латуни и меди, на графитно-черных лицах спешащих по неотложным делам слуг. И вдоль каждой улицы, поблескивая в сумеречном лунном свете, выстраиваются лимузины брокеров и игроков на бирже, как лайнеры в доке, терпеливые символы богатства, спокойные сознанием собственной силы: богатства, неспособного дать своим обладателям настоящего покоя, спокойствия духа, ибо платить за него приходится душой: всей, без остатка. Они стоят тихо, опутанные паутиной лунного света, как молчаливый знак власти Машин, – ждут своего часа, и он не за горами; они стоят и смотрят, как мелькают в освещенных окнах маски, сцепившись тенями рук, похожие на черных медведей – завороженные ритмом черной музыки, одного из последних утешений белого человека.
Всплески музыки и смеха долетают, должно быть, до окошка Клеа – она сидит с доскою на коленях и терпеливо рисует, а маленькая кошка спит у ее ног в корзинке. Или – во внезапной паузе – возникший вдруг гитарный перезвон остается надолго, повисает посреди улицы в воздухе, отразившись многократно от стен, пока не смешается с ним пришедший издали голос, который взбирается по песне, как по лесенке, как со дна колодца. Или – ближе – крик о помощи.
Но что действительно придает карнавалу свойственный ему дух озорной и злой свободы, так это бархатное домино – широким жестом предлагая на пробу универсальнейшую в мире машкеру и самую – втайне – желанную. Стать анонимом в анонимной толпе, не выдать себя ни полом, ни родством, ни даже выражением лица – ибо свихнувшаяся эта ряса с капюшоном оставляет доступными взгляду и свету только глаза, блестящие, как глаза арабских женщин – или медведей. И больше никаких опознавательных знаков, в тяжелых складках тонет даже контур тела. Бедра, груди, лица – домино стирает все. И, скрытые под карнавальным ритуалом (как преступные желания в самых темных закоулках душ, искушения, сопротивляться коим бесполезно, импульсы воли на правах судьбы), лежат колючим грузом семена свободы, какую даже и представить себе человек осмеливается лишь невзначай. Вступает домино – и запретов более не существует. Все гениальнейшие в городе убийства, все трагедии ошибок случаются во время карнавала; и большинство любовных драм завязываются и разрешаются в течение этих трех дней и ночей, когда мы – на миг – обретаем свободу от рабства паспортных данных, от самих себя. Едва надев плащ, поднявши капюшон, жена теряет мужа, муж – жену, любовник – любовницу. Воздух становится хрустким от запаха кровной вражды и дурачеств, от ярости драк, от отчаяния, от агонии поисков – ночь напролет. Кто твой партнер по танцу: мужчина? женщина? – как знать? Темные токи Эроса, в иные времена в глубокой тайне пробивающие путь в бетонных дамбах, в тех крепостях, что охраняют сердца и души, вдруг получают свободу перехлестывать через вершины гор, как валы потопа, и принимать по желанию многообразные формы чудищ – тех неведомых нам отклонений от нормы, которым, сдается мне, лишь и питаются людские души – им место на Брокене или в Иблисе. Сатир, забывший о собственной сути, и потерявшая память менада могут встретиться здесь – и вспомнить, вместе. Как можно не любить карнавала, когда совершаются – и искупаются – все грехи, когда каждый счет предъявлен к оплате, когда исполнимы самые невероятные желания – без вины, без колебаний, без боязни быть наказанным – по совести ли, по закону?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































