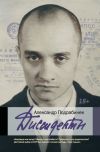Текст книги "Девочка и тюрьма. Как я нарисовала себе свободу…"

Автор книги: Людмила Вебер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
«Сборка»
Впервые я услышала о «сборке» еще на спецах от Тамары Репиной. Она рассказывала об этом месте как об одном из самых жутких на «шестерке». «Там так ужасно, так ужасно!» – все повторяла она. И очень радовалась, что нам, обитателям спецов, не нужно было проходить через эту самую «сборку».
Но жители общих камер были вынуждены проходить через нее всякий раз, когда их заводили или выводили из корпуса. То есть путь в камеру был не прямым, а «транзитным». И мог растянуться во времени до бесконечности.
Находилась «сборка» на минус первом этаже, то есть, по сути, в подвале. На том же уровне что и карантинные камеры. Попадали на «сборку» через небольшой предбанничек. Там за окошком сидел сотрудник и следил за всеми входящими и выходящими людьми. Дальше шел обыкновенный учрежденческий коридор с кабинетами во все стороны. Один конец коридора был отгорожен решеткой – там находились две совершенно одинаковые камеры, где запирались заключенные. Каждая представляла собой прямоугольник примерно в двадцать пять квадратных метров. Высоченный потолок, под потолком, напротив двери – узкое окошко. По периметру вдоль стенок – пристроены деревянные лавки. У самой двери – туалетный отсек, загороженный пластиковыми хлипкими стенками. На первый взгляд, мало отличающееся от любой тюремной камеры помещение. Но это на первый взгляд…
Однажды после моего перевода на общий корпус я возвращалась со «следки». И вместо того, чтобы отвести в обратно в 107-ю, меня отправили на «сборку», в одну из этих «сборочных» камер.
Едва я вхожу в камеру – на секунду замираю как вкопанная. Потому что не знаю, куда ступать дальше. Весь пол покрыт слоем грязи, шелухи от семечек и окурков. Однако понимаю, что вот так стоять неизвестное количество времени тоже невозможно. И начинаю осторожно ходить по периметру. Стараясь ни до чего не дотрагиваться. О том, чтобы сесть на лавку, даже и речи не может быть! Потому что грязью покрыт не только пол, но и все остальные поверхности: лавки, стены, перегородки туалета. Все покрывает серый жирный слой копоти. Визуальную грязь дополняет острая вонь из туалета и от застоявшегося табачного дыма. Представьте себе худший вокзальный сортир времен позднего СССР и умножьте это на сто. Вот в каком состоянии была эта камера! Что очень странно, особенно на фоне того, с каким рвением чистились и драились все остальные помещения в данном СИЗО.

Стены были покрыты различными рисунками и надписями. Почти всплошную – до того уровня, куда могли дотянуться человеческие руки. Номера хат, имена, ауешные[12]12
АУЕ – с 17 августа 2020 года признано движением экстремисткой направленности и запрещено на территории России.
[Закрыть] лозунги, жалобные стихи, приветы всем подряд. И множество сообщений о том, кто на какую зону едет. Дело в том, что человек, отправляющийся на этап, должен был долгие часы куковать на этой «сборке». В ожидании этапной машины. И только когда приезжал «зеленый» фсиновский КАМАЗ, заключенный наконец узнавал, куда его этапируют, на какую именно зону. По правилам, сложившимся еще в сталинские времена, этапируемому запрещалось знать о месте назначения. А то мало ли – вдруг его дружки захотят организовать побег где-нибудь по пути? Пункт назначения раскрывался только в самый последний момент. И тогда этапируемый быстренько царапал здесь, на стенке, сообщение. К примеру, такое: «Аня, Х-204, Мордовия». Это означало, что Аня из 204-й камеры едет в Мордовию. А на следующий день какая-нибудь девчонка из 204-й камеры попадала сюда, на «сборку», и находила это послание. Так все и узнавали, кто куда уехал. Так и работал пресловутый «тюремный телеграф», через который передавались все местные новости, слухи и сплетни.
Но больше всего мне запомнилась огромная надпись у самой входной двери: «Твори бардак, мы здесь проездом!» Эта разухабистая надпись казалась криком души человека, застрявшего в когтях пенитенциарной системы. Человека в злом отчаянии. Которому уже нечего терять. Это было словно лихое итоговое резюмирование постулатов: «Никого не жалко!» и «Не мы такие, жизнь такая!»
Но, пожалуй, эта надпись воплощала не только отчаяние тюремного сидельца. Возможно, лозунг: «Твори бардак, мы здесь проездом!» – таился в душе каждого гражданина нашей родины. Нашей несчастной страны. Где мы живем с постоянным ощущением «проезда» через некую «сборку». В состоянии непрерывного пути. Из точки рождения – к некоему счастливому будущему, все убегающему от нас куда-то вперед…
Я стою и глазею на эту надпись как завороженная. А в ушах стоит громкий лай собак. Я догадываюсь, что где-то неподалеку держат овчарок, которые охраняют эту тюрьму. И я вспоминаю, где еще я слышала ровно такой же захлебывающийся лай. Такой же непрекращающийся и злой. В фильмах о фашистах! Где показывали концлагеря. Там звучала точно такая же фонограмма!..
И от этого гулкого инфернального лая – просто мороз по коже. А может, еще и от того, что в этом помещении – невероятно холодно. Я думала, что холодно было в карантинной камере. Но оказывается, здесь еще холоднее!..
И вот эти составляющие: грязь, вонь, лай собак, дикий холод – делали эту сборочную камеру такой жуткой. А то, что сидеть тут приходилось по много-много часов, превращало ее в настоящую пыточную.
В тот первый раз я пробыла там около часа. Пока меня наконец не повели досматривать. «Ручной досмотр» происходил в первом кабинете. Здесь обыскивали тело, вещи, сумки и так далее. Именно здесь меня раздели догола и ощупали всю одежду в тот день, когда я только поступила в СИЗО. В следующем кабинете стоял сканер с лентой для просвечивания сумок, такой же, как на входе в железнодорожный вокзал или метро. В кабинете напротив стоял прибор, где досматривали заключенных с помощью рентгена. Специальная рентгеновская установка для персонального досмотра Homo-Scan. В ней человек сканировался с головы до ног – и тогда ни в каком телесном отверстии ничего уже нельзя было утаить. Дальние кабинеты были превращены в мини-конвойки для тех, кого уже досмотрели.
По логике, каждого заключенного, которого привозили на автозаке или приводили со «следки», нужно было сначала посадить в одну из сборочных камер, а затем – прогнать через все виды досмотра. По очереди. И в финале запереть в мини-конвойку. При этом за каждым должно было вестись неустанное наблюдение, чтобы человек, переходя из кабинета в кабинет, ничего никому не смог бы передать, и вообще – куда-либо спрятать. Это в теории. Но на практике этот протокол выполнялся, если досматривалось лишь несколько заключенных одновременно. А если десять, или двадцать, или больше, то – с большими огрехами.
Сотрудников на «сборке» всегда не хватало. Хорошо, если работали пара-тройка человек, но чаще всего это была одна единственная дежурка. А автозак подвозил скопом до сорока заключенных. Автозаков могло быть и несколько. Так на «сборке» собиралось до восьмидесяти человек одновременно, и всех нужно было сначала оформить на бумаге, потом прогнать через досмотровые кабинеты. И тогда начинался сущий хаос.
Люди бегали между кабинетами. И в этом сборочном коридоре за ними никто не успевал приглядывать. В то же время сюда просачивались те, кто только что приехал. За которыми тоже никто не смотрел. Так что тут почти всегда царил такой бардак, что особо ловкий заключенный перед тем как попасть на ручной обыск, а затем – на Homo-Scan вполне мог незаметненько передать «запрет» своим соседям. И без проблем забрать уже после досмотров. Вот так вот и проносились в СИЗО пресловутые телефоны…
Обыски в большой камере
Поскольку центром мироздания в тюрьме были телефоны, вокруг которых все и вертелось, то все трагедии, драмы, победы строились на том, нашли или не нашли тот или иной телефон при очередном обыске…
А обыск к нам нагрянул уже на третий день моего пребывания в 107-й. Дверь камеры с грохотом отворилась, в нее не спеша ввалились несколько сотрудников: «Обыск! Все выходят! Дежурная остается!»
Здесь имелась в виду та дежурная, которая значится таковой в журнале сотрудников. Фактически фейковый человек. Мы узнавали о том, кто назначен официальной дежурной только на вечерней проверке. Сотрудники вписывали в свой журнал кого придется. Причем в совершенно случайном порядке. Некоторые фамилии «дежурили» в этих записях по несколько дней подряд. Первой обязанностью такой дежурной было назвать на проверке число людей, находящихся в камере. А второй – расписаться в журнале за выдаваемые в камеру нож и ножницы. Но у нас за все это расписывался любой подвернувшийся под руку человек. Потому что сотрудники могли назначить дежурным того, кто в тот день вообще вывозился из СИЗО. Они-то не следили за такими «мелочами». Именно поэтому в камере всегда велись свои собственные списки, в которых и значились реальные дежурные.
Но сейчас на обыске вместо официальной дежурной остается старшая. Сотрудникам – фиолетово. Они не возражают. Все обитатели камеры начинают собираться на выход. Кто слезает со спального места, кто спешно бежит в туалет, кто одевается потеплее. Людей много, и процесс выхода длится минут десять-пятнадцать. В коридоре каждого вышедшего обыскивают: дежурка обхлопывает с ног до головы, заставляет вынуть все из карманов.
Нам приказывают выстроиться по парам, ведут по коридору, а затем – на второй этаж. Заводят в две небольшие камеры: одна глухая, без окна – для некурящих, а вторая, с зарешеченным окном – для курящих. Я захожу в ту, где не курят. Это помещение площадью метров пятнадцать, стены – не гладкие, а бугристые, словно из гигантской вулканической пемзы. Все выкрашено грязно-серой краской. Пол покрыт потрескавшимся кафелем. Очень холодно. Да, сюда нужно надевать уличную одежду…
Нас человек пятнадцать, и кое-кто, конечно же, курящий, просто не захотел стоять в сплошном дыму. Кто-то облокачивается о стену, кто-то присаживается на корточки. Кто-то ходит туда-обратно. Кто читает книгу, кто разгадывает сканворд. Все молчат. В воздухе такое напряжение, что хоть маслом режь…

Невозможно подсчитать, сколько всего обысков я прошла за все время заключения. Думаю, намного больше сотни… Сколько это было минут, сколько часов напряженного ожидания! Стоя в этой шмоновой камере. Или же в прогулочном дворике – иногда во время обыска выводили туда, особенно когда в СИЗО проводилось несколько обысков одновременно… И каждый раз это было настоящее испытание для психики. Да! Минуты обыска в большой камере были самыми стрессовыми для всех, и неважно, был ли ты персональным хозяином телефона или же нет. Если в камере находилась труба, то ею по справедливости могли воспользоваться все. Поэтому все одинаково переживали, найдут ли телефон именно в этот обыск, или же пронесет…
В тот раз был типичный, так называемый «плановый» шмон, который время от времени полагалось проводить в каждой камере. Силами самих сотрудников СИЗО.
Стандартный шмон проходил очень лайтово. Дежура просматривали пару сумок, а дальше – в течение минут сорока сидели и пили чай, как предполагали девчонки. Смотрели телевизор и курили. Ведь видеокамер в камере не было, и сотрудникам можно было делать тут что угодно. А поскольку во всех остальных местах изолятора за ними следили по видеокамерам, то получается, они могли расслабиться только в камерах заключенных. Вот такой вот парадокс…
Но так было, если перед сотрудниками не стояло задачи найти трубку. А вот если такая задача стояла, то тогда переворачивалось все, что можно. Вытряхивались все вещи, потрошились все сумки – особенно в угловых местах. И хотя заключенные достигали невероятного мастерства в деле прятания телефонов, зарядок и прочего, при должном старании сотрудники неизбежно что-нибудь да находили.
Но зачастую это был вопрос договоренности между камерой в лице старшей и людьми в форме. Пройдет ли конкретный обыск с потерями или же нет. Иногда старшей сразу предлагали: «Выдайте одну трубку, и мы уйдем. А вы сохраняете остальные – до следующего раза…» Иногда просто тупо искали до первой трубки и уходили.
Люди в форме в принципе понимали, что вообще без телефонов в тюрьме нельзя. Нельзя заключенных лишать абсолютно всех трубок! Если не будет возможности звонить, они взбесятся. У них поедет крыша. А еще – им нечего будет терять, и тогда их нельзя будет контролировать… А вот по чуть-чуть изымать телефоны – можно и нужно. Это бизнес. Факт отжатия телефона в таком плановом обыске обычно нигде не фиксировался, потому что дальше он шел на продажу в какие-нибудь соседние камеры.
Вернувшись в камеру после быстрого лайтового шмона, мы заставали относительно небольшой беспорядок, но главное – улыбающуюся старшую. Да, если старшая была веселой, то все выдыхали с облегчением. Значит, все прошло хорошо. Все трубки на месте! Девчонки быстренько убирались, и все возвращалось на круги своя.
Но если мы застревали в шмоновой камере часа на полтора-два, то было очевидно, что обыск идет не «по верхам». И все серьезно. И действительно, уже на подходе к камере мы видели валяющиеся на «продоле» коробки, веревки, контейнеры, журналы, вязаные пледы – все это при жестких обысках безжалостно изымалось под грифом «запретов». А заходя в камеру, мы обнаруживали раскуроченные сумки и спальные места. И главное – горестное лицо старшей. И все было понятно без слов. Тут же всех облетали новости об «ушедших» трубках. И траурная атмосфера воцарялась очень надолго…
Когда уходила та или иная трубка, это меняло многое. Это означало, что у каждого человека в камере будет меньше времени на телефонные разговоры, что давать звонить будут реже… А если уходило несколько трубок, то положение становилось и вовсе печальным…
Но по несколько трубок одновременно отшманывалось, как правило, лишь при фсиновских обысках. Именно эти обыски были настоящим кошмаром – не только для сидельцев, но и для сизошных сотрудников. Потому что, во-первых, изъятые трубки покидали территорию изолятора. И, во-вторых, наши сотрудники должны были лично отвечать за найденные трубки. Официально как-то за это объясняться. Писать отчеты и рапорты. И подчас получать взыскания.
Фсиновские обыски проводила специальная бригада сотрудников ФСИНа. Эдакие молодцы-архаровцы. В какой-то особой форме. Иногда со своими собаками. Все здоровые, сосредоточенные, с внимательными строгими лицами. С повадками кадровых военных. Прямо «солдаты рейха» в чистом виде. Они разительно отличались от наших местных дежуров, расхлябанных и недалеких. Один из таких архаровцев увидел как-то мои зашнурованные кроссовки и нехило так на меня наехал: «Почему шнурки? Откуда шнурки? Не положено! А ну снять!» Что? Я хожу в этих кроссовках уже невесть сколько времени, и ни один наш дежур не обратил на них внимания! Даже не почесался! А тут такой наезд… Я стою, глаза в пол, дрожащим голоском оправдываюсь, с интонацией «не ругайтесь, дяденька»:
– Э-э-э… Я не знаю… Мне так передали в передаче. Я не виновата…
Фсиновцы приезжали толпой человек в десять, с кучей больших металлических кейсов. В них находились различные приборы для обыска – их-то мы и боялись больше всего. Эти приборы могли найти все и везде…
Такие обыски начинались с того, что фсиновцы вваливалась в камеру всей толпой, быстро рассредоточивались по углам и внимательно за всеми следили. Чтобы никто ничего не успел спрятать. Так мы и собирались на выход: одевались, бежали в туалет – под стальными пристальными взглядами.
У выхода каждый подвергался тщательнейшему личному досмотру. Это вам не небрежное ощупывание или вялое сканирование «ракеткой» в исполнении сизошных дежуров. Тут все было по-гестаповски дотошно. Нужно было встать лицом к стене, широко расставить ноги, руки – на стену. Женщина-фсиновка тщательно прощупывала каждую складочку одежды, каждый шовчик. И сканировала тело каким-то суперприбором, который громко пищал у каждой пуговички или молнии. Этот досмотр на выходе мог длиться минут сорок – никто никуда не спешил. Какое настроение – такой и мрачно-похоронный темп. А в камере в качестве понятого оставалась та дежурная, что была указана на тот день в журнале. Никаких тебе старших, никаких поблажек…
Фсиновские обыски обычно проходили раз в несколько месяцев. И если бригада набрасывалась на СИЗО, то это означало, что они будут шуровать тут несколько дней подряд. И будет обыскиваться какой-нибудь один этаж. А вот какой именно этаж, и какие камеры – вопрос. Говорили, что камеры им указывают сами сотрудники изолятора. Те, камеры, которые провинились к примеру. Те, которые нужно наказать, проучить. Но это были лишь догадки…
Насколько я поняла, ФСИН сформировал для обысков специальный «летучий» отряд. Члены которого совершали набеги то на одно СИЗО, то на другое – и так по кругу. То есть на обыски приезжали фактически одни и те же люди, которые волей-неволей превращались в «старых знакомых». Одного из этих фсиновцев наши девчонки особенно отличали. По имени Давид. Он работал в системе уже много лет. И о нем постоянно курсировали слухи: то его на чем-то поймали, то уволили, то отправили на зону строгого режима. В общем, чувак постоянно ввязывался в истории.
Очень высокий, с великолепной мощной фигурой, статный. С выразительным, красивым какой-то крайне отталкивающей красотой, лицом. Так должен выглядеть типичный киношный антагонист. Я почему его так запомнила: однажды этот Давид появился у нас на «шестерке» в качестве… дежура! Выходим мы как-то на прогулку, а тут – Давид. Ничего себе, думаю! Почему он тут? Зачем? Он ведет нас по коридорам, подводит к одному из прогулочных двориков, открывает дверь. Я смотрю прямо перед собой и пересекаюсь взглядом с его большими темно-голубыми глазами – и получается, видимо, слишком пристально. Он вдруг грозно рявкает: «Чего уставилась!» Ох, от неожиданности я аж подскочила. Быстро опускаю глаза, и на обратном пути смотрю только под ноги.
Через пару дней Давид исчез, словно бы его и не было. Что произошло? Думаю, что его закинули к женщинам за какую-то очередную провинность. И то, что наказание длилось всего несколько дней, говорило о его непотопляемости…
«Сотрудничество с сотрудниками»
Обычно информация о набеге фсиновцев становилась известной сидельцам еще до начала шмона. Такие вести распространялись по изолятору моментально. По телефонам или по другим каналам связи. Люди старались к этим обыскам подготовиться. Припрятать телефоны как можно дальше и глубже…
В других СИЗО – мужских и «черных» – дежура сами предупреждали о фсиновских шмонах. Более того, пацаны собирали все свои трубки и отдавали их на «передержку» сотрудникам. А после ухода фсиновцев пакет, набитый гаджетами, в целости и сохранности возвращался в камеру. Настоящий перворазрядный сервис!
Нам, естественно, такое и не снилось. В лучшем случае дежурка могла лишь предупредить старшую о грядущем обыске. Если, конечно, отношения старшей с людьми в погонах были налаженными. Моя первая старшая, Лемехова, как раз-таки сумела выстроить такие особые отношения.
Высокая, черноволосая, 32-летняя Лемехова выглядела гораздо взрослее своих лет. Вернее, солиднее. Она держалась очень спокойно и уверенно. Эдакая бывалая, прошедшая огонь и воду атаманша из «Бременских музыкантов». Она мало вмешивалась в мелкие бытовые конфликты внутри камеры, отсыпаясь целыми днями после ночных телефонных бдений. Но очень твердо держала внешнюю оборону.
Именно при ней в камере изобиловали телефоны. Именно ее предупреждали об обысках. Помню, подозвали ее как-то к корме, она с кем-то поговорила, а потом вальяжно, буднично так оповещает камеру: «Девочки, сейчас будет обыск… Спрячьте все эмки и мойки». Что такое «мойка» – я уже знала. Но второе? Спрашиваю соседку:
– А что такое «эмка»?
– Да это малява! – смеется та…
То, что Лемехова по сути была все же еще совсем девчонкой, чувствовалось, когда она устраивала в камере общие игры. Она очень любила так вот повеселиться. Обычно уже после ужина внезапно приказывала: «Играем в фанты!» Или в «испорченный телефон». Или в «Угадай, кто ты?» В общем, в любые игры, где требовалось более десяти участников. Тут же набиралась толпа желающих. Принять участие в игре мог каждый. Все это дело очень любили – половина камеры играла, а вторая половина собиралась вокруг в качестве зрителей. Это и правда было очень увлекательно – часа на два-три люди совершенно забывали, что они в тюрьме. Исполняли самые причудливые фанты: «залезть на тумбочку и пропеть петухом», «сказать такие-то слова сотруднику во время вечерней проверки, какую-нибудь полную нелепость», «нарядиться в такую-то одежду и так выйти на проверку» и так далее. Пели песни, ломали головы над ребусами и загадками. Все от души хохотали: и участники, и зрители…
Но очень скоро я услышала, что Лемехова вот-вот отправится на этап. Оказывается, у нее уже имелся приговор – восемь лет за участие в банде «черных риелторов». И она ждала «апелляшку». На этом слушании ей не скосили ни дня и буквально через день – «заказали» на этап.
…Поздняя осень 2016 года. Мы все выстроились тесным кружком на «пятачке» вокруг Лемеховой. Она в короткой кожаной куртке и выглядит непривычно взволнованной. В руках – небольшая сумка, на которой пришита бирка из белой ткани. На бирке черными нитками вышиты ФИО, год рождения, дата начала срока и дата окончания срока. Лемехова говорит прощальную речь, голос ее дрожит, в глазах слезы. Сейчас эта «атаманша» такая беззащитная! И от этого у меня тоже комок подкатывает к горлу.
Лемехова говорит всем спасибо, желает «скорейшего освобождения» и другие полагающиеся в таком случае слова. Но самое главное – называет свою преемницу. Называет нашей следующей старшей – Ракият. И просит поддержать ее решение…
Ракият очень сильно отличается от Лемеховой. Ей под пятьдесят, она из Дагестана. Но маленькая, худенькая, поэтому выглядит гораздо моложе своего возраста. Арестована пять месяцев назад – по 172-й, банковской статье, и 210-й. А по сути – за то, что являлась гендиректором ООО, замешанном в каком-то многомиллионном мошенничестве.
У нее два высших образования, и более умной и уравновешенной женщины мне в тюрьме не встречалось. Я ни разу не видела, чтобы Ракият вышла из себя, показала свои истинные эмоции. Она всегда пребывала над ситуацией, «над схваткой». Никогда не выходила из роли мудрой педагогини-наставницы. Именно Ракият все время успокаивала сумасшедшую Краснюк, когда та начинала на меня кидаться или еще как-то буянить. Отвлекала ее разговорами-уговорами, давала всяческие вкусняшки. Лишь бы в камере были тишина и порядок. Лишь бы в камеру не совали свой нос сотрудники… «Так вот почему она себя так вела! – соображаю я. – Видимо, она уже тогда готовилась стать старшей!»
Но знала ли Ракият, во что ввязывается?..
Почти сразу же после отъезда Лемеховой на нас посыпались «телефонные трагедии». Мало того, что Лемехова забрала из камеры два своих собственных телефона: смартфон и фонарик – на следующий день проходит плановый обыск, и наши собственные сотрудники забирают два других телефона. На следующем обыске – еще один. Начались перешептывания, что Лемехова перед этапом нас сдала. То есть рассказала, в каких местах у кого что спрятано. Вроде как она была сексотом – работала на сотрудников. И собиралась работать на них и дальше – вернее, уже на следующих сотрудников. Иначе как бы она осмелилась забрать на этап свои телефоны?..
Я как раз только-только услышала о таком явлении как тюремный сексот и еще находилась под впечатлением. Дело в том, что здесь мне рассказали, что моя бывшая сокамерница Тамара Репина, оказывается, очень хорошо знакома всем местным старосидам, и у нее на общем корпусе сложилась определенная репутация. Меня просветили, что Тамара была сексотом, «ментовской стукачкой», то есть работала на сизошных оперативников. Сообщала им, что происходит в камерах, втиралась в доверие к новичкам – если бывали такие задания, давала наводки на телефоны. И ей за это платили – официально переводили деньги на личный сизошный счет. Именно из-за этого ее переводили из камеры в камеру, и в итоге спрятали на спецблоке, под круглосуточное наблюдение. Так как по всему периметру у нее набралось слишком много врагов, и попади она снова в любую большую камеру, то ее там разорвали бы на части!
Услышав эту историю, я прибалдела. Ничего себе! Долго переваривала, вспоминая, крутя в голове Тамарины слова, взгляды, действия. Эта версия вроде бы многое объясняла в ее поведении. Да, Тамара хвасталась, что некая «подруга» ежемесячно кидает ей на счет по десять тысяч рублей. Да, она настойчиво предлагала передать что-то моим друзьям или родственникам через ее «маму», когда ходила «звонить». Да и не только мне она предлагала эту «братскую» помощь. Я искренне полагала, что Тамара делает это по доброте души. Но как было на самом деле, я не знаю…
И все это действительно оправдывало ее параноидальный страх перед большими камерами. И тот факт, что ее – столько времени прожившую на общем корпусе – вдруг засунули на спецы. Что случалось не с каждым…
Если это было правдой, – за что я не ручаюсь, так как «свечку-то не держала» – то в принципе допускаю, что Тамара вступила на этот путь вовсе не по злому умыслу. Скорее всего, все началось с какой-то ерунды. Допустим, ее прижали местные опера из-за мелкого косяка. Стали стращать всякими ужасными последствиями. И она согласилась сначала на одно, потом на другое. И вот дорога назад уже отрезана…
К тому же я сама успела столкнуться с тем, как могут прессовать заключенных оперативные сотрудники СИЗО, вынуждая делать то, что им нужно. Нет, они не бьют, не истязают… Но женщинам очень часто хватает лишь словесных запугиваний – особенно свежеарестованным, тем, кто в системе впервые…
Как-то раз меня – в череде остальных – пригласил на личную беседу наш «любимый» оперативник Артем. Я оказываюсь с ним нос к носу в глухом крошечном помещении – в три квадратных метра, не более. Посередине втиснут стол. За ним, на стуле сидит Артем. Миловидный парень лет тридцати, голубоглазый и блондинистый, очень похожий в своей форме на члена зондеркоманды. На второй стул, напротив, присаживаюсь я.
В руках Артема – папка с моим личным делом. Он очень вежливо просит рассказать про мое уголовное дело, про предъявленное обвинение. Причем из его слов я понимаю, что он основательно прогуглил мою историю, изучив всю соответствующую прессу: «Да, да, слышал – свидетель Олег Тактаров из Голливуда… Да, так вы вину не признали? Да, ваш адвокат защищает и Дадаева…» Дальше Артем спрашивает, не нужна ли помощь в моем деле?
– Спасибо огромное, мы справляемся…
– Ясно… Как вам живется в камере? Все ли хорошо? Как сокамерники?
– Да, все хорошо, спасибо большое. Люди вокруг очень хорошие…
– Все ли ведут себя нормально? Нет кого-то, кого не должно быть в этой камере? Кого следует перевести в другое место? Как вы считаете?
– Хм… Вы знаете, даже если кто-то поначалу совершает промахи, попав в эту камеру, в итоге все выравниваются. Так как ко всем очень добры и новичков поддерживают…
В общем, сижу и излучаю доброжелательность и позитив. И Артем как-то сразу скучнеет. Понимает, что каши со мной не сваришь, и резко заканчивает разговор, прося позвать следующего…
Я поняла, что это был один вариантов первоначальной «вербовки», которую по должности своей волей-неволей должен проводить каждый сизошный оперативник, ведя личные беседы с заключенными и выцеживая тех, кто мог бы ему пригодиться. Представляю, как легко мог бы подобный разговор свернуть совсем в другое русло. «Не нужна ли помощь по делу?» – «Нужна…» – «Мы поможем, но на определенных условиях…» Или: «Как считаете, кого нужно вывести из камеры?» – «Иванову…» – «Ах Иванову? А за что? А что она сделала? Пиши заявление об этом. Нет. Не отпирайся, ты уже назвала ее фамилию – под запись видеорегистратора…» И так далее и тому подобное. Если перед тобой человек в форме, если он начинает говорить с тобой очень доброжелательно, мягко – одно это может здорово ошеломить! Сбить с толку. И ты при этом легко можешь сболтнуть лишнее. А если сболтнешь, то все – увязнешь по уши!..
Рычагов давления на заключенных в СИЗО было не так чтобы много, но все они были действенными, так как здешним женщинам хватало даже движения офицерских бровей, чтобы испугаться за свое зыбкое положение.
Во-первых, могли поместить в карцер. Формально только до пятнадцати суток. А на деле после пятнадцати суток через день могли дать еще пятнадцать, потом еще пятнадцать и так до бесконечности. Взять ту же Риану! По рассказам тех, кто побывал в карцере, это было жутковатым местом. Крошечная камера без окон. Спальное место убирается на весь день, и ты можешь сидеть только на откидном сиденье. Тебе не приносят почту, передачи, продукты из магазина. Тебя лишают твоей личной одежды и выдают бесформенный тоненький комбинезон. Запрещены кремы, витамины и прочие необходимейшие вещи. Мало места, света и воздуха, так что толком не почитаешь, не подвигаешься… Летом очень душно, зимой и осенью – убийственный холод. И представьте, что такая нездоровая байда тянется месяцами…
Весьма существенной угрозой был перевод в другую камеру. Этого не желал ни один заключенный. Ни за что! Человек в своей первой камере приспосабливался к порядкам, к людям, заводил «семью». Со временем получал хорошее спальное место, обрастал барахлом. И мысль о переезде в следующую камеру, где все нужно было начинать сначала, пугала каждого до чертиков. Я много раз слышала от тех, кого все же переводили, как они стремятся вернуться обратно. Пишут заявления, просят вызвать к начальнику. Я видела, как людей выводили из камеры, а они отказывались это делать, кричали, плакали, цеплялись за шконки. И их выволакивали волоком… Да я и сама лично, когда мне внезапно сообщили о переводе, тоже очень сильно испугалась и была готова закатить истерику. Хотя жизнь в 120-й камере мне очень и очень не нравилась. Но вот что делает привычка! Поэтому сотрудники при необходимости часто грозились этими переводами…
Помимо всего этого в личное дело мог быть внесен рапорт о нарушении, могла быть поставлена полоса: «синяя» – для суицидников, «красная» – за склонность к побегу, «розовая» – за лесбиянство и так далее.
А если человека этапировали в колонию, то личное дело со всеми этими полосками и нарушениями ехало вместе с ним. И если нарушений оказывалось несколько, если у него были полосы, то человеку могли отказать в УДО – условно-досрочном освобождении. А УДО для заключенных было чуть не святым понятием. Каждый, получивший срок, тут же высчитывал, сколько ему остается сидеть с учетом УДО: половину, одну треть, три четверти от общего срока…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?