Текст книги "Валентин Серов"
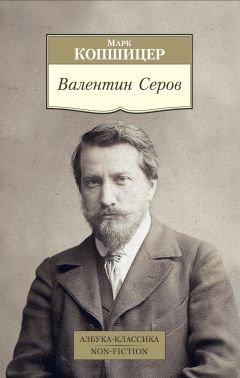
Автор книги: Марк Копшицер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Но лучше любых высказываний, лучше любых свидетельств современников говорят о восприятии и понимании Серовым литературы его работы.
Во всяком случае, что касается Пушкина, можно с уверенностью утверждать, что никто из художников не передал так пушкинские настроения, не выразил так самую душу пушкинской поэзии, как это сделал Серов.
Ну а мамонтовский кружок? Неужели Серов утратил с ним связь, забыл все, что было для него сделано?
Нет, конечно. Но, выйдя на широкий путь, Серов не мог уже ограничиться Абрамцевом и домом на Садово-Спасской. Его интересы были гораздо шире. Мамонтов и не претендовал на то, чтобы люди, таланту которых он помог развернуться, навсегда оставались около него, и только около него: Серов был питомцем его гнезда, и Савва Иванович мог гордиться этим. Сам же он занимался тем, что «поднимал» следующих гениев. Теперь людьми, завладевшими его сердцем, были Врубель и Шаляпин.
Неровный и неуравновешенный характер Врубеля был в то время причиной многих огорчений его друзей, и особенно Серова. Серов вспоминал впоследствии, как жил Врубель в Москве. Врубель поселился в гостинице «Париж», напротив Охотного Ряда, входил в короткие отношения со всякими случайными постояльцами: разорившимися помещиками, прогоревшими купцами, отставными военными, пил с ними. Эти люди обращались с ним бесцеремонно, как со своим братом-пропойцей. И Врубель действительно все больше пристращался к вину. Пил он как-то не так, как все, не любил общества. Когда заводились деньги, брал кабинет в ресторане, заказывал дорогой обед, шампанское и после этого появлялся у знакомых – нервный, одухотворенный и, как всегда, изысканно умный. Но чувствовалась трагическая надломленность во всем: и в том, как он говорил и как вытягивал руки, судорожно сжимая кулаки так, что кожа белела, натянувшись на косточках.
И кто знает, чем окончилась бы такая жизнь Врубеля, если бы в Мамонтовской опере не познакомился он с певицей Надеждой Ивановной Забелой. Врубель был очарован ею, он полюбил ее тотчас же, мгновенно и пылко. И любовь его была разделена. Надежда Ивановна стала невестой Врубеля. Теперь он опять часто стал бывать у Мамонтовых, пропадал в театре, слушал пение своей возлюбленной, восхищался, вдохновлялся.
– Все певицы поют как птицы, – говорил он, – а Надя поет как человек.
Надежда Ивановна Забела и впрямь была замечательной певицей. Для нее Римский-Корсаков написал центральные партии в «Царской невесте» и в «Садко». Молодой Рахманинов посвящал ей романсы.
Но тут возник все тот же проклятый вопрос, стоявший перед Врубелем всю жизнь, стоявший и перед Серовым, когда он готовился к женитьбе: где взять деньги?
И опять выручил Савва Иванович.
В Нижнем Новгороде должна была состояться Всероссийская выставка. Мамонтов заказал Врубелю два панно для одного из павильонов. Врубель выбрал сюжетами для этих панно былину о Вольге и Микуле Селяниновиче и незадолго до этого появившуюся в русском переводе драму Ростана «Принцесса Грёза». Эскизы были написаны быстро, единым порывом и вызвали восторг всего мамонтовского круга художников: Серова, Поленова, Коровина, Васнецова. Однако жюри, состоявшее из правительственных чиновников, академиков и прочих рутинеров, категорически высказалось против помещения картин Врубеля на выставке. Художники – друзья Врубеля – были взволнованы и возмущены. Серов подал в совет выставки заявление, в котором писал, что он и свои картины не даст на выставку, если не будут приняты врубелевские панно. К Серову присоединились Коровин и некоторые другие.
Один Врубель казался спокойным. Он привык к непониманию и к насмешкам и уговаривал Серова не горячиться, не поднимать шума из-за такой ерунды. Но Серова уговорить было не так-то легко, и быть бы скандалу, если бы не Мамонтов. У того были свои счеты с рутинерами. Он давно начал войну против казенщины в искусстве и бой за Врубеля считал едва ли не генеральным сражением. И он выиграл его. Он решил построить отдельный павильон специально для этих колоссальных панно.
Павильон удалось построить лишь за оградой выставки – так хоронят самоубийц. Врубель, однако, был очень доволен, но оставаться больше в Нижнем Новгороде не мог, сила любви влекла его в Москву. Он получил свой гонорар (из которого после раздачи долгов и посылки денег родственникам почти ничего не осталось) и уехал к невесте. Дописывать панно по врубелевским картонам взялись Поленов и Коровин.
Мамонтов между тем успел откопать новый талант – молодого певца Федора Шаляпина. К Шаляпину Мамонтов приглядывался (вернее, прислушивался) уже целый год. Они познакомились в 1895 году в Петербурге, где Шаляпин пел в Мариинском театре и страшно бедствовал. И теперь Мамонтов пригласил его на гастроли в Нижний, ухаживал за ним, воспитывал художественный вкус и перетянул-таки в Москву. Шаляпин очень быстро освоился у Мамонтова, близко сошелся со всем его кругом, с особенным вниманием приглядывался к работе художников.
Сначала Левитан, а потом Поленов и Врубель очень много сделали для формирования его художественного вкуса.
Но самые дружеские отношения сложились у Шаляпина в те годы с Константином Коровиным и Серовым, особенно с Серовым. По свидетельству дочери Шаляпина, «после Алексея Максимовича Горького Федор Иванович больше всех своих друзей любил Серова – за его принципиальность и человеческое достоинство».
Но, конечно же, Шаляпин ценил Серова не только за эти качества. Его восхищал в Серове огромный вкус, безошибочное художественное чутье, его артистический талант, умение одним жестом, движением передать образ, целую картину.
Они встречались и в квартире Серова, где Шаляпин моментально стал своим человеком, и у Мамонтовых, и в театре, и в мастерской Коровина на Долгоруковской улице, где иногда работал Серов, и на той же Долгоруковской улице в квартире премьерши Мамонтовской оперы Любатович, где, бывало, происходили репетиции, и в глубине двора этого же дома, в маленьком кирпичном флигеле, где Шаляпин поселился со своей молодой женой, очаровательной итальянкой Иолой Торнаги.
Квартира Шаляпина очень скоро стала любимым местом сбора всей компании. Здесь обсуждались будущие театральные постановки. Здесь всегда было приятно и весело. Здесь Серов встречался с Коровиным. Сюда приходил Врубель.
«Сначала эти люди, – писал Шаляпин о художниках, – казались мне такими же, как и все другие, но вскоре я заметил, что в каждом из них и во всех вместе есть что-то особенное. Говорили они кратко, отрывисто и какими-то особенными словами.
– Нравится мне у тебя, – говорил Серов Коровину, – свинец на горизонте и это…
Сжав два пальца, большой и указательный, он проводил ими в воздухе фигурную линию, и я, не видя картины, о которой шла речь, понимал, что речь идет о елях. Меня поражало умение людей давать небольшим количеством слов и двумя-тремя жестами точное понятие о форме и содержании.
Серов особенно мастерски изображал жестами и коротенькими словами целые картины. С виду это был человек суровый и сухой. Я даже сначала побаивался его, но вскоре узнал, что он юморист, весельчак и крайне правдивое существо. Он умел сказать и резкость, но за нею всегда чувствовалось все-таки хорошее отношение к человеку. Однажды он рассказывал о лихачах, стоящих у Страстного монастыря. Я был изумлен, видя, как этот коренастый человек, сидя на стуле в комнате, верно и точно изобразил извозчика на козлах саней, как великолепно передал он слова его:
– Прокатитесь? Шесть рубликов-с!
Другой раз, показывая Коровину свои этюды – плетень и ветлы, – он указал на веер каких-то серых пятен и пожаловался:
– Не вышла, черт возьми, у меня эта штука! Хотелось изобразить воробьев, которые, знаешь, сразу поднялись с места… фррр!
Он сделал всеми пальцами странный жест, и я сразу понял, что на картине „эта штука“ действительно не вышла у него.
Меня очень увлекала эта ловкая манера художников метко схватывать куски жизни. Серов напоминал мне И. Ф. Горбунова, который одной фразой и мимикой изображал целый хор певчих с пьяным регентом. И, глядя на них, я тоже старался и в жизни и на сцене быть выразительным, пластичным».
Шаляпин чрезвычайно ценил указания художников (Серова главным образом). Похвалы этих людей были для него дороже всего.
«Помню, когда я одевался варягом по рисунку Серова, в уборную ко мне влетел сам Валентин, очень взволнованный, – все художники были горячо увлечены оперой „Садко“ и относились к постановке ее, как к своему празднику.
– Отлично, черт возьми! – сказал Серов. – Только руки… руки женственны!
Я отметил мускулы рук краской, и, подчеркнутые, они стали мощными, выпуклыми… Это очень понравилось художникам, они похвалили меня:
– Хорошо! Стоишь хорошо, идешь ловко, уверенно и естественно! Молодчина!
Эти похвалы были для меня приятнее аплодисментов публики. Я страшно радовался».
Серов и Коровину, делавшему вместе с ним эскизы костюмов и грима, давал советы: «Ты, Костя, морскому-то царю сделай отвислый животик, ведь он, подлец, рыбу жрет, смешно будет!» И всем становилось смешно и весело…
Они стали большими друзьями: Серов, Коровин и Шаляпин. Часто они втроем уезжали отдохнуть, развлечься на станцию Итларь. Там, на берегу реки Нерли, Константин Коровин купил участок земли и построил дачу. Место было чудесное: сама Нерль, хоть и небольшая, но богатая рыбой река, живописные берега, дремучие заповедные леса, полные всякой живности: там водились зайцы и лисы, волки, медведи, глухари, куропатки, а недалеко было болото, где селились утки, – место идеальное для охотника и рыболова, ну и конечно, для художника.
Местные крестьяне считали их чудаками. Станционный извозчик, болтливый, как все извозчики, любил по пути на дачу рассказывать многочисленным московским гостям Коровина, как он возил к Константину Алексеевичу «молодого высокого и маленького постарше», как они велели остановить у какого-то старого брошенного сарая и все ходили вокруг него, ахали и любовались, а этот сарай даже не сарай, а овин глухой, брошенный, и на дрова даже не годился. А вот на новый дом, чистый, крашеный, и взглянуть не захотели. «Ничего в нем, говорят, хорошего. Трогай».
– Вот ведь дурость какая, – сокрушался извозчик. – Этакие вот все к Коровину и ездят. Я потом на станции жандарму рассказывал – не верит: «Врешь ты все, говорит, таких людей не бывает».
Приехав на дачу, гости выясняли, что речь шла о Шаляпине и Серове, и тут же получали от коровинских слуг и приживалов новую порцию удивительных историй, да те и барина своего не стеснялись в глаза называть чудаком, вспоминая, как он да Валентин Александрович Серов прошлой осенью «списывали» лошадь Сергея-угольщика. «Лошадь эта, словно опоенная, на все четыре ноги не ходит, ее уж в живодерню пора и красная цена ей трешница, а к ней телегу с хворостом подвезли и стали списывать да похваливать: „Хороша лошадь, замечательная“».
А когда тот же Сергей-угольщик, – вспоминали, – притащил действительно замечательного жеребенка, Валентин Александрович спросил: «А скоро ли его уведут?»
Коровин только хохотал беззлобно, слушая такие рассказы, и, чтобы совсем уже поразить рассказчиков, сообщал, что у Серова картину эту, что со старой лошадью, цена которой трешница, фабрикант Третьяков за три тысячи, представьте, купил.
Рыбу ловить ездили на мельницу Новенькую к Никону Осиповичу. На мельнице водились налимы. По пути заезжали к другу Коровина охотнику Герасиму Дементьевичу, лакомились рыжиками в сметане, набивали карманы орехами. Мельник, огромный кудрявый старик, радостно встречал гостей.
Вечером, усталые, варили на костре уху «в два навара» (о такой ухе рассказывал Шаляпин Коровину еще в Нижнем, когда они только познакомились). Серов с Коровиным располагались с красками, походными мольбертами, писали вечер и мельницу. А Шаляпин и Никон Осипович, поставив перед собой четверть водки, пили и пели «Лучину». У Никона Осиповича Шаляпин учился старым народным песням. Никон Осипович любовался Шаляпиным и говорил:
– Эх, парень казовый! Ловок.
Вечерами отдыхали в простой рыбачьей избе.
Коровин вытягивался на какой-то старой-престарой кровати с вылезающими пружинами. Каждый вечер к нему приходил Василий Княжев, его слуга и страстный рыболов, «человек замечательный», «симпатичнейший бродяга», как говорят о нем Коровин и Шаляпин.
Княжев любил после удачного рыболовного дня поболтать с Коровиным о том о сем, а главным образом о рыбной ловле. Это стало чем-то вроде ритуала. Он приходил, вешал шляпу всегда на один и тот же гвоздь, становился в ногах у Коровина и в одной позе мог простаивать часами, рассуждая о своем любимом предмете.
Как-то раз Серов вынул гвоздь, на который Княжев вешал шляпу, и нарисовал гвоздь на стене. Княжев вешает шляпу, она падает, он вешает опять, она опять падает. Побледневший от испуга рыбак осеняет себя торопливым крестом: «Господи, помилуй», – а приятели хохочут. Наконец он соображает, в чем дело, и каждодневная сцена повторяется: Княжев стоит, прислонившись к стене, в ногах у Коровина, и они с упоением беседуют о налимах и шелесперах.
– Вот бы, Антон, так их нарисовать, – мечтательно говорит Шаляпин.
И Серов, расположившись здесь же со своим мольбертом, пишет этюд, приведший всех в восторг: так удивительно точно схвачены на нем характерные позы Коровина и Княжева и так замечательно передано все настроение этих вечеров. Сверху Серов делает надпись: «Рассуждение о рыбной ловле и о прочем. Посвящается Шаляпину. В. С.» – и тут же дарит этюд Федору Ивановичу, к великой радости последнего.
Нет, здесь, в деревне, среди природы, в обществе друзей, Серов совсем не хмурится. Он улыбается, он смеется, он совсем по-детски резвится, он любит остроты, и если он не так многословен, как его друзья, то потому, что лаконизм во всем – это его свойство.
«Посмотрели бы вы на этого „сухого“ человека, – пишет Шаляпин, – когда он с Константином Коровиным и со мною в деревне направляется на рыбную ловлю. Какой это сердечный весельчак и как замечательно остроумно каждое его замечание».
Вот так они и жили в деревне, так веселились, так ловили рыбу; Серов, впрочем, сам рыбу не ловил, только любил смотреть, как ловят Коровин и Шаляпин, да писал этюды и рисовал. Несколькими штрихами схватывал характерные шаляпинские и коровинские позы, повороты: «Коровин ловит рыбу», «Шаляпин бреется».
Это казалось дьявольски просто, и заманчиво было попробовать вот так же самому. И Шаляпин занялся рисованием и скульптурой. Часами простаивал у зеркала, лепил автопортрет. Потом писал красками чертей. Писал старательно, высунув кончик языка. Чертям заворачивал набок хвосты. С трепетом ждал, что скажет Серов. Серов пожимал плечами, говорил, как всегда, кратко и образно:
– А черта-то нету.
Шаляпин огорчался. Он хотел совершенства «во все стороны». Впрочем, он был действительно талантлив «во все стороны» и в конце концов добился своего, научился несколькими штрихами схватывать сходство, улавливать и отмечать характерное. Это было, конечно, дилетантство, но очень талантливое дилетантство.
Особенно сдружила Шаляпина с Серовым совместная работа над образом Олоферна, заставила оценить не только талант и артистичность Серова, но и его умение проникнуть в дух давно ушедшей эпохи, по намекам, по частностям уловить общее.
Постановка «Юдифи» в Мамонтовской опере была для обоих в какой-то степени из ряда вон выходящим событием и реваншем в то же время.
Весной 1886 года, когда в Мариинском театре окончился сезон, Шаляпину вручили клавир «Юдифи» и предложили поработать над ролью Олоферна. Но он предпочел отправиться в Нижний, а когда приехал в Петербург, роль Олоферна была отдана кому-то другому, – видимо, администрация посчитала, что такой несерьезный человек вряд ли сумеет справиться с этой сложной ролью.
Для Серова постановка «Юдифи» была, пожалуй, еще более важным событием. Сколько он перестрадал десять лет назад, добиваясь юбилейной постановки первой оперы отца в Мариинском театре, сколько книг перечитал о Древнем Востоке, сколько эскизов декорации и костюмов сделал, и все впустую. И вот теперь Мамонтовым легко и просто было принято решение. Партия Олоферна была поручена Шаляпину, уже известному, почти прославившемуся за эти два года работы в Частной опере. Ну а художественная часть по праву принадлежала ему, Серову-сыну.
Работать с Шаляпиным было сплошным удовольствием, он, по меткому выражению Саввы Ивановича, «жрал знания».
Опять пришлось привести в движение весь материал, собранный десять лет назад: книги, альбомы, фотографии, зарисовки.
Как-то в студии Серова, разглядывая один из таких альбомов, они натолкнулись на фотографию с древнего ассирийского барельефа. Все фигуры были изображены в профиль. Шаляпина поразили какие-то особые, характерные движения этих застывших в камне и в то же время движущихся фигур. Движение подчеркивалось тем, что изгибы рук в локте и в кисти были такими же профильными, как и направление фигуры. У Шаляпина и Серова возникла мысль: изобразить Олоферна как бы сошедшим с древнего камня, ожившим барельефом, страшным и величественным.
Серов понимал, что, быть может, и даже наверно, живой Олоферн не был таким. Но таким он изображен на древнем барельефе, таким привыкли представлять его люди. Изображенный именно таким, он должен вызвать у зрителя ассоциации, необходимые для постижения художественной правды образа.
Задача была трудной, чрезвычайно трудной. Нужна огромная художественная и просто человеческая культура, чтобы осуществить стилизацию. Необходимо иметь идеальное чувство меры, чтобы не переиграть, и Серов предупреждал Шаляпина:
– Это было бы очень хорошо. Очень хорошо!.. Однако поберегись. Как бы не вышло смешно…
И затем, уже на общем обсуждении в присутствии художников и Мамонтова, Серов продемонстрировал свое совершенно непостижимое умение перевоплощаться в любой прочувствованный им образ. Он взял со стола обыкновенную какую-то полоскательную чашку и, пройдя с ней по комнате, сказал Шаляпину:
– Вот так, Федя, должен ходить ассирийский царь, а вот так должен он пить.
– Только помни, Феденька, – подхватил Мамонтов, – пластика должна быть резче, чем на барельефе. Нужно рассчитывать на сцену.
И Шаляпин, с его необыкновенным даром впитывать знания, тотчас взял ту же самую чашку и продемонстрировал, как ассирийский царь возлежит на ложе…
Образ был найден. И очень удачно найден. Опасения Серова оказались напрасными. Постановка «Юдифи» удалась на славу.
Серов сам писал декорации, создавал костюмы. «…Ни одна мелочь не миновала ока Валентина Александровича. Набросав грим Олоферна, он сам загримировал Шаляпина и даже расписал ему руки, сделав их мощными, скульптурными. Серов был в восторге от восприимчивости Шаляпина, игравшего, по словам художника, „злую Олоферну пятнистую“»[19]19
Мамонтов П. Н. Шаляпин и Мамонтов // Федор Иванович Шаляпин: В 3 т. Т. 2. М.: Искусство, 1976. С. 503.
[Закрыть].
У Олоферна – Шаляпина была огромная трапециевидная борода, гофрированная, усыпанная золотыми блестками, гофрированные волосы забраны ассирийской повязкой, в ушах длинные подвески, свободные одеяния – все соответствовало исторической правде и все было реально настолько, что поистине создавалось впечатление, будто сцена – это окно в прошлое, воскрешенное силой искусства…
На репетициях всегдашняя суета, беготня. Савва Иванович и Серов то и дело вскакивают на сцену, убегают за кулисы, что-то изменяя, исправляя, доводя до полной законченности, до совершенства отдельные образы и ансамбль.
Это был один из очень значительных спектаклей в истории Мамонтовской оперы.
В творчестве Серова история с постановкой «Юдифи» в театре Мамонтова, а потом на казенной сцене[20]20
В 1907 году «Юдифь» была поставлена наконец в Мариинском театре. Роль Олоферна исполнял, разумеется, Шаляпин.
Для этой новой постановки Серов опять писал декорации. Эскиз костюма и грима сохранился прежний. Тогда же за кулисами Мариинского театра А. Я. Головин написал свой знаменитый портрет Шаляпина – Олоферна.
[Закрыть] и роль Олоферна, которую исполнял Шаляпин, оставили след в виде эскизов декораций, двух портретов Шаляпина в роли Олоферна, созданных для костюма и проработки грима, а также карикатуры: «Шаляпин и Корсов в роли Олоферна». На карикатуре огромный, страшный Шаляпин и маленький, в театральной позе Корсов (артист, исполнявший роль Олоферна на казенной сцене) и надпись: «Злая Олоферна (пятнистая). То ли дело сия душка».
Как-то незаметно, словно бы на заднем плане, прошла педагогическая деятельность Серова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Долгое время обрывочные сведения о ней были в небольшом количестве разбросаны по разным книгам, пока не появились воспоминания Николая Павловича Ульянова, любимого ученика Серова.
Книга его воспоминаний – главный источник для освещения педагогической деятельности Серова.
Началась эта деятельность в 1897 году.
Директор училища князь Львов вошел в класс и объявил:
– Сейчас будет Валентин Александрович Серов.
А через несколько минут, войдя уже с Серовым, сказал:
– Художественный совет после ухода в отставку Константина Аполлоновича Савицкого не мог найти более достойного ему заместителя, чем Валентин Александрович. Вам известно все значение этого имени. Мне нет необходимости говорить много.
Ульянов произнес краткую речь:
– Серов уже давно был мечтой многих из нас. Мы радуемся, что мечты наши осуществились. Наконец-то мы будем работать под его руководством!
Сам Серов не сказал ни слова. Раскланялся как-то даже сухо и несколько холодно. Молча обошел ряды, осмотрел этюды, натурщика, что-то обдумывал. Сделал несколько коротких замечаний.
А потом началось нечто непохожее на все то, что было раньше, и на все то, что было в других классах. Раньше преподаватели только говорили, как и что делать, причем говорили столь расплывчато, что толковать можно было и так и этак. Это были какие-то общие фразы, рассуждения, что-то такое, чему трудно было найти практическое применение.
Они были робкими, чрезвычайно робкими, словно не были уверены в принципах своего искусства. Даже такие поистине замечательные художники, как Архипов и Пастернак, в роли преподавателей были бесхарактерны, в своих указаниях не конкретны…
«Преподавал он, – вспоминает об Архипове Петров-Водкин, – нерешительно, словно передавал ученику контрабанду.
– Шире, посочнее! – шепнет он, бывало, в самое ухо, а в тоне шепота: Только уж, между нами, не выдавайте меня, пожалуйста…»
Серов много не говорил, ограничивался двумя-тремя словами, но зато брал кусок угля, карандаш, кисть и одним штрихом, одним мазком сразу «ставил» расползающийся эскиз. Говорил:
– Учить я не умею. Смотрите, как я работаю, учитесь.
И он (это тоже что-то новое) садился поближе к натуре на положенную набок табуретку или на самую верхнюю скамью, чтобы не загораживать собой натуру, и, не выпуская изо рта папиросы, писал или рисовал то же, что и ученики.
Когда глаз привыкал, вставал, отходил к окну или некоторое время глядел на потолок, потом, освежив впечатление, опять принимался за работу. Работая гуашью, жег спички, подсушивал мокрые места.
Не боялся признаться в своих ошибках.
– Вот и не вышло, – говорил он после того, как неудачно коснулся чьей-то работы, – стало еще хуже, ну что ж, выйдет завтра! Работу нужно иногда испортить, да и не один раз, чтобы в какой-то момент она засверкала.
Или о своей работе:
– Видите, не вышло. Уже третий раз перерисовываю ногу. Даже картон вздулся от масла.
Он никогда не пытался при учениках виртуозничать, показывать во всем блеске свое искусство мгновенного схватывания натуры, напротив: переделывал и переделывал по многу раз и детали, и общее решение, словно бы давая пример того, как, даже будучи уже признанным мастером, истинный художник всегда ищет, всегда мучается сомнениями, всегда меняет и меняет.
«Работа в портретной мастерской была событием, – вспоминает М. Ф. Шемякин. – Это был какой-то алтарь искусства».
Серов сейчас же, как только появился в училище, забраковал старых натурщиков, отыскал других: молодых крепких парней.
Отыскал натурщиц, уговаривал их позировать обнаженными, убеждал смущенных, стыдящихся женщин:
– Нам нужно рисовать, понимаете, учиться, как учатся доктора. Народ мы серьезный, бояться вам нечего, ведь тут училище.
К женщинам этим относился с исключительным вниманием и предупредительностью: подавал им пальто, провожал к извозчику, выговаривал своим воспитанникам, когда они не понимали этого, старался воспитать в них чуткость, человечность.
– Прошу не входить! – останавливает Серов директора на пороге класса. – Женская модель обнажается только перед художниками. Если я нужен, я выйду к вам.
И начальство подчинялось Серову. Он умел требовать, он говорил безапелляционно, он был уверен в своей правоте.
Для класса Серову предоставили большую комнату, через год еще одну мастерскую для тех, кто уже окончил училище, но хотел продолжать работать под его руководством. А потом Серов потребовал и получил специально отстроенный корпус рядом с Училищем живописи и ваяния.
«От старого училища, – пишет Ульянов, – нас отделяет теперь только стена, но через эту стену уже не проникает к нам тот спертый воздух, которым мы так долго, слишком долго дышали. Серов уже улыбается, проходя по коридору, он иногда даже насвистывает какой-то веселый марш».
Хорошему настроению Серова в училище способствовало еще то, что вслед за ним (опять-таки в результате его усилий) туда пришли «свои люди»: художники Левитан и Константин Коровин, незадолго до того приехавший из Италии скульптор Паоло Трубецкой, историк Ключевский.
«Левитан явился для нас новым словом пейзажа, – вспоминает Петров-Водкин. – Мягкий, деликатный, как его вечерние мотивы со стогами сена, с рожком народившегося месяца, одним своим появлением он вносил уже лиризм в грязно-серые стены мастерских…»
Левитан очень ценил Серова и как художника, и как критика, и как педагога, не раз ставил его в пример своим ученикам.
– Если не удалось, – говорил Левитан, – наблюдайте, еще раз, пока не добьетесь. Будьте настойчивы, как, например, Серов, не бойтесь «пота».
Он говорил:
– Старые мастера писали немногими красками, но хорошо знали их. У нас Репин и Серов пишут не только тело, но и многие картины четырьмя, пятью красками, а посмотрите, что они с их помощью делают!
– Мазок только тогда выразительное слово, когда он лежит по форме, а иначе это пустословие. Можно писать и без мазков. Тициан писал пальцем. Серов тоже пускает в ход большой палец там, где нужно.
Левитан часто приводил Серова в свою мастерскую «освежить, – как он выражался, – атмосферу его глазом».
И любил повторять выражение Серова, ставшее одним из принципов его искусства: «Иногда нужно и ошибиться».
Трубецкой тоже стал одним из близких Серову людей. Этот русский итальянец был немного не от мира сего, наивный и простодушный, совсем как Костя Коровин. Особенно симпатичным Серову делала Трубецкого любовь к животным. Трубецкой, так же как и Серов, любил бродить по зоологическому саду и часто, оставив работу, уходил туда, затащив с собой кого-нибудь из друзей, пришедших к нему в студию или зайдя за кем-нибудь. Он и у себя в студии устроил небольшой зверинец: у него жили медведи, лисы, волки.
Жену свою, маленькую, изящную шведку, он называл «своим волком». Жена и вправду была злая, и это был единственный «зверь», которого Трубецкой боялся. Может быть, поэтому к нему ходили мало и он предпочитал сам посещать своих друзей. Он стал частым гостем у Серовых. Дочь Серова вспоминает, как однажды Трубецкой, раскатившись, въехал на велосипеде к ним прямо в столовую, когда вся семья сидела за завтраком, вызвав, конечно, хохот и веселое оживление.
Нравился Серову и независимый нрав Трубецкого, его убежденность в отстаивании своих принципов в искусстве. «Его руки молотобойца выделывали миниатюры людей и животных, – пишет о Трубецком Петров-Водкин. – Этими княжескими руками повыбросил он весь старый лепной материал со стоячими и лежачими натурщиками и подсунул ученикам одетых, как в жизни, девушек, собак со щенятами и лошадей со всадниками со всем присущим им импрессионизмом».
Все это, конечно, импонировало ученикам, и они любили Трубецкого.
Любили ученики и Коровина. Поначалу, когда Серов решил пригласить его вторым руководителем своей мастерской, он опасался, как примет Коровина молодежь.
– Многие думают, – делился он с Ульяновым своими сомнениями, – что Коровин не умеет рисовать, но это не так. В рисунке он, правда, делает иногда промахи, но промахи самые незначительные – только в деталях. А вообще в рисунке он чувствует хорошо.
Опасения оказались излишними – обаяние Коровина, человека и художника, было велико.
– Ученики ценят его за колорит, за живопись и еще неизвестно за что: он просто нравится им, – сказал Серову Ульянов.
Однако за Коровиным нужен был «глаз да глаз».
«И мне часто попадало от Серова», – признавался Коровин впоследствии.
Приехав из-за границы, Коровин сказал ученикам, писавшим натурщицу:
– Зачем вы пишете большие фигуры, я в Париже видел, пишут маленькие.
Ученики стали писать маленькие. Вошел Серов, оглядел работы, нахмурился. Сердито сказал:
– Куколок стали писать?
Коровин без спору сдался:
– Ну что ж, пишите, как писали раньше.
Зато, когда Серов из училища ушел, Коровин ставил ученикам натуру в совершенно парижском одеянии: чулки, туфли на высоких каблуках и широкополая шляпа, да еще приглашал на занятия Шаляпина.
«Если К. Коровин, засунув за жилет большие пальцы рук, говорил много и весело, с анекдотами и кокетничал красивой внешностью, то Серов был немногоречив, – пишет Петров-Водкин, – но зато брошенная им фраза попадала и в бровь и в глаз работы и ученика. Коровин с наскока к мольберту рассыпался похвалами: прекрасно, здорово, отлично, что не мешало ему в отсутствие студента перед этим же холстом делать брезгливую гримасу. В Коровине было ухарство и щегольство, свойственное и его работам, досадно талантливым за их темперамент, с налета, с росчерка.
Серов – трудный мастер, кропотливо собиравший мед с натуры и с товарищей, и такой мед, который и натура и товарищи прозевали в себе и не почитали за таковой, а из него он умудрялся делать живопись.
Перед работой Валентин Александрович стоял долго, отдувался глубоко затягиваемой папиросой, насупив большой лоб. Ученик пытливо наблюдал этот лоб, чтобы по нему прочитать приговор. И вот когда одними бровями лоб делал спуск – это означало, что работа отмечена, о ней стоило говорить».
Об этом же пишет и Ульянов: «Заинтересовавшись чем-нибудь оригинальным в работе талантливого ученика, он не делает поправок, отказывается от предлагаемой ему кисти, долго молчит, любуется.
– Понимаете живопись! Продолжайте!
Услышать такой отзыв – значило почувствовать, что почва под ногами наконец перестала колебаться, что можно идти вперед, не сомневаясь в своих силах и все больше обретая в них уверенность, необходимую для преодоления трудностей в том, что мы называем техникой своего ремесла, на том пути, когда само ремесло превращается в нечто чудесное – художество!»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































