Текст книги "Курс в бездну. Записки флотского офицера"
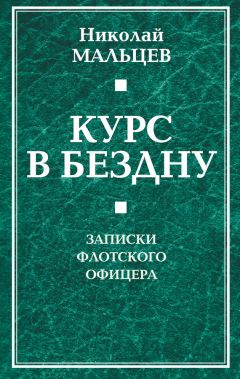
Автор книги: Николай Мальцев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 49 страниц)
Подробности голодных 1947–1949 годов помню слабо. Да мы и не «голодовали» в полном смысле этого слова. У нас была своя картошка, а на трудодни мать получала зерно. Выше я уже говорил, что бабушка выпекала в русской печи замечательный мягкий и душистый хлеб. Но многие мои товарищи и сверстники голодали по-настоящему. Я с ними водил дружбу и часто по их просьбе, незаметно для бабушки, забегал в избу, отрезал краюху хлеба и выносил сверстникам. Вместе с ними мы собирали листья лопуха и крапивы для весенних похлебок, а также всякие съедобные корешки и коренья, в которых мы очень хорошо разбирались, так как они нам заменяли ягоды и фрукты. Главным «витамином» был рыбий жир, который почему-то всегда имелся в наличии и хранился в небольшой стеклянной емкости. Я его не мог терпеть, но бабушка чуть ли не насильно ежедневно вливала в меня ложку этой рыбьей гадости. Когда я простужался, то мать отпрашивалась с работы и, прихватив почти полный мешок картошки, к пяти часам утра пешком шла семь километров на станцию Сабурово, чтобы уехать на рабочем поезде в город Тамбов. Там она продавала картофель и покупала несколько стаканов манной крупы, фруктовую карамель, постное масло и батон белого хлеба. Манную кашу я тоже очень не любил, но меня заставляли ее есть не как пищу, а как лекарство от простуды. Не будешь есть манную кашу, не выздоровеешь. Вот я и глотал через силу эту теплую неприятную жижицу. Очень хотелось быть хотя бы не сильным, но здоровым. Но и манная каша не спасла. Однажды зимой то ли 48-го, то ли 49-го года сильно разболелось горло, поднялась температура, опухоль внутри горла настолько увеличилась, что я стал задыхаться и терять сознание.
Врача и даже фельдшера в деревне не было. Ближайший медпункт находился все на той же станции Сабурово, расположенной в семи километрах от нашей деревни. Может быть, в колхозе и выделили бы лошадь, чтобы отвезти меня на прием к фельдшеру, но времени не было. Отец надел на меня мою зимнюю одежонку, завернул в одеяло и на руках понес по зимнему бездорожью шестилетнего ребенка к замечательному фельдшеру по имени Прасковья Павловна. Из того путешествия я мало чего запомнил. Вообще, до сих пор удивляюсь, как я не умер по дороге. Отец потом много раз вспоминал эту историю и рассказывал, что принес меня прямо в дом к Прасковье Павловне. Когда они развернули одеяло и сняли зимнюю одежду, то увидели синюшное лицо. Я не подавал признаков жизни и отец подумал, что я умер. Дыхание отсутствовало, так как горло было перекрыто огромной ангинной опухолью, но Прасковья Павловна обнаружила пульс и приступила к лечению. Ничего не могу рассказать о том, каким методом Прасковья Павловна удалила опухоль и вернула меня к жизни. Никакой больницы при фельдшерском пункте не было. Через два-три часа я пришел в себя, и эта свобода и возможность дыхания запомнилась мне как самый счастливый миг моей детской жизни. Я не ощущал страха смерти, но радовался, что могу дышать, жить и видеть этот суровый, но прекрасный мир. Прасковья Павловна выдала пилюли и микстуры, проинструктировала отца, как их принимать, и мы отправились в обратную дорогу. Эти обратные семь километров на руках отца мое сознание сохранило как зыбкую грань между сном и реальностью. Дома родители уложили меня на теплую русскую печь, а уже через неделю я почувствовал себя полностью здоровым. Я не помню лица Прасковьи Павловны и даже того, был ли я у нее на приеме в другие годы. В детстве болел я часто, но в больнице никогда не лежал. Честно говоря, я и не знал, что в городах существуют больницы. В нашей округе такого заведения не было, и при тяжелых формах заболевания все пользовались услугой Прасковьи Павловны. Дети и взрослые, которых спасла и излечила Прасковья Павловна, хранили о ней добрую память и передавили эту память из уст в уста молодому поколению. Уже после ее смерти, будучи учеником старших классов Сабуро-Покровской средней школы, я часто слышал от своих сверстников по школе, что их тоже вывела из критического заболевания и спасала Прасковья Павловна. До конца дней своей жизни я буду вспоминать эту женщину и замечательного врача как свою спасительницу. Вечная тебе память, Прасковья Павловна.
Школа и церковьВыше я говорил, что моя первая школа располагалась в деревянном бревенчатом поповском доме. Еще до того как я стал учеником этой школы, я со своими старшими двоюродными братьями с разрешения учителей поочередно присутствовал на занятиях во всех четырех классах. Бабушка занималась с утра до вечера на огороде и сознательно отдавала меня под наблюдение моих старших сородичей, чтобы я не мешал ей работать на огороде. Рядом со школой размещалась удивительная по красоте и архитектурному исполнению деревянная церковь с высокой колокольней. Я не уверен, что при церкви был батюшка и что там шли службы. Но были колокола, и на великие христианские праздники кто-то из прихожан вызванивал на них красивые мелодии и звоны. То, что церковь не сожгли и не разломали в первые годы Советской власти, является для меня большой загадкой. После войны никто уже и не боролся с религией по идеологическим соображениям, не было никакого зверства по отношению к верующим. Церковь все-таки сломали примерно в 1948 или 1949 году. Я думаю, что причина заключалась не во вражде местной советской власти к религии, а в потребностях колхоза в строительных материалах. Конюшни и зимовки для скота было строить не из чего. Из кирпича был построен только магазин. По внешнему виду слегка перекошенных и осевших стен можно было определить, что здание магазина было построено еще в царское время. За все мои десять лет жизни в родной деревне ни одного дома из кирпича или из круглых бревен там не было построено. Вообще я даже не помню, а был ли у нас сельсовет и сама сельская власть? Возможно, что сельсовет размещался в другой деревне. По крайней мере, я ни разу не видел ни одного представителя местной власти, или они были настолько неказистыми и обыденными, что никто не обращал на них никакого внимания. Часто я слышал разговоры родителей и других взрослых о районных уполномоченных. Они представали в моем сознании суровыми и требовательными надзирателями и любителями выпить и вкусно поесть за счет колхоза. Еще взрослые соседи и родители запрещали нам заходить на колхозные поля и что-нибудь красть с них для собственного потребления. Не знаю, была ли такая должность в колхозе, которая называлась «объездчик». В реальности я никогда не видел объездчика на лошади и с плеткой в руках. Но «пацаны» рассказывали друг другу страшные истории, как они ходили на колхозные поля полакомиться недоспелыми колосьями ржи или пшеницы и попадали под кнут объездчика.
Но все это было как бы проходящим и не влияло на оптимистический настрой, состояние радости и душевного подъема меня самого и моих сверстников. Голод был как ограничение доступа к разнообразной пище, но он не вызывал духовной апатии и уныния как среди окружающих меня взрослых, так и среди моих сверстников. Лично на меня крайне удручающее впечатление в моем раннем детстве произвело разрушение церкви. Само по себе это событие вызвало всеобщий интерес еще при подготовке этой сложной операции. К церкви были привезены невиданные механизмы, которые назывались лебедками и даже стальные тросы, о существовании которых я даже не подозревал. Все неработающие в колхозе старики и дети с напряженным вниманием следили за подготовительными работами и находились рядом с церковью. Церковь уже давно не работала, так как не было батюшки, но все иконы в ней были в целости и сохранности. В те наивные времена никто даже не мог подумать прийти ночью в неохраняемую церковь и выкрасть из нее иконы. Когда скорое разрушение церкви стало неизбежным фактом, то верующие с общего согласия стали спокойно, без шума и гама, в скорбном молчании разбирать иконы по своим избам. Много позже, в марте 2001 года, после службы на атомных подводных крейсерах стратегического назначения Северного Флота, по выходе в запас в должности капитана 1 ранга, у меня появилось свободное время, и я изложил трагическое событие гибели церкви в личном стихотворении. Я не думаю, что мои стихи являются поэтическим шедевром и представляют какую-либо литературную ценность. Но они представляют историческую ценность как свидетельское показание. Вот в этом качестве свидетельского показания я и привожу эти стихи на суд моих читателей. Простите, если в нем будут художественные промахи и нестыковки, это никак не помешает понять и осмыслить суровые деревенские будни послевоенного времени.
Баллада о церкви
Колокольные звоны из детства
Снятся мне и звучат в голове,
Так как с церковью по соседству
Я родился и жил на селе.
Из далекой, но ясной той дали
Помню акт непомерного зла,
Как при мне нашу церковь ломали,
Что была украшеньем села.
Привезли пару мощных лебедок,
Стены споро одели в леса,
И под грустные вздохи народа
Закрепили на церкви троса.
Я не знал, что была за причина,
А теперь у кого же узнать?
Спят в могилах лихие мужчины,
Что давали команду: «Ломать!»
А причин этих было немало,
Не бывает ничто без причин,
Может, церковь кому-то мешала,
Может, сгнил деревянный овин?
После страшной войны, безусловно,
Председатель наш очень хотел
С церкви взять ее прочные бревна
Для своих созидательных дел.
В сельской жизни церковные стены
Много слышали разных молитв:
Панихиды по всем убиенным
И служенья во здравье живых.
Презирая и страх, и опасность,
В сладком дыме церковных кадил
Отпевали здесь белых и красных
И несли их до общих могил.
Когда дети в сей мир приходили,
То, еще несмышленышей, их
В этих стенах в купели крестили,
К светлой вере отцов приобщив.
В игры детские здесь мы играли
В нашей юности век золотой.
Жизнь, от церкви свою начиная,
Шли отсюда ж на вечный покой.
Она знала тридцатых угрозы
И великий военный разор,
Но однажды правленье колхоза
Смертный вынесло ей приговор.
Годы сложной, суровой эпохи
Завершились победно, и вот —
В путь последний под грустные вздохи
Проводить ее вышел народ…
Шестеренки в лебедках трещали,
Пот бежал с алкоголистых лиц,
Деревянные стены стонали,
Но держались, не падая ниц.
Бригадир, возбужденный и пьяный,
Матерился и в бога и в мать,
Только церковь Козьмы и Демьяна
Не хотела никак умирать.
Напряглись деревянные жилы,
Вздулись мускулы древней груди,
И казалось, что нет такой силы,
Чтоб смогла ее мощь победить.
Тросы тонко под ветром гудели,
Чуть стонал неуступчивый храм,
Люди добрые горько скорбели —
Тихо слезы текли по щекам.
Тут случилось ужасное дело:
Неожиданно вырвался трос
И, хлестнув в бригадирово тело,
Его пьяную голову снес.
Сразу смолкли все вздохи и ахи,
Камнем в глотках застыли слова:
Тело билось в припадочном страхе,
И отдельно жила голова.
Ее губы в змеином оскале
Все пытались чего-то сказать.
Веки глаз хаотично дрожали —
С них обильно бежала слеза.
Стихло тело. Кровавая лужа
Расползлась по зеленой траве,
И какой-то мистический ужас
Вдруг возник у меня в голове.
Страх великий впечатался в лица,
С неба голос звучал: «Аз воздам».
Наблюдатели и убийцы,
Как в бреду, разбрелись по домам.
И стояла она, вне закона,
Еще много и дней, и ночей,
Раздавая по избам иконы,
Пряча их от своих палачей.
Люди чтили сей подвиг великий,
Неземную ее благодать
И молились на темные лики,
Чтоб всегда на миру ей стоять.
Но в колхозах чудес не бывает,
Коммунисты не знали чудес:
Нужно строить скотине сараи,
А в степи, где возьмешь еще лес?
Потому прикатила бригада,
Но не местных, а пришлых бойцов,
И под грустную песнь листопада
Церковь взяла в тугое кольцо.
Как там было, и чем там ломали?
Я не видел, все шло по ночам,
Вскоре стены ее раскатали —
Наша церковь сдалась палачам.
Но живут в русских избах иконы,
И я верю: поныне живут!
Им, дедами еще намоленным,
Внуки дедов поклоны кладут.
Люди помнят и зло и успехи,
Не умеют они забывать
Наши страшные русские вехи
И понятную нам благодать.
Много взбалмошных лет пролетело,
И недавно, на стыке веков,
Сердце страстно в село захотело:
Посмотреть на ее мужиков.
Полста лет, даже больше немного,
Не бывал я в родимых местах,
Но мгновенно собрался в дорогу
И летел туда, как на крылах!
Прилетел и развеял сомненья —
Есть село и поля за селом.
И гордился я: «Дух запустенья
Не слизал эту даль языком!»
Вместо низеньких изб из самана,
Крытых серой соломою крыш,
Светлый облик другой панорамы
В этих далях степных разглядишь.
Что ни дом, то кирпич и железо,
Да кольцо неприступных оград.
Не об этом ли тайно я грезил?
И не этому ль искренне рад?
Все как будто бы внешне чудесно,
И как будто бы внешне легко,
Но не слышу я милых мне песен
И не вижу моих мужиков.
Я один здесь на жизненной лодке
И не ждет меня чей-нибудь дом:
Кто уехал, кто умер от водки —
Образ прошлого пущен на слом!
Наша жизнь потерпела фиаско,
Как обрывок уплывшего сна
Или напрочь забытая сказка,
Что уже никому не нужна.
И подумалось с горечью, часом:
Умер мир мой и сельский уклад,
А дома – приложение к трассе,
Длинной трассе «Москва – Волгоград».
И понес я свою невеселость
Вдоль как будто чужого села
Но – о, чудо! – Вот старая школа!
Моя старая школа жива!
Раньше это бы домик поповский,
Пятистенный, в четыре окна,
В палисаде сирень и березки
Да бревенчатых стен старина.
Старый вяз позади палисада,
Запах детства, Отечества дым,
Что особенно близок и сладок
В зрелом возрасте нам, пожилым.
Вот и луг, где старинная церковь
В окружении вязов жила,
Измеряя божественной меркой
Нашей жизни земные дела.
Никогда уже звон колоколен
Не взовьет свою мощную сочь.
Край мой милый, я вижу: ты болен,
Только мне тебе нечем помочь!
Твое поле и степь, твое небо
Я не вправе судить никогда:
Это я вас обидел и предал,
И от вас убежал в города.
Там, в заботе о хлебе насущном
Много подлого знал, но молчал,
Знать живет во мне рабская сущность:
Вера в власть, как святой идеал!
Но и этому есть объясненье!
Так сложилось в российской судьбе —
Сонм стоящих за мной поколений,
Верил власти, как будто себе.
Не по-рабски, а с умыслом верил —
Под царем или красной звездой
Совпадали державные цели
С общерусской народной мечтой.
Я не раб, и рабом я не буду.
Я обманут – такие дела!
Власть сама превратилась в Иуду
И народ свой сама предала.
Нет, я не был отпетым злодеем
И не прятался в нору, как крот,
И других, кто молчал, не умнее,
Просто верил: «Авось пронесет».
Жизнь сыграла жестокую шутку:
Мне российский авось не помог,
В лучших чувствах обманутый жутко,
Я прошу: «Помоги же мне, Бог!»
Помоги мне, я кровью повинный,
В том, что предал мой край и бежал,
И теперь вот оскал магазина
На церковном лугу увидал.
В магазине лишь водка и пво,
Да несвежий размажистый хлеб,
Пей, и будь молодым и счастливым,
Выше горя и тайны судеб.
Вон солдат одинокий у двери,
Молодой инвалид без ноги.
Чем живет и во что же он верит?
И ему ты, Господь, помоги.
Вдруг исчез магазин, а чуть выше,
Под лучами вечерними ал,
Над старинною школьною крышей
Образ церкви с небес воссиял.
И я впал в забытье на мгновенье,
Мозг в горячем тумане угас,
И мне слышался глас откровенья,
Словно церкви погибшей наказ:
«Я зажгу в тебе искру поэта,
Я тебе подарю благодать,
Чтоб про смерть мою в давнее лето
Ты потомкам бы мог рассказать».
Я не знаю, звезда ль зажигалась?
Или ночь зажигала зорю?
Но легко мне об этом писалось
И исполнил я волю твою.
За прощение тяжких ошибок,
И за этот подарок судьбе
Говорю я для церкви: «Спасибо,
Ты жива, не погибла в борьбе».
Мне пора, уже кличет дорога,
Я спешу на последний вокзал,
И я рад, что велением Бога
Эту грустную быль рассказал.
Круг общения8—12 марта 2001 года
Из других житейских наблюдений детства никаких отрицательных эмоций или недовольства «спартанскими» условиями жизни у меня не возникало. Отец и мать были общительными людьми. Не только на людях, но и в семейном кругу их разговоры не несли в себе никакой злобы и ненависти, как к суровым условиям быта, так и к местной или высшей государственной власти. В семье не было принято выражать чувства взаимной любви поцелуями, словами и другими подобными «нежностями» и «сюсюканьем». Даже мой день рождения и дни рождения родителей никогда официально не отмечали как особые семейные праздники, но в тоже время я чувствовал и духовно ощущал на уровне подсознания огромную родительскую любовь и отвечал полным доверием и взаимной любовью. При фактической материальной нищете, эта нищета не ощущалась как ущербность или какой-то недостаток, мешающий нормальной жизни. Ощущение полного комфорта и уюта, стабильность, покой и уверенность в завтрашнем дне придавала та духовная гармония любви и согласия, которая не на словах, а на деле невидимой сущностью присутствовала в нашей деревенской избе и делала нашу жизнь счастливой и осмысленной. В те времена не было телевизора и радио, но отец выписывал газету «Правда», и я ее читал в свободное время своим родителям вслух от корки до корки. Я думаю, что они просили меня читать газету не из-за любви к политике и не потому, что их сильно интересовали текущие события, а из-за того, что процесс чтения мне очень нравился. Да и я гордился тем, что еще задолго до первого класса научился бегло читать и отчетливо выговаривать все буквы и даже голосом и дикцией подчеркивать смысловую нагрузку читаемого текста. Очень долго не мог выговаривать букву «р». Оставаясь один, увлеченно и усердно громко произносил слова с буквой «р». Когда буква «р» неожиданно произнеслась правильно и отчетливо, я не поверил сам себе. Прочитал вслух газетный текст. Слова с буквой «р» звучали отчетливо и правильно, и при этом я не напрягался и не испытывал никаких затруднений. Вечером, не дожидаясь просьб родителей, я взял газету и с выражением начал читать первую попавшуюся статью. Они сразу же заметили мое правильное произношение буквы «р» и были изумлены и обрадованы не меньше меня.
Никто никогда в родительском доме не повышал на меня голоса, не прикоснулся пальцем и не читал никаких нотаций и наставлений. Хотя многих моих сверстников и друзей детских лет за плохие оценки или за родительское ослушание «учили» ремнем и читали им длинные нотации. Но никто из них после этого не стал «отличником» или послушным пай-мальчиком. Я думаю, что лучшим воспитателем является духовная атмосфера семейной любви и гармонии, благожелательное поощрение родителями личной свободы ребенка и пример позитивного отношения к своим человеческим общественным и семейным обязанностям со стороны родителей. В родителях не было зависти, лжи и двуличия. Они не ругали ни местные власти, ни правительство, хотя в кругу редких праздничных застолий открыто высмеивали бездумные решения властей или неудачные слова и выражения самого товарища Сталина. Что касается стукачей и доносчиков или карательных и всепроницающих органов государственной безопасности, о которых с придыханием страха пишут городские мемуаристы сталинской эпохи, то с полной уверенностью могу сказать, что в деревнях такой напасти и нечисти не было. В застольях и дружеских разговорах почем зря высмеивали колхозную форму организации за ее бесхозяйственность, тупость городских уполномоченных и разных надзирателей, которые по должностям карьеристов добрались до органов управления, но ничего не смыслили в сельском хозяйстве.
Тайна «кок-сагыза» и суровость властиВ послевоенное время в нашем колхозе, например, сажали среднеазиатское растение «кок-сагыз» для производства природного каучука. Конечно, огромный труд колхозников пропал даром. Урожай был нулевым, и на следующий год от этой бессмысленной затеи отказались. Рядовые колхозники открыто высмеивали эту глупую затею, но никто из них не был репрессирован за антисоветскую агитацию и пропаганду. В одной из своих речей по поводу успехов коллективизации Сталин сказал фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Эту фразу в деревне скоро переиначили и, садясь за праздничное застолье или просто при встрече с друзьями, повторяли как тост или скрытую насмешку: «Жить стало лучше, жить стало веселей, шея стала тоньше, но зато длинней». Не было случая, чтобы кого-нибудь арестовали как антисоветчика, но много было арестов «за горсть зерна», якобы украденного с колхозного тока, как и за любую даже самую малую кражу колхозного имущества. Районные надзиратели тайно приезжали в деревню и буквально выворачивали карманы у тех женщин, которые после работы на току возвращались домой. Если специально не вывернешь карман перед окончанием работы, то от зерновых потоков обязательно часть зерен попадет в карман работающей женщины. Обнаружив эти зерна, женщин увозили в районную «кутузку», и не все из них скоро возвращались обратно. Если это был не первый случай, то «расхитительницу» ждал скорый и беспощадный суд и несколько лет лагерного срока. Такой же суровый контроль осуществлялся за комбайнерами, трактористами, прицепщиками и водителями машин при посевных работах и уборке урожая. Многодетность и угроза голода многих из колхозников толкали на совершение мелких краж урожая зерновых культур. Вот эти мелкие воришки и становились уголовными преступниками, которыми в массовом порядке пополнялись послевоенные лагеря заключенных. Ко всем этим правовым жестокостям люди относились с терпением и пониманием, а лагерные сроки воспринимали как необходимую и нормальную реакцию послевоенного государства, стремление максимально сохранить урожай зерновых для недопущения повального голода в городах и индустриальных центрах огромной страны, истощенной четырехлетней войной и отсутствием стратегических резервов зерновых ресурсов. Кто же, кроме черноземных Тамбовской области, Ставрополя и Украины, мог дать хлеб стране?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































