Текст книги "Слепые и прозревшие. Книга вторая"
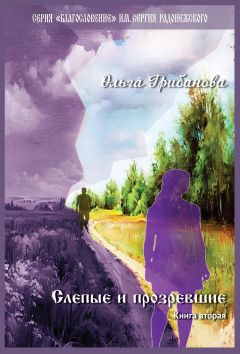
Автор книги: Ольга Грибанова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
4. Переходный возраст
Целыми днями наблюдаю за Сашей. Нахально обосновался в его комнате. Как только он возвращается из школы, мы, пообедав, садимся: он – к письменному столу, я – рядышком в кресло. Он делает уроки, читает, думает, рисует, что-то пишет. Я наблюдаю за ним до самой ночи, а утром, пока Саша в школе, собираю воедино и раскладываю по полочкам все, что… увидел.
Вот ведь когда видеть-то научился! И смех и грех!
Сижу, ловлю каждое его движение и все понимаю. Листает тетрадь, теперь учебник – бумага разная. У тетради веселая, звонкая, у учебника солидная и как будто много пожившая и повидавшая. А вот грязненько шелестят листки черновиков, которые Саша время от времени, оглушая меня, комкает и бросает в корзину – ш-шпяк!
Это все математика! Он сильно ее запустил!
Тихонько запищала в его руке шариковая ручка. Пишет, пишет, пишет… Получается?
– Ух, зар-раза! – опять – ш-шпяк! – снова не то.
Они с Галей похожи. Математика их не любит.
Но если на Галю математика всегда свысока поплевывала и иногда, сжалившись, резрешала найти верное решение, то Сашу она ненавидит, как чекист буржуя. Раньше она зло отбрасывала его своим мощным, идеальной квадратной формы кулаком и повергала в нокаут. Теперь Саша осадил ее со всех сторон и взял за горло. Она еще не сдается, рычит, кусается и норовит подставить ногу, чтобы опять лишить воли.
А я-то ее любил, бесстыжую. Мне нравилось, что она такая красивая, правильная, логичная. Не то что, скажем, русский язык, где на каждое правило куча исключений.
А вот Саша с русским языком никогда не мучается. Ни правил не знает, ни исключений, а строчит себе, не задумываясь, и без ошибок.
Я был не такой. Любила меня только математика, да физика еще. Ну и химия ничего, не ссорилась со мной. А все прочее я зубрил, благо память была хорошая. Прочитаю, бывало, раз, другой, третий. По вопросам себя проверю – и все улеглось.
А у Саши все не так. Память-то у него еще получше моей, но зубрить он почему-то не может. Идет каким-то другим, непонятным мне путем.
Вот закончились его мучения с математикой и физикой. Бурно собирает учебники, все летит, падает, хлопает, раскатываются по столу карандаши с ручками.
– Ну, – спрашиваю, – что осталось?
– История.
Спрашиваю, чтобы знать, о чем он будет думать.
– Ну и чего тут, и чего тут?.. – бормочет Саша, листая страницы. – Фигня… а это ежу понятно… Нет, ну смотри, чего пишут!..
Вдруг отшвыривает учебник – долго и жалобно шелестит веер его страниц. Начинает скрипеть и постукивать Сашин стул. Это Саша на нем качается, закинув руки за голову и глядя в потолок. Молчит, похмыкивает. Вскакивает и топчется вокруг стола, как застоявшийся конь. Сел! Защелкал мышкой. Дробно щелкает по клавиатуре, будто орешки перекатывает.
– Ха!.. Бредятина!.. – чем-то и интернет ему не угодил.
Потом начинают падать книги из шкафа. Найдя нужную, Саша, поерзав, устраивается на полу. Иногда все это кончается радостным Сашиным смехом:
– Ой, не могу! Ржачка! Ну я и тормоз! Пап, правда, я тормоз?
– Как тебе сказать… – умным голосом отвечаю я. – Когда вроде карбюратор, а бывает, и выхлопная труба.
И смеемся оба.
– Все, – объявляет мне сын. – Кончилась история. Познакомился Брежнев с Хрущевым. В Днепропетровске!
Ничего себе! Откуда он только это знает?
Я переслушал все, что было на Сашиных дисках. А чего не нашлось на дисках, Саша скачал мне в интернете.
Сколько же передумалось, перевспоминалось под эту музыку!
Вспомнил Гехину улыбку, когда незнакомый прохожий сказал ему что-то доброе. Геха так и замер, сначала в удивлении, а потом его губы как-то отдельно от лица поехали в сторону, и он тут же отвернулся.
Вспомнил я эту кривую улыбку, и все внутри заболело. Каково же приходилось парню, если он улыбаться не научился! Вот хохотать с каким-то рыком и ревом – это да! А улыбаться – нет.
Что с ним стало потом? Страшно подумать.
Если уж Сашу мы с Галей чуть не потеряли, то что же стало с Гехой?
И вообще что такое творится с человеком в переходном возрасте?
А сам-то хорош гусь я был в четырнадцать лет. Благо перед мамой я трепетал, чуть что – в струночку вытягивался.
Может, парню необходим кто-то, перед кем следует трепетать? И тогда в переходном возрасте, когда он будет крушить все свои прежние святыни, пугало-родитель, может, все же останется единственным табу. За него-то и схватится подросток, им-то и спасется, когда весь его прежний мир превратится в руины. «До основанья, а затем…» Ох, вот недаром же в народе строго детей растили – знали, что делали.
Купила, помню, мама девчонкам пластилин. Визг, топот, хохот – скорее лепить! Само собой, через полчаса все их пластилиновые грибы, колобки и морковки оказываются на полу и приклеиваются к подошвам. Руки девчонок покрываются сплошной липкой пластилиновой корой, и они обтирают ее о стену, стол и стулья. Я злюсь, ору на девчонок дурным голосом, еще немного, и наподдам – так противна мне эта вязкая грязь. Девчонки смотрят на меня исподлобья, надув тугие щеки.
Тогда мама, не поднимая головы от штопки, спокойно говорит мне:
– Помой, Коль, им руки.
– Сама пластилин покупала – сама и мой! – вякаю я в запале.
Мама отрывается от работы, и под ее взглядом я как миленький беру девчонок за пластилиновые руки и тащу в ванную. Там отскребаю этот красно-желто-зеленый пластилиновый панцирь: сначала газетной бумагой, потом какой-то ненужной тряпицей и наконец теплой водой с мылом. И тогда они опять становятся чистыми, с веселой скрипящей кожей – растопырки такие бело-розовые.
Вот как умела мама смотреть – взглядом, как ремнем, хлестанула!
Сделать бы тогда такую фотографию с ее лицом и на шею повесить. Захочется в зеркало на себя, душку, полюбоваться, а оттуда мамин взгляд!
Зато в школе, где не видели меня мамины глаза, я не знал удержу. Перессорился со всеми, кроме Сережки. Он умудрялся меня терпеть. Уж такой добряк был непрошибаемый!
Скакали мы как-то на физкультуре через козла. Сам физкультурник ушел на другую половину зала – водить девчонок по бревну, а меня оставил при козле за тренера. Я и отводил душу, орал как старый боцман:
– Толчок, толчок где? Спину держи! Приземляешься как корова!
Все шло благополучно. Что такое для восьмиклассника этот козел – перешагнул, и все!
Но нашелся бедолага, маленький Павлик Фалькович, который невесть как слетел с него носом вниз. Падая, он судорожно вцепился мне в руку, потянул, развернул, дернул – и я с важным видом сел с размаху ему на живот.
Ну и что? Кому больно было? Мне, что ли?
Как он сопел и заикался, когда я тряс его за грудки и зверски рычал все цензурное, что могло прийти в голову: что он несчастный дистрофик, что я не обязан с ним возиться, что он баба, что он червяк, сопляк, дурак…
И все это потому, что женская половина зала видела, как торжественно я восседал на его животе.
А что мне была эта женская половина? Я их не всех по имени-то помнил. Да и злился я тогда на всех женщин вообще, что сниться мне стали. И злился, и думать о них не хотел. А вот поди же!
– Коль, в нашем ДПШ сейчас набор в группу английского языка. Давай, может, вместе, а? Ты не хочешь? – застенчиво обращается ко мне Юра Зайцев.
Я знаю, что он хотел бы дружить со мной, и мне это приятно.
– За ручку, что ли, тебя водить? Один не можешь? – величественно бросаю я ему.
Юра вспыхивает, пожимает плечами и отворачивается.
Глупо, грубо. Мне тут же худо делается на душе от такой скверности, но я упрямлюсь перед самим собой, хорохорюсь, выискиваю задним числом повод для обиды.
А дело-то все в том, что Юра – богатенький, а я как истинное дитя своего строя ненавижу богатых.
Он живет по одной лестнице с нами, этажом выше, и я часто вижу его прелестную молодую маму в дорогой шубке и с перстнями на лаковых пальчиках. А моя мама всю зиму бегает в демисезонном пальто и выглядит вдвое старше. Вот такого я нашел себе классового врага в лице застенчивого Юрика Зайцева.
Чей-то молчаливый, укоризненный взгляд в памяти.
Челка до бровей, конский хвостик, носик уточкой и рот до ушей. Кто такая? Да Люська же наша, героическая мамаша Русакова.
– Головкина, ну-ка мусор из парты выскребай! Я что, за тебя должен?
Люська поднимает на меня глаза, краснеет и послушно ныряет под стол.
Я прекрасно знаю, почему она краснеет. Вчера она вернула мне учебник, а в нем между страницами я нашел записку: «Морозов, я тебя люблю». Взбесило меня это ужасно. И теперь при виде ее растерянной улыбочки я взрываюсь:
– Убирай, убирай, живо! Делать тебе на уроках нечего, дурью маешься! У самой двойка в четверти по алгебре, а еще записочками занялась! Да кому ты нужна?
Люська выпрямляется, смотрит мне в глаза так прямо, что мой взгляд начинает елозить по стенам:
– Дурак ты, Морозов…
И я не нахожу ничего умнее, чем тявкнуть:
– Сама дура!
Надо же, задумался и не услышал, как Саша из школы вернулся. Он вошел ко мне, сел рядом и потерся лбом о плечо:
– Пап, ты сейчас что играл?
– Да так, – говорю, откладывая гитару в сторону, – думал, кой-что вспоминал и музыку вот себе подобрал для настроения.
– Какое-то воспоминание у тебя грустное было. Повспоминай теперь что-нибудь веселое, а?
– Веселое-то?.. А вот, хочешь посмеяться? Мне в десятом классе как политсектору школы комсомольское поручение дали – бороться с модницами. А главная мода была – мини-юбки. И дали мне точные указания: больше чем на десять сантиметров выше колен – значит, мини. И вот, Сашка, ходил я по школе с линейкой, прикладывал ее к девичьим коленкам и измерял с точностью до миллиметра.
Саша хохочет. Так бы и слушал без конца его смех.
– И ведь никаких эмоций не было – ей-богу! Коленки как коленки! Во дурак-то был!
И смеемся вместе долго-долго.
5. Леша
Сегодня ночью выпал снег. Я проснулся и почувствовал его запах за окном.
Снег укрыл грязный палисадник с тремя деревьями во дворике-колодце. Одна ветка как раз напротив нашего окна, очень близко.
Галя когда-то рисовала ее в разные времена года. Но Галины рисунки я под горячую руку выбросил, когда перестраивал квартиру после смерти соседок.
Гале нравился изгиб этой ветки. Зимой он особенно ясно виден. Ветвь идет от ствола перпендикулярно к стене дома, а потом круто поворачивает почти параллельно окну. И здесь, на конце своем, она похожа на доверчиво протянутую ладонь с очень длинными пальцами. Осенью эта ладонь наполнена золотыми кленовыми листьями. Но день ото дня они потухают и потухают, превращаясь в мокрую бурую массу. И наконец однажды поздняя осень милостиво оделяет эту скорбно просящую руку охапкой первого снега. Он искрится, если зимнее солнце нечаянно заглянет во двор и тронет охапку лучом.
Но сейчас солнца нет. Мне так кажется.
Дома никого. Галя и Саша в школе. Я раскутал тщательно укрытый завтрак и поел. Все теплое, не остыло.
Подогревать Галя все-таки мне не разрешает. Прячет от меня спички. Я ведь пару раз пробовал уже, и она меня за этими экспериментами застукала. Но у меня все получалось, ничего сложного.
Ну да ладно, теперь она глава семьи, нужно слушаться.
Я сажусь у окна и смотрю на белый свет своими несуществующими глазами. Я знаю, что там. Справа, в щели между домами, теперь, когда листва опала, видны голые ветви деревьев зоопарка. Он тоже сейчас в снегу.
Удивительно тихо. Вот один навстречу другому прошли два трамвая, а звук как через ватное одеяло. Это значит, ветра нет, и из поднебесья спускаются крупные белые хлопья.
Если поднять голову навстречу снежинкам, покажется, что летишь ввысь, даже ноги онемеют.
Когда-то, в такой вот тихий снежный день, я впустил в дом Лешу.
Ох, как теперь трудно вспомнить его лицо. Мешает фотография на стенке у мамы – увеличенная паспортная фотка. Странно и смешно, до чего непохожие получаются лица на документах. Какой же тогда в них смысл?
Тот надутый парень на фотографии – это вовсе не Леша. И волосы не так зачесаны, и пиджак топорщится, словно на забор повешен, даже глаза не так смотрят. Не Лешины глаза.
И все-таки стоит мне о нем вспомнить, как фотография эта мозолит память, как камешек в ботинке.
Надо, надо вспомнить живого Лешу, каким он был, когда топтался на лестничной площадке:
– Мне Свету Морозову.
Старенькая ушанка закрывала лоб, а из-под нее серыми сосульками торчали волосы. Это было первое впечатление. Я был чистюля, все неопрятное сразу замечал и злился. А уж в тогдашнем моем подростковом настроении при одном взгляде на странного гостя забурлил где-то внутри.
А он почувствовал это так же остро, как и я. Сжался под моим взглядом, голова в воротник погрузилась по уши, и глаза совсем потухли.
Да. Это было, кажется, впервые, чтобы я так ясно увидел собственные мысли на чьем-то лице.
А дальше было так. Он уже стал разворачиваться, чтобы уйти, и поднял на меня глаза, чтобы пробормотать какие-нибудь извинения. Но тут же прочел и в моих глазах свои терзания.
Да. Да. Вот так оно все и было. Я теперь это знаю. А как же иначе объяснить, что я сказал этому незнакомому и странному человеку: «Проходите». В комнату к девочкам провел. Как это?
Что я узнал о нем тогда, что о нем подумал? Почему он вдруг перестал быть чужим?
Нет, помню, помню его! Вот сейчас ясно увидел!
Он взглянул на девочек и как-то вроде равновесие потерял, благо стул рядом случился. А я смотрел на него и не понимал, в чем дело. Очень подробно его тогда рассмотрел.
Он весь был какой-то неожиданно некрасивый, словно из случайных кусков собранный на скорую руку. Лицо почти мальчишеское, но с дряблой, морщинистой кожей. Глаза круглые, серые, брови над ними жалобно так изогнуты, а скулы широкие, напряженные, индейские. Нос прямой, на конце остренький, а ноздри смешно разъехались по щекам.
У него были нервные, вечно дрожащие губы. Он сжимал их крепко-накрепко, пряча за ними удивительно безобразные зубы, растущие как попало в два ряда.
Но если он улыбался от души, то все части этой перепутанной мозаики вдруг вставали на свои места. Даже зубы.
Но улыбку я не сразу увидел. А когда?
Он говорил с мамой. Она сердилась за его приход. Мне было его очень жалко. Я даже чуток обиделся за него на маму. Почему? Он уже успел стать для меня своим? Как это случилось?
Он топтался на месте, кружился и за все хватался руками: за стол, за стулья, за дверной косяк, как будто боялся упасть. И каждый сердитый мамин взгляд, каждое ее неприветливое слово вновь сбивали его с ног, заставляя цепляться за любую опору.
Он пытался и за мамину руку ухватиться, когда они сидели за столом, но руку мама отняла.
Да, именно за столом Леша в первый раз улыбнулся. Он о чем-то попросил, а мама согласилась. Так, так оно и было. Он еще сказал: «Я один, а ты не одна». Да. Вот:
– Разреши, я буду в гости ходить…
Длинная пауза. Мама сидит с каменным лицом, потом нехотя:
– Ладно…
Лешу от этого слова так и качнуло. И появилась улыбка. И такая улыбка, что мама, мельком взглянув ему в лицо, тут же отвернулась.
Поначалу это было так. Его тяжело было видеть, как тяжело видеть увечных: безногих, глухонемых, слабоумных.
Сейчас молодежь учат, что это неправильно. Вроде как надо на них смотреть да радоваться!
Да невозможно это! Здоровый человек обязан чувствовать камень на сердце при виде больного. Все беды и страдания здорового человека слишком мелки по сравнению с великим, бескрайним, каждодневным страданием увечного.
Другое дело, что тяжесть на сердце – вещь неприятная и для здоровья вредная. Поэтому нынче нам советуют от нее избавляться.
Отвлекся. Никогда раньше об этом не думал… Не знаю… Неправ я, наверно, потому что теперь я тот самый и есть – увечный! И не мне об этом судить!..
Конечно, мама всегда чувствовала себя виноватой рядом с ним. Как и я. Как и все, его окружавшие. Поэтому он был одинок.
И у Гали никогда не было подруг. Только с рождением Саши появилась Люська. Удивительное дело! До сих пор не могу понять, что их связывает. Люська – простецкая такая баба-клуша. Галя – натянутая струна: тронь – и зазвенит от тайной боли.
С Лешей сначала было именно так – тяжело и отчего-то стыдно. А потом это прошло. Значит, перестал видеть разницу между мной, здоровым и счастливым, и Лешей, больным и несчастным. Братьями стали?
Как с Сережкой, когда я взял на себя заботу о его материальных ценностях. Нет, не так! То – да не то!
А случилось все, по-видимому, в бане, когда мама послала туда Лешу вместе со мной. Мне было тягостно видеть его дрожащие руки и ноги, его небольшой, но отчетливо выступающий горб на костлявой спине. Я все старался от него отвернуться.
И он, конечно, опять все это понял. Выронил из мокрых рук мыло, полез за ним под скамейку, поскользнулся в мыльной пене, опрокинул на себя таз с горячей водой и беззвучно заплакал, глядя на меня, обернувшегося на грохот.
И тут все встало на свои места. Он стал для меня родным ребенком, который без меня не может, которого надо утешить и хорошенько, добела вымыть.
Я поднял его под мышки, посадил на скамью и проворчал ласково, как только смог: «Ну чего ты, сиди спокойно».
Обратно возвращались мы в сумерках по обледенелому тротуару. Он крепко держался за меня обеими руками, а я аккуратно вел его мимо самых скользких мест по надежному пути.
А потом он принес гитару и стал моим учителем. Вот она, Лешина гитара, рядом со мной на стене висит. Протягиваю руку, снимаю ее с гвоздя. И пальцы послушно встают на те места, куда их поставил мой Леша, и звучат аккорды песни о муравье, первой моей сыгранной и спетой песни:
Мне нужно на кого-нибудь молиться,
Подумайте, простому муравью…
– Ага, ага, Коль, хорошо! Пошло-поехало! – Леша от радости подпрыгивает на диване, наблюдая за моими пальцами.
…И муравей создал себе богиню
По образу и духу своему.
Как могло случиться, что я бросил его? В какой момент я должен был его спасти и не спас?
– Ну чего ты встал? Проходи скорее! Мама на работе, и я сейчас ухожу.
Как я потом казнил себя за эту холодную грубость! Но в тот момент у меня ничто даже не шевельнулось в душе. Ведь Леша был уже и не гость вроде, а свой, родной. Я еще не знал, что своих, родных, тоже следует беречь.
А давно ли узнал-то?..
По башке себя бить надо было не за эти хамские слова. Не только за это. Был бы я в тот миг повежливее – всего лишь моя совесть была бы потом спокойнее. Может, Леше приятнее было бы обо мне думать перед смертью.
А что обо мне следовало думать?
Он на моих глазах стоял на краю пропасти. Да, я не видел ее, но знал же, знал, что она там, возле его ног. На моих глазах он качался, махал руками, пытаясь удержать равновесие.
А я смотрел на него несколько месяцев и равнодушно удивлялся: и чего это он так качается да руками машет? Как бы меня не задел.
И вот он сорвался вниз на моих глазах и в последних судорожных усилиях цеплялся за меня, за локоть мой, там, в темной прихожей. Как ножом вспарывает его сдавленное дыхание мою засохшую, застывшую память. И вновь истекает горячей живой кровью душа моя.
Порвалась последняя ниточка, полетел вниз мой Леша. А я вежливо пожелал ему счастливого пути – пишите письма. Но если бы я начал орать, звать на помощь, рвать на себе волосы, все равно не спас бы, лишь совесть свою обманул бы.
Поздно! Надо было раньше. А теперь можно было бы только рухнуть с ним вместе и попытаться смягчить его падение собственным телом.
А ведь с Сашей-то у меня это вышло!..
Чему-то я все-таки за тридцать лет научился…
6. Ларчик и коробка
Вот если бы знал накануне, что ждет меня слепота, неотвратимая, как смерть, о чем бы думал я?
Страдал бы я, что столько зла причинил людям, которых больше не увижу?
Скорее всего, нет… Конечно же, нет! Я думал бы о том, как я несчастен, как несправедливо обижен. Пытался бы представить себе боль, которая поразит меня завтра, и метался бы от стены к стене от ужаса.
Но мне бы и в голову не пришло искать причину в себе…
Неужели преступники всерьез раскаиваются в злодеяниях накануне казни? Не верю… Наверняка они только после смерти начинают понимать, что натворили.
Как я был счастлив, что сбежал от прекрасной Ники! Как летел домой, к двум своим любимым женщинам, соседкам! Уберег свою честь!.. Курам на смех!..
Нет, это не смешно. Я знал, что не для Ники я предназначен, что есть где-то моя судьба, которой я не должен изменить.
А судьбе моей тогда было четырнадцать, и занималась она тем, что подкладывала утку под одуревшего от пьянства специалиста по научному атеизму. А потом она, измученная, отравленная его гниющей душой, пришла к Богу.
А что я делал в четырнадцать лет? Окрестил девочек, увидел лица дедушки и бабушки на старой фотографии. Потом встретил и потерял Лешу.
А Галю в это время впервые назвали Поганкой…
Теперь-то я знаю, что не хотел изменить Гале, которую должен был встретить. Но за что я так больно ударил Нику? В чем она передо мной провинилась?
А ведь до сих пор, прямо до этого дня, до этой самой минуты, думал, что прав!..
Эх, мама, мама, до чего же ты мягкой стала. Нельзя так со мной! Наверно, в молодости ты была права, когда держала меня на коротком поводке.
Где был твой хлещущий взгляд, когда я гордо рассказывал тебе, как скинул с колен целовавшую меня Нику. Только вздох печальный: «А мне ее жалко…» Еще бы не жалко, мама!.. Да я своим свинским рассказом в лицо тебе плюнул! Я сам – сам я! – был зачат только потому, что мой отец, которого я привык считать несуществующим, не сбросил тебя, мама, в сторону как надоедливую козявку!
Но ведь я Нику не любил, и она об этом знала… А отец маму…
А что я вообще о нем знаю, кроме имени Игорь, которое не досталось мне в отчество?
Я Нику не любил. С самого начала не любил. Даже потрясенный с первого взгляда ее красотой, я знал твердо, что такую не полюблю никогда.
Почему, интересно? Потому только, что я был предназначен для Гали, или было что-то еще?
Скажем так. Нужна мне, голодному, краюха хлеба, и предлагают мне на выбор поискать ее в невзрачной картонной коробке или в дивной работы ларчике.
Стоп! Сразу вопрос: сытый я был или голодный. Сытый полезет в ларчик, потому что в нем может оказаться сокровище. Сокровищем можно любоваться или накупить на него вагон хлеба и еще там не знаю чего: «сникерсов», «памперсов», «вискасов»… А может и не лежать ничего, может, он сам по себе ларчик, музейный экспонат.
А голодный схватится за коробку, потому что в ней, серой, картонной, скучной, наверняка что-то полезное лежит – она создана для того, чтобы в себе полезное носить.
Так сытый я был или голодный?
Нет… ничего не получается… Путаюсь…
Ведь судьба выбора мне не предложила. Поставила передо мной красавицу Нику и спрашивает: «Ну и как, желаешь заглянуть?» Вот теперь и разберемся. Будь я голоден, мне бы везде краюха хлеба чудилась. Я бы непременно открыл этот музейный экспонат: а вдруг там что-нибудь найдется. Вдруг какой-нибудь искусствовед с ним рядышком ел свой скромный искусствоведческий бутерброд и на дне крошки остались?
А если я был сыт?..
Нет… Запутался… Не могу понять…
А может быть так: представим себе хрестоматийное растение росянку, которое видел только на картинке. Распускает она поутру свои хищные листики, выбрасывает обсосанные за ночь трупики вчерашних поклонников, встряхивается, охорашивается: «Ага, пролетает мимо очередной дуралей!».
И вот я уже иду с ней рука об руку, слушаю ее байки о родных и друзьях и убеждаю себя, что нам просто по пути до метро.
Что-то слабо козявка реагирует – бросить все силы на рекламу! И затрепетали реснички на круглых листиках, и заиграли, запрыгали по комариным крыльям зайчики от прозрачных капель, таких светлых на вид, таких клейких на деле…
Завяз комарик, завяз! И в театры ходит, и в гости заглядывает. Но вяло, вяло, без огонька! Поднажмем!
И заливает комарика липкая дурманящая волна, сжимают его в кулачок коварные реснички.
И вот уже, куда бы ни повернулся я, мой локоть упирается в ее нежно-упругую грудь. Уже горит мое лицо от ее поцелуев при встрече и прощании. Уже темнеет в моих глазах, когда ее прохладные пальцы забираются глубоко под манжету моего рукава и покалывают там острыми коготками.
Все! Готов! Теперь можно со всеми удобствами расположиться на его коленях, сомкнуть руки на его шее – и переваривать!..
Но что за незадача, не тут-то было! Может, ошиблась росянка? Может, не комарик это был, а толстый майский жук с бронированным панцирем? Да бог его знает, зачем вздумалось ему присесть на росистые листики. Просто вздремнул. А проснувшись, расправил могучие жесткие крылья, разодрал ими лукавый листок в клочья и улетел, довольный собой.
Как же ты здорово все это придумал! Какая удобная вышла картинка! Сама, дескать, виновата, жрешь не глядя кого попало…
Скотина ты! Она же погибла, а ты жив!.. И почти здоров…
Врешь, не безмозглое ты насекомое, а человек!
Увидел ларчик с приоткрытой крышкой и обрадовался: приоткрыто – значит, для меня. Такой, понимаешь, пуп земли! Ну залез – и что же там?
А на дне-то ларчика зеркало лежало. А в зеркале вместо твоей прелестной ряшки зловонное болото и встающий из него грязный зверь. Неча на зеркало пенять… А ты давай пенять! Рассердился, а может, испугался и со страху ларчик разбил. Искалечил прекрасную вещь… искалечил…
Мы танцуем. Ее горячее тело змеится под моими руками. От Сережкиного ли дорогого коньяка, от музыки ли, от ее ли тела, от ее ли взгляда, но пьян я зверски. Зверски. Путается зверь у меня под ногами, мешает двигаться и нашептывает, брызжа ядовитой слюной: «Вот щ-щ-щас за дверь ее, за дверь заводи – и бросайся!»
Она всегда видела меня насквозь, как голого. И готов поклясться, этого зверя моего мохнатого она видела во мне так же ясно, как и я сам.
И я действительно бросился на нее, чуть мы скрылись за дверью, и прижал к себе так, что заломило в собственных костях. Кажется, был и поцелуй, как-то смутно это все… Но трещина на нижней губе как нарочно не заживала дня два.
Хотел об этом забыть, а эта трещина не давала, и тянула, и толкала.
– Ты что? Здесь нельзя!.. – шептала мне Ника, выскальзывая из моих рук. И это значило: в другой раз!
Сколько ж было этих разов, когда друг мой школьный, лучший друг мой Сережка, ушел в очередное плавание!
Но ведь не любил… ведь ненавидел…
Помню последнюю нашу встречу. Я сидел в том самом памятном кожаном кресле, смотрел в ее прекрасное злое лицо и сам закипал злобой. Злился я, ох как я злился на эти обломки разбитого ларчика. Там, под ними, все еще лежала груда зеркальных осколков, тысяча маленьких зеркал – и в каждом зверь!..
И как это мне искупить?.. Никак. Она погибла.
Давно я перестал придумывать счастливые концы своим грехам.
Маленький такой, незаметный, невинный грешок… Как бы назвать-то?.. Тщеславие?.. Эгоизм?.. Кто из людей этим не грешит?
И вот по чьему-то высокому повелению вдруг покатился этот грешок по твоей жизни, и налипли на него все новые, и новые, и новые. И вот стоишь ты перед исполинской горой и ждешь, куда качнется она, на кого свалится…
А если бы все-таки не так распорядилась судьба и заставила сразу сделать выбор: чудесный ларчик с дьявольским зеркалом или… картонная коробка?..
Что за коробка?! Почему она ко мне привязалась? Это Галю-то я картонной коробкой изобразил?..
Что ж это со мной?!
Не коробка она и не ларчик с дурацким секретом, а лебедь, лебедь мой хрустальный. Чистый, прозрачный, ни пятнышка на нем, с одного взгляда виден. И внутрь не лезь – разобьешь вдребезги, а все равно не найдешь ничего другого, кроме ясной чистоты.
Это я сам своего лебедя упаковал в картонную коробку вместе с колбасой, чистым бельем, кастрюлями, мочалками и прочими полезными вещами…
– Коля! Коленька! Что ты… плачешь? Господи, да у тебя температура! Почему ты мне не сказал?! Саша, Саша, говорила я тебе, чтобы ты маску надевал и не кашлял на папу! Несчастье ты мое! Ой, какая высокая температура!
Чистые, прохладные, хрустальные Галины руки порхают вокруг меня, без конца трогают пылающий лоб, сжимают запястье в поисках пульса, растирают ступни чем-то пахучим. И вбирают, и уносят мою великую Боль. Я ясно вижу каждое движение этих рук и ловлю губами, когда они пролетают мимо моего лица. Как я счастлив, что вижу их!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































