Текст книги "Слепые и прозревшие. Книга вторая"
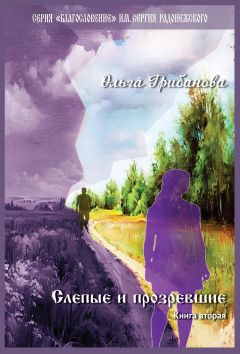
Автор книги: Ольга Грибанова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
7. Андрюха
Сколько же тянулась болезнь моя?
За неделю до Нового года она началась. Испортил я своим весь праздник, да какой еще праздник-то: начало нового века. И нового тысячелетия! И такое вот гадостное вышло начало! Неужели тысячелетие будет гадостное?
Два раза вызывали неотложку, не могли сбить температуру. Второй раз неотложка чуть не забрала меня в больницу. Галя отстояла. А то бы я умер там, в больнице, без нее.
Сорвал им праздник, зимние каникулы испортил. Так и сидели они при мне неотлучно.
И было бы из-за чего свалиться – простой грипп, правда, на фоне пониженной сопротивляемости организма. Это какой-то врачонок надо мной умным голосом объявил.
Колола меня Галя каждый день. Оказывается, она это замечательно умеет.
Интересно, что я все время плакал, пока у меня был жар. Высоченная температура была, за 40 переваливало, все вокруг смутно было: где явь, где бред – не поймешь.
Одно помню точно: Нику оплакивал. Такая жалость и любовь! Не та, не похотливая. Сердечная такая любовь, как к родной. Как накатит на сердце – так весь я слезами и умоюсь. Кажется, за всю жизнь столько не плакал.
А еще в бреду я видел. Была какая-то температурная граница, рубеж какой-то. Стоило перевалить через него – и я начинал видеть. Сначала неясно, обрывочками, а потом все яснее и осмысленнее. И ведь не то чтобы ужастики какие, а просто видел, что делается вокруг меня.
Видел Галю в ее любимом домашнем платье, темно-сером в белый горох. Она и в самом деле была в этом платье, я на ощупь его знаю, ткань такая мягкая, старенькая.
Я видел, как Галины руки смачивают белую тряпочку в остро пахнущем спирте с уксусом. Вот отжимают – и я слышу звук падающих капель.
Вот она возле меня, Галина рука, вижу сеточку морщинок на ее пальцах, и тут же ледяное прикосновение уксусной тряпочки.
Видел Сашу. Его голова уже закудрявилась светлыми волосами, как раньше.
Вот они с Галей говорят, я вижу, как движутся их губы, и слышу их голоса.
Наконец был такой момент, когда я увидел свое лицо. Увидел собственные крепко, навсегда зажмуренные глаза и, помнится, довольно спокойно подумал: «А доктор был прав, не так уж страшно выгляжу, просто вроде что-то кислое съел».
Вспоминаю об этом – мороз по коже, лицо свое со стороны увидеть!.. А потом начинаю соображать: никакой разницы, что мое, что Галино, что Сашино лицо – все равно я, слепой, увидеть не мог.
Соображаю так, стараюсь от души, но что-то плохо у меня это выходит. Винтик какой-то развинтился во мне, пока я болел. Засела в душе мысль, надежда, уверенность – как назвать, не знаю, – и жду теперь каждую минуту, что вот-вот увижу. Не мысленно, не картинками из памяти, этому-то я уже научился, слушается меня память. Захотел, сосредоточился, перебрал в памяти целый ворох, и вот уже есть нужное. И смотрю сколько хочу, держится картинка, не теряется.
Но нет ведь, жду теперь чего-то другого как дурак.
Вдруг стал радоваться гостям. Это после болезни так у меня. До этого мне все было безразлично. Знал, что к Гале приходят родители, и мамушка моя приходит, и Дашка с Сережей, и Люся с Валерой, а все как будто в другом они мире. Будто, скажем, сижу я рыбкой в аквариуме, а они где-то по ту сторону стекла движутся, шевелятся – а что мне до них? В моем мире есть только Галя и Саша.
А вот сейчас как будто стенка исчезла. Приходит гость, здоровается, и память тут же мне подбрасывает картинку, да еще и как-то варьирует ее, подстраивает под ситуацию. Интересно.
И радует это меня. Оказывается, соскучился я по людям.
Сегодня пришел Андрей. Я никак не мог понять, кто это там басовито мурлычет в прихожей, а память моя узнала голос раньше меня. Только открыл он дверь, как передо мной Андрюхина толстая бритая морда со следами волос на затылке.
И где это моя память такое откопала? Я же Андрюху таким никогда не видел. Бритым он был только в молодости. Безбородый, волосатый и тощий. А при этом такой нескладный, что никуда не вписывался, несмотря на худобу. В этом они с Юркой похожи: два гиганта в посудной лавке.
Но Юрка, скорее, носорог, напористый такой, упрямо набыченный. Он сам по себе, а падающая посуда сама по себе.
А Андрей был, пожалуй, жираф, куда-то вдаль устремленный. На нереально тонких ногах несся он к цели, одним жирафам ведомой. И, как истинный жираф, признавал тогда только высокие материи.
– Ты знаешь, Колян, какую музыку Ленин любил?
– Песни, небось, русские народные?
– Ха-ха! Фигос под нос! Только свои, революционные, да еще сонату «Аппассионату», которую ему мама в детстве играла.
– Ну и что?
– Представляешь, из всей музыки только то, что в детстве слышал. И еще всякая примитивность, чтобы строем шагать.
– Ну и что?
– Что?.. Сам не знаю, что…
– А откуда ты об этом знаешь?
– Да это общеизвестно!.. Мне Таня сказала.
– Колюха, «Мастера и Маргариту» читал?
– Нет.
– А я прочитал, мне Таня дала самиздатовскую.
– Да? Ну и как?
– Может, Бог вправду есть? Ты как считаешь? Не могли же люди столько веков попусту верить?
Ну да, я же об этом и сам частенько думал. Но, поскольку высказал не я, а Андрюха, мне надо было повыпендриваться:
– Тебе в институте научный атеизм читали? Не могла же советская власть попусту деньги твоему преподавателю платить? Вспомни, что ты там проходил. И вообще, у тебя сейчас пятый транзистор полетит, будет тебе от шефа секир-башка.
– А ты, Коль, знаешь, ведь Солженицын-то – классный писатель!
– Ты что ж, его читал?
– Нет, Таня читала.
И все одна Таня, сплошная Таня. Она владела и разумом его, и душой. Она манила его вдаль интересными мыслями, новыми идеями, грандиозными открытиями, которые брезжили тогда перед нами, в конце 70-х годов. И он несся за ними, едва касаясь земли тощими жирафьими ногами.
Я завидовал и ревновал. Почему-то задевало меня, что не я владею Андрюхиными помыслами. Не могу вспомнить, зачем мне это было нужно. Знаю одно: если бы я почувствовал в нем независимость, мне бы не пришло в голову им владеть. Но Андрюха был создан, чтобы бегать всю жизнь за чужими идеями. Так почему же не за моими?
Вспомнить бы, вспомнить, зачем мне это было нужно!
Может, хотелось мне из жирафа сделать бобика? Кидать с барственной ленцой палку и любоваться, с каким визгливым, восторженным тявканьем понесется за ней этот дуро-шлеп, размахивая кудлатыми ушами. А потом гордо принесет ее мне, грязную, замусоленную: «Ай да я, похвали меня скорей!».
Вообще-то против Тани я ничего не имел. Она мне нравилась.
Ника ушла тогда в далекое прошлое, Галя была еще далеко впереди, и я вовсе не стал бы возражать, если бы Таня, сравнив смешного, нелепого Андрюху и солидного умного меня, сделала бы правильный выбор. Но Таня не собиралась делать никакого выбора. Для нее существовал только ее долговязый жираф, и это меня раздражало. Но сознаться в этом самому себе не хватало духу.
И вот смотрел я на их любовь как та самая лиса на виноград.
– Я взял два билета на «Чудовище», в главной роли Бельмордо.
– Бельмондо, – машинально поправляет меня Андрюха и затем начинает визжать и хрюкать, догадавшись, что я пошутил.
– Ну так дерзнешь пойти без Тани? – небрежно спрашиваю я, когда он наконец успокаивается.
– А чего Таня? Таня у меня всегда… Таня никогда… Ты что… тоже еще…
– Ну смотри, – улыбаюсь я печально и загадочно, – как бы не было осложнений.
И потом с гнусным удовлетворением убеждаюсь, что Таня о нашем культпоходе ничего не узнала.
Услышав в очередной раз Танино имя, не упускаю случая нахамить:
– Ты как, уже должен жениться как честный человек или тебя еще водят за нос?
Андрюха сердито отмахивается в ответ – раз, другой, третий. А потом в один прекрасный день гордо отвечает:
– Да! Должен! И женюсь!
И женится. А я ставлю свою свидетельскую подпись в толстой книге и завидую ему до коликов.
А кто виноват? Сам сбежал от Ники, а в рай, как известно, силком не тянут.
– С тещей-то уживаешься? – спрашиваю месяц спустя.
– А чего, она баба хорошая, и тесть – мужик что надо.
– А про двух медведей в одной берлоге слыхал? Не слыхал. Не бывает такого. Для тещи зять – всегда тиран несчастной дочери, – говорю я с такой убежденностью, что сам себя убеждаю.
Через месяц Андрюха начинает коллекционировать объявления о размене квартир. Еще через год я приглашен к молодым супругам на скромное новоселье в только что обретенную однокомнатную квартиру.
В квартире очень чистенько, светло и уютно. Таня с большим животом выглядит еще милее, чем раньше. Она трогательно суетится, пытаясь меня задобрить, но я беспощаден.
– Трудно без мамочки хозяйничать? – отечески воркую я. – А что будете делать, когда чадо появится?
– Спокойно! Прорвемся! – бодрится Андрюха. – Я-то на что?!
– Ну это само собой, – веселюсь я. – Юбку наденешь – и к пулемету: посуду мыть, пеленки стирать, по магазинам бегать. А когда же Таня будет культуру нести в твою широкую массу? Тань, он же у тебя этот шкаф с книгами не прочтет, ты же его разлюбишь!
Молодожены хохочут до слез и нахально обнимаются на моих глазах.
А в следующий раз я в этой уютной квартире обмываю с Андрюхой рождение Артемки. Я пьян, но совсем чуть-чуть, ровно настолько, чтобы чувствовать себя своим в этой компании Андрюхиных школьных и институтских приятелей.
Мы травим подходящие к случаю анекдоты разной степени похабности и дразним ошалевшего от счастья хозяина. Один предлагает сфотографироваться на память всем вместе, чтобы потом определить, на кого похож малыш.
– Тогда уж и соседей зови! – стонет от смеха кто-то из нас.
Другой вспоминает, что в первое время после родов с женой нельзя… Нельзя! Ни-ни! И все наперебой предлагают свои варианты выхода из печального положения.
А я, страшно нравясь самому себе, ору Андрюхе через стол:
– Что, брат, попался? Теперь привязала она тебя ребенком, никуда не денешься!
Все это вспоминаю я, любуясь своими слепыми глазами на вновь побритого Андрея. Был жираф, а получился… бегемот. Кто его таким сделал?..
А гость мой грустно жалуется:
– Так-то, Колюха. Выходит, я дедом стал. Только не назовет меня никто дедом, как отцом уже двадцать лет не называют. И чего я, спрашивается, к Артемке не ходил, чем так уж занят был? Ведь ни разу не пришел! И не думал, и почти не вспоминал. А мог бы ходить к нему, гуляли бы вместе, разговаривали… Татьяна бы разрешила, я знаю. Она ведь умная и добрая. Никого лучше ее не знал… Вот какое дело… Она же мне звонила, на Артемкину свадьбу хотела позвать, но я уже у Ирки не жил. Не нашла меня. Черт! Артемкина свадьба! Коляха! Я ж его на улице встречу и не узнаю!..
И я слепыми своими глазами вижу слезы, которые заставляют дрожать сытый бегемотный Андрюхин голос. Я молчу – на что теперь слова.
А если скажу что-нибудь, то мой голос тоже задрожит.
8. Галя
Сегодня выходной. Погода хорошая, солнце и легкий морозец.
Галя выгуливала меня в первый раз после моей болезни. Одной рукой держался за Галю, другой – за палку. Я еще начинающий слепой и палкой пользуюсь как профан. Сначала прилежно стучу впереди себя, но потом быстро устаю и просто волочу ее по дороге.
Чтобы привыкнуть к палке и сделать ее органом осязания, я должен погулять раз десять самостоятельно, хоть вокруг двора туда-сюда, туда-сюда. Но какое там! Не отпускает меня Галя одного.
Вообще она, конечно, права. Вот, пожалуйста, сегодня идем мы с Галей по тишайшему, скучнейшему Малому проспекту, бывшему Щорса, и вдруг прямо перед нами из подворотни: «Йа-а-ау» – вылетает иномарка, жемчужно-синяя, вся грязью залепленная. А следом опять: «Вз-з-зйа-а-а» – мчит милицейская и орет что-то вдогонку.
Да уж! Это не застойные советские годы, без приключений по городу не погуляешь!
Галя меня к стенке прижала, собой заслонила, и стояли мы так минут пять. Двинуться боялись.
Дома я спохватился: ведь вроде как увидел эту жемчужно-синюю иномарку. Пробовал расспросить Галю, что за машина была, чтобы себя проверить, но Галя ничего не запомнила от страха. Жаль, что не удалось проверить: тут такой случай, что на память никак не спишешь.
Да опомнись! Что ты? О чем думаешь-то?
И впрямь, что ли, вообразил, что новые глаза вырастут?
Уймись! Ты уже все пережил, все перестрадал, едва не свихнулся и наконец смог принять все, что тебе дано!
Еще поднатужился и начал понимать, за что тебе это дано.
Уймись. Лучше подумай о Гале.
Сегодня я проснулся среди ночи, ощутил ее с собой рядом и сильно, трепетно так захотел. Она, проснувшись, ничуть не удивилась, а приняла меня ласково и покорно, как всегда.
Я ей шептал: «Родная, счастье мое…», а она вдруг заплакала и засмеялась.
Никогда в прошлой нашей с ней жизни не отказывала мне. Не ссылалась ни на усталость, ни на самочувствие, хотя, конечно, бывала и усталая, и слабая. А насчет хотения…
Бывало ли такое, чтобы ей этого хотелось? Ох, не знаю…
Знакомая черная боль в душе. Мне что-то нужно вспомнить, чего я боюсь заранее, всем существом своим боюсь.
Сейчас это подойдет ближе, и тогда тоска охватит меня всего, каждую клеточку тела. Она черная, грязная, мутная, эта тоска, будет давить, распирать меня изнутри, пока не взорвется мгновенным прозрением. И тогда, явив передо мною всю тяжесть моей вины, начнет грязная тьма потихоньку таять, прорастать неясной синевой, холодной, как зимний рассвет. И наконец разольется по мне легкое голубое сияние.
Но без ночи не будет рассвета…
Глаза, опять Галины глаза, в них ужас перед чем-то таким, чего я не понимаю. Я так люблю ее, так хочу защитить от этой напасти, но я не понимаю, я бессилен. Я слеп…
Это в боевиках любят такие финты: супермен защищает любимую от невидимого врага, машет, машет в воздухе чугунными кулаками, палит из всех стволов сразу. А за его спиной любимая уже истекает кровью, сраженная насмерть.
Запинаясь, путаясь, краснея и бледнея, говорит, говорит мне Галя о каких-то давних-давних событиях. О двух стервах, раздевших ее в физкультурном зале. О гинекологе, раздвигавшем ее колени, чтобы осмотреть. О безумном алкоголике, рвавшем ее платье. А я все в той же слепоте: где, где она, опасность, в чем ужас-то сейчас, спустя столько лет?
И наконец:
– А вдруг я не смогу…
И только тогда я увидел беду, когда сообразил, каким образом это все коснется меня, горячо обожаемого меня. Только тогда понял, только тогда содрогнулся: вот ужас-то мне, бедному!
Но она смогла.
Вот где тоска моя беспросветная! Только сейчас я понял, что она с собой сделала, чтобы смочь!
Каким одухотворенным отчаянием светилось лицо ее, когда совершал я над нею первый супружеский акт. Это прекрасное страдание сейчас перед глазами моими, перед потерянными моими глазами, хоть и видел я это страдание один лишь миг, – и зажмурился, и впился в ее губы!
Теперь я знаю, что это было. С таким лицом она приняла бы от меня хоть смерть. Лицо жертвы, полюбившей палача своего.
Но я зажмурился – и все стало хорошо. Она дрожала, но обнимала меня, дышала судорожно, но целовала.
Так вот о чем молилась она перед каждым сном возле маленького образка: благословения на муку просила.
Господи, Отче, помоги мне понять вину мою! Сил нет! Мука моя нестерпима!..
Чувствую, где-то рядом лежит мое зло, но не пойму! Слеп…
Ты же, ты же Сам, Отче, дал мне ее в жены, а меня – ей в мужья! Да ведь Саша без этого не родился бы!.. В чем же я виноват?
Она же была счастлива со мной! Ну хоть режьте меня – была она счастлива!
Счастье было в ее не умеющих врать глазах, в целующих меня губах, в трепещущем голосе, в тоненьких нежных пальцах. Столько любви было в каждом ее прикосновении! Вся, вся целиком – одна лишь любовь ко мне! Я прямо парил где-то в облаках ее любви!.. И счастливый этот полет продолжался до самого… до самого…
Не знаю…
В какой момент упал я на землю с этих облаков?
В тот день, когда она вернулась домой, – она и не она! – услышав, что для своей безопасности ей требуется сделать аборт.
Засветлело, засветилось…
Сейчас, сейчас я подхвачу мелькнувшую мысль и наконец пойму все, что происходило тогда с ней и со мной.
Оказывается, Саша-то у нас уже был, жил с нами незримо. Галя чувствовала его в себе даже не зачатого. А я, конечно, нет. Я думал, что мы одни на всем белом свете и счастливы этим. А нас, оказывается, было уже трое.
И вот, едва зародившись в Гале, Саша сразу предъявил права на Галину жизнь. Страшная ситуация: кому-то из нас двоих Галя должна была подарить свою жизнь – мне или Саше. Если мне, ее мужу, то у Саши ее отнять, ему не суждено будет родиться. Если подарить Саше, то, возможно, погибнуть с ним вместе – и отнять свою жизнь у меня.
И тогда увидел я впервые, что я – это еще не все. Есть что-то более важное в Галиной жизни, перед чем я бессилен. Это меня тогда не обидело, не рассердило, а лишь напугало: выбор сделан не в мою пользу.
Десять дней это было. Таких же тяжелых для моей памяти, как прощание с Лешей. Со мною рядом вдруг оказалось совершенно чужое существо, будто из антимира, будто боявшееся взаимоуничтожения.
Наконец разрешилось все это. Я отказался от всех прав на ее жизнь в пользу еще неведомого мне Саши. В этот момент понял я, что нас трое, и мир пришел в Галину душу.
Рассеивается туман? Яснеет?.. Нет. Покоя нет. И вовсе не ясно…
Где же вина моя? Может, в том, что заставил ее страдать эти десять дней? Так я же и сам страдал. И ненарочно же я, не знал ведь, не понимал ничего… И еще пятнадцать лет не мог понять…
Господи, Ты же прощаешь, если кто не ведает, что творит!..
Нет, что-то еще, что-то дальше…
Потом была долгая-долгая больница. Изредка, на праздники, Галю отпускали ко мне. Я вез ее домой на такси. Мы запирались в комнате и все отпущенные нам дни сидели на диване, крепко-крепко обнявшись. Супружеством заниматься нам было строго запрещено, да и – странное дело – не хотелось. Я держал ее в объятиях как сестру, как дочку, и, Господи, как же я любил ее в эти минуты!
А потом вез в обратный путь и, проводив до самых дверей дородового отделения, весь разрывался от тоски.
А потом была та страшная ночь, которую провел я в бегах по Кронверкскому проспекту – от Биржевого моста до Тучкова и обратно.
Тогда впервые Ты явился мне, Господи, и вернул мне почти умершую Галю. А вернул за то, что всю ночь вспоминал я свои грехи перед ней, все вспомнил, все оплакал.
Наконец привез я ее домой. И вот первый месяц, безумный, бессонный, с вечно кричащим Сашей и запахом мокрых пеленок.
А потом мой позор с Никой. Победил меня гнусный косматый зверь и долго-долго держал в плену.
Неужели это был я? Вечно злой, вечно почему-то усталый. Почему?
Да потому, что порвалась моя связь с Галей – и сразу обессилел я. Видел теперь в своей квартире лишь бледную некрасивую женщину с таким худеньким телом, что и в лучшие-то наши с ней времена чуть пугался, видя его обнаженным. Вот так ослеп я…
Неужели это я мог орать на Галю за то, что она посмела упасть в обморок с Сашей на руках? Неужели я мог злиться за всякие-то мелочи: за пересоленный суп, за похищенные Сашей тапочки, за портреты умерших соседок, которые Галя зачем-то сберегла.
Еще какой-то черный стыд гложет.
Пакостные книжонки, которые подсовывал мне Андрей, – исповеди взбесившихся самцов и самок, никогда не знавших любви, но уверенных, что ею можно с успехом заниматься.
И впрямь занимаются же любовью все эти сочинители с кем попало. Вот и Гале надо бы этому поучиться!..
Неужели ты простила мне и это?..
9. Саша
За окном клокочет весна. Она у нас, в Петербурге, подобна вулкану. Месяца два пыхтит еле слышно. Развезет мокрую снежную кашу по всем дорогам, потом свеженьким ее припорошит, потом морозцем прихватит – прямо лунные пейзажи под ногами. А потом сверху все это дождем обольет – милости просим, господа петербуржцы, шагайте как хотите, хоть на четвереньках, хоть по-пластунски.
И вдруг в один прекрасный день брызнет из-за облаков солнце и разогреет город до десяти, а завтра – до пятнадцати, а послезавтра – вообще страшно сказать. Запахнет на улицах паровой баней, польются по всем дорогам потоки воды. Ее даже у меня в комнате слышно: бурлит, гремит, урчит утробно, проваливаясь в канализационные люки. Через два-три дня наступит тишина, и город, блаженно улыбаясь, начнет подсыхать.
А потом может вообще жара ударить, как в том самом мае, когда мы встретились с Галей. Она совершенно точно помнит, когда это было – в мае. И все девушки были в летних платьях.
Сейчас до летней жары далековато, но старшеклассники, конечно, форсят друг перед другом.
Саша уже дофорсился, температура тридцать восемь с половиной, сипит, крехает, хлюпает.
Два дня охал, а сегодня с места рвется. Наташа, видите ли, в театр со своим классом идет, и ему нужно вечером ее у метро встречать.
– Ну, пап, ты же знаешь, какой у нас район. Ей нельзя одной вечером.
Звонил ей по телефону, взволнованно что-то говорил. Потом она пришла сама.
И сразу ко мне в комнату заглянула:
– Здравствуйте, дядя Коля.
Голос теплый такой, весенний, нежно-зеленый.
– Ой, Саш, ну не придумывай. Дядь Коль, скажите ему, чтобы не придумывал. Меня папа встретит, правда, правда, обязательно! Ну хочешь, позвони ему, спроси!.. Не верит!.. Не выходи сегодня никуда! Ни в коем случае! Ну-ка горло мне покажи!
И я слышу, как послушно мой Саша разевает пятнадцатилетнюю пасть и тянет: «А-а-а!».
А она долго там высматривает что-то:
– Ой, плохое горло, ой, плохое! Тетя Галя, посмотрите, там не гнойничок у него?
– Нет, моя заюшка, это он только что бублик жевал…
Меня всегда удивляла эта Сашина любовь, с тех самых пор, как я понял, что это уже не игрушки, а что-то серьезное. С его-то аристократизмом, с утонченным этаким вкусом – и такой выбор. Самая обыкновенная девочка с самым обычным личиком: не уродина и не красавица.
Сашина песня открыла мне глаза. Я любуюсь ею, такой, какой вижу ее воочию. Стоит возле Саши, неуклюженькая такая, а глаза взрослой женщины. А губы пухленькие, она их еще и в трубочку вытянула, чтобы удобнее было Сашино горло рассматривать. И похожа она сейчас на какую-то святую с иконы – ни больше ни меньше. Если бы Галя сейчас увидела Натулю моими глазами, то, конечно, сразу же сказала бы, на какую именно.
«Где столько золота… найду… чтоб написать» – как там, в Сашиной песне?
Значит, он все правильнее понимал, чем я! Удивительный ребенок!
Все-таки то, что сделал я, нужно считать предательством и уходом из семьи, как я себя ни успокаивал.
Я не жил с ними, с Галей и Сашей, я только присутствовал. Галя была всегда под рукой, как удобная мебель. А Сашу я вообще вроде не видел. Я вернулся к ним, когда Саша уже учился в школе, и с ужасом понял, что все прозевал. Саша был уже самостоятельный человечек, выросший без меня, только с Галей. И они продолжали жить только друг для друга.
Я увидел, что Саша несет Гале все свои новости, и хорошие, и плохие, несет, чтобы спрятать их в ее душе, как в своей, только более надежной. Но как только я пытался к ним присоединиться, Сашина новость затихала, и Саша смотрел на меня с вежливым гостеприимством: скоро ли, мол, уйдешь?
Я видел, что Галя знает в лицо и по имени всех его одноклассников и они с ней здороваются на улице.
Сталкиваюсь с ним в коридоре. В его руке лист бумаги, который тут же прячется за Сашину спину.
– Что это у тебя?
– Да ничего…
И проходит мимо, не оглядываясь, к Гале. Через минуту они весело хохочут там без меня. Горько!
Как же это получилось?
Я хорошо помню Сашу в его первые дни дома. Маленький, как игрушка, совсем невесомый. Ручки-ножки тонкие, как паучьи лапки. И вечно открытый, вечно кричащий ротик… И все личико от натужного плача красно-синее. Молока у Гали почти не было, пришлось сразу прикармливать смесью. Как болел у него животик, как жалобно он кричал, как беспомощно отрыгивал эту тяжелую пищу! Мы носили его на руках все ночи напролет, отпуская друг друга поспать часок-другой.
И однажды я понял, что устал, больше не могу.
Что там однажды! Вру! Я знаю, когда это случилось! Это Ника…
У меня больше не было сил не спать по ночам, а утром бежать на работу и заканчивать свою диссертацию. Я сказал об этом Гале, и она с готовностью закивала: «Да, да, конечно, тебе нужно спать».
А я даже благодарности не почувствовал, только раздражение: не могла раньше догадаться!
И с этого времени Саша как будто исчез из моей жизни. Он теперь гостил в ней изредка, чтобы доставить мне приятный отдых и удовольствие.
…Саша в три месяца, с широкой беззубой улыбкой, весело пляшущий всем своим кругленьким телом при виде меня, как мячик.
…Саша в шесть месяцев, толстый колобок, плотоядно впивающийся слюнявым ротиком в мою протянутую руку.
…Саша в девять месяцев, в ползунках и пинетках, гуляющий по коридору, держась за мои руки, серьезный и важный. Но проходит мимо, задрав хвост, старичок Барсик, и Саша, презрев свою человеческую сущность, вырывается из моих рук, падает на четвереньки и пускается в погоню.
…Саша на даче празднует свой день рождения. Он держит обеими руками кусок пирога с черникой: бабушка Света внучку прислала – вгрызается четырьмя жемчужными зубами в черную начинку, и весь-то он в этой начинке по самые уши! Я смеюсь, и Галя смеется. Но смех не сливает нас воедино. Она на одном берегу, я – на другом. Саша между нами: и соединяет, и разъединяет.
Наступает момент, когда я расстаюсь и с Сашей. Не помню, не могу вспомнить, что случилось тогда между мной и Галей. Кажется, я доводил ее весь вечер дурацкими придирками. Просто хотелось снять усталость. Я уже прочувствовал заранее, как доведу ее до слез и заставлю мне что-нибудь ответить, а затем обижусь и уйду на весь вечер. Никуда конкретно. Просто подышу. Хотя… Кажется, у меня тогда даже было к кому уйти… Даже так…
Мне почему-то казалось в тот вечер, что мне всего этого очень не хватает: во-первых, ее слез, во-вторых, глотка свежего воздуха, потому что мне с ней… очень душно. Вот свежего воздуха глотну во всех смыслах… и будет мне хорошо.
Но Галя терпела, терпела, терпела – держала все внутри. Я это чувствовал, и это злило меня еще больше.
И тогда между нами встал Саша. То, что не удалось мне, удалось ему. Он почему-то закапризничал, я отнесся к этому скептически – и Галя взорвалась. Она закричала, что я Сашу никогда не любил, что Саше плохо со мной. И я, зная, что виноват, что преступен, тут же внушил себе, что раз так, то…
С этой минуты Саша стал для меня таким же чужим и раздражающим. Капризный, избалованный притвора – весь в нее. Я доверил ей своего сына, а она его вон каким вырастила! Нет, я не мщу, без конца тыча ей в лицо мелкие промахи, я просто хочу, чтобы она поняла, какая она плохая жена и мать. И как я прав, что… ищу где-то свежего воздуха…
Так и исчез Саша из поля моего зрения.
И наступала в моей жизни сытая блаженная тишина. Кончилась печальная домашняя полоса – смерть соседок. Кончилась бурная карьерная полоса – я сел в кресло начальника лаборатории. Кончилась полоса великой стройки – я вдруг стал хозяином роскошной трехкомнатной квартиры. В общем, жизнь удалась!..
Просыпался я, разбуженный Галей, в отдельной нашей спальне, вкусно завтракал и уходил на работу, не видя по утрам Сашу. Возвращался вечером, вкусно ужинал и садился к телевизору. Где-то рядом оказывались Галя с Сашей, потому что приходилось переключаться на «Спокойной ночи, малыши». Потом Саша вежливо кивал мне, как малознакомому соседу: «Спокойной ночи». И шел спать. Немного позже, досмотрев программу «Время», уходил и я.
Чаще всего засыпал сразу. Иногда дожидался прихода Гали, потому что требовалось же мне… же… Не все же свежим воздухом дышать…
После этого я засыпал, особенно довольный собой как безупречным мужем.
Был у Саши период каких-то ночных страхов. Он будил нас ночью, и я опять злился на Галю: весь в нее, вечные глупости мерещатся. Потом это прошло, и опять тишина на несколько лет.
Что я чувствовал, когда очнулся наконец от этого тихого кошмара, страшно вспомнить. В тот год я стал почти седым. Самым страшным было ощущение, что все прошло: жизнь, счастье, отцовство – все без меня, не вернуть!
Галя пошла мне навстречу сразу. Только поплакала, когда я сказал ей, что она самая лучшая жена, а я – болван.
А Сашу я долго и беспомощно пытался приручить, но все было бесполезно. Пока я не снял, отчаявшись, последние сбережения, оставшиеся от начальнической деятельности, да дед Анатолий помог, да у Андрея занял. И купил я Саше дорогущий компьютер.
И тогда он меня обнял.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































