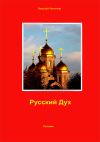Текст книги "Эпоха пустоты. Как люди начали жить без Бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло"

Автор книги: Питер Уотсон
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Все это настолько расходилось с общеевропейской традицией Просвещения и либерализма, что люди часто задавались вопросом, не замешана ли здесь какая-то частная патология – со стороны самого Георге или его последователей (Людвиг Клагес и в самом деле явно страдал шизофренией). Но с годами влияние Георге росло, а не уменьшалось. Он сделался центром псевдорелигиозного культурного крестового похода «кружка учеников, стремившихся создать духовное государство, которое постепенно проникнет в иные отдаленные области жизни».[294]294
Ibid., pp. 412–413.
[Закрыть]
Отчасти Георге не признали помешанным по той причине, что он оказывал глубокое воздействие на окружающих. Поэт Александр фон Бернус (1880–1965) издавал журнал Die Freistatt, где публиковались Франк Вебекинг, Райнер Мария Рильке, Стефан Цвейг, Томас Манн и Герман Гессе. Многие из его авторов с ним дружили, так что на него не так просто было произвести впечатление. Но когда Георге гостил у него в Стифт-Нойбурге в загородном поместье фон Бернов летом 1909 года, даже он признавался в следующем: «Стефан Георге был убедителен и притягивал к себе людей не столько своей поэзией, сколько чудом своей великой личности, подчинившей себе страсти… Как человек он больше походил на римского кесаря, чем на поэта… В годы, предшествовавшие Первой мировой, его окружал ореол мифов».
Эту же мысль развивал Гундольф. Он верил «в духовное оплодотворение, в воскресение и возрождение ученика через наставника, во внедрение духа, как это делали жрецы примитивных племен». Энтузиазм вырос еще больше, когда в ноябре 1909 года Георге объявил о том, что создает новый журнал Jahrbuch für die geistige Bewegung («Ежегодник духовного движения»).[295]295
Ibid., p. 429.
[Закрыть] По словам Карла Вольфскеля, также входившего в кружок Георге, «у группы был общий взгляд на саму жизнь». Вопреки «выпяченному культу современного индивидуализма», который опирался на пустые слова о «разуме», «свободе» и «человечестве», ученики Георге «были уникальным примером единства людей, дела и желаний, возникавшем органично» на протяжении двух десятков предшествовавших десятилетий. Только внутри этого круга, писал Вольфскель, начисто отсутствовали такие вещи, как «личная зависть и обиды, все чувства, разделяющие людей, стремление присвоить себе чужой статус или унизить другого». По его мнению, которое разделяли и другие, «истинную движущую силу нашего времени» следует искать «не в бесплодной почве так называемого современного мира, но в другом месте: в том созвездии собранных вокруг Георге людей, которое Вольфскель назвал “тайной Германией”». Ученики считали, что их вождь ведет духовную войну, которой «уже нельзя избежать».[296]296
Lane and Ruehl, op. cit., pp. 56 ff and 91 ff.
[Закрыть]
На этом их претензии не кончались. Гундольф писал: «Исповедовать веру в Георге не значит исповедовать веру в человека. Стефан Георге – самый важный человек в Германии на сегодня… Его авторитет строится на том, что он создал словесное тело для грядущего духа и сформировал души для грядущей веры». Гундольф даже предположил, что немцы на самом деле сегодня стали избранным народом, «которому посчастливилось нести в себе чудо потенциального спасения». Разумеется, не все относятся к избранникам. Спасение получат весьма немногие, даже среди немцев. Прочие погибнут без искупления. «С явлением Георге те немцы, которые способны воспринимать поэзию вообще, могут предчувствовать новый день и грядущее избавление от древней тревоги».[297]297
Ibid., p. 437.
[Закрыть] Как говорит Вольтерс, «мы должны ценить «великого человека», идти туда, куда он нас поведет, каких бы жертв он от нас ни потребовал». Тот, кто удостоится чести попасть в этот кружок, должен «взирать на человека, который даст смысл его воле и станет образцом для нее». Разумеется, члены кружка должны хранить «незапятнанной» свою физическую и духовную природу. «Здоровый человек не смотрит на свои страдания, а вместо этого готовится к битве с врагом».[298]298
Ibid., p. 486.
[Закрыть]
В ноябре 1913 года Георге опубликовал свой сборник «Звезда Завета» (Der Stern des Bundes) тиражом в десять экземпляров. Он содержал сотню стихотворений, которые надлежало перечесть по нескольку раз, чтобы их понять. Это завет «тайной Германии», где говорится о том, что поэт есть на самом деле жрец, который показывает последователям ту красоту, которая заменила бога, являет убожество и недостоинство нынешнего мира, который следует разрушить перед началом новой эпохи, и показывает последователям, как жить в новом веке в тени великого человека, который их ведет.[299]299
Ibid., p. 492.
[Закрыть] От планов Георге, отраженных в этой книге, кружится голова.
Выражая мысли многих людей, Марианна Вебер говорит: «Обожествление смертных людей и создание религии вокруг Георге… кажется нам самообманом тех, кто не вписывается в современный мир».[300]300
Ibid., pp. 480–481.
[Закрыть] Тем не менее, когда началась Первая мировая война, многие обратились к идеям Георге о вождях и следовании за ними. Георг Лукач считал, что этот поэт стал прототипом Гитлера. Многие солдаты брали с собой «Звезду Завета» (уже получившую широкое распространение) на фронт и использовали эти стихи «как молитвенник». Об этом мы поговорим в главе 9.
Таким образом, всю деятельность Георге объединяет одна задача – создание новой религии на основе поэзии, в которой форма важнее содержания любого отдельного стихотворения или их сборника: это такая поэзия, которая интенсифицирует ощущения. Это немецкая традиция Bildung, процесс культивации и совершенствования Я, при котором Dichtung, поэтические практика и опыт, воспринимаются как крайне важная корректива прогрессивному доминированию интеллектуальной жизни, в которой задают тон научные исследования и бесстрастный академизм (Wissenschaft). В таком понимании поэзия стоит выше рациональных идиом науки, «поскольку поэзия пропитана силой синтеза»[301]301
Rieckmann, op. cit., pp. 161ff.
[Закрыть] (вспомним, что Фрейда также превозносили за его синтез).
Все это у Георге концентрируется в его центральной идее хвалы. Как он полагал, хвала есть высший аспект поклонения, на ней строятся отношения между великим человеком и его последователями, между фактическим божеством и его почитателями. Для полноты, говорит Георге, человеку нужны две оси. Ему нужна вертикальная ось – тот, на кого он смотрит и у кого учится, и горизонтальная ось, члены сообщества поклонения, живущие вместе на основе принципов, которым их учит это поклонение. Представление о «поэзии как хвале» мы встретим в поздних работах Георге. В 1928 году Макс Коммерелль опубликует книгу «Поэт как вождь в эпоху немецкого классицизма».
Жить с разочарованием. Поль ВалериФранцузский поэт и литератор Поль Валери родился, по его собственным словам, в одном из тех мест, где и пожелал бы родиться – в Сете, на юге Франции, «где мои первые впечатления составляли море и возня в порту». Чуткий и очень умный мальчик рос в страхе сделать ошибки в школьных заданиях и в боязни соревнования (хотя его класс состоял всего из четырех учеников). Возможно, это окрасило его установки во взрослой жизни. Дисциплинированный юноша (книги Ницше очень рано лежали у его постели), Валери начал писать стихи еще до военной службы, будучи подростком. В 1890 году девятнадцатилетний Валери на фестивале в честь шестисотлетия Университета Монпелье встретился с поэтом Пьером Луи, делегатом от Парижа. Это стало началом дружбы, и парижский поэт, входивший в кружок, где царили Малларме, Поль Верлен и Андре Жид, познакомил знаменитых людей с поэзией Валери. Несомненно, это помогло сделать имя Валери более известным.
Кроме прочего, Валери всю жизнь интересовался математикой, откуда берет начало его пристрастие к порядку, что, в свою очередь, подпитывало увлечение музыкой и архитектурой, предметами, важными также и для Малларме. Валери считал музыку и архитектуру величайшими жанрами искусства, потому что они представляли «чистое намерение». Такая склонность к порядку отчасти окрасила его философию: по его убеждению, нам надо стремиться выйти за рамки нашей органической или биологической природы. Как он считал, процессы органической природы не имели отношения к важной теме человеческой эволюции – как он говорил, болезнь столь же естественна, как и здоровье.[302]302
Norman Suckling, Paul Valéry and the Civilized Mind, Oxford: Oxford University Press, 1954, pp. 161ff.
[Закрыть] Человек отличается от животных именно тем, что он способен освобождаться от биологического наследства, так что, подчеркивал он, «те разные вещи, которыми мы являемся», легче понять, отделив одну от другой, и нам следует отказаться от идеи moi pur, поскольку у нас есть целый последовательный ряд Я, а некоторые из них существуют одновременно.
Идея человека, созданного эволюцией, по его мнению, отвлекала от главного. Высшее предназначение человека, как полагал он, заключалось в том, чтобы оказаться вне наших биологических стремлений, не идентифицироваться с ними; «награда души лежит вне эволюции, эволюция радикально отличается от искусства», первая достигает своих результатов через невидимые изменения на протяжении огромных промежутков времени, тогда как искусство действует через одно великое стремление, подобно волне. По мнению Валери, невидимый ход эволюции породил одну ошибку: мы путаем преемственность с завершенностью, а вследствие этого «вселенная лишена целостности», так что части столь же реальны, как и целое, – и именно здесь на сцену выходит поэт или художник, создающий «маленькие миры порядка». Удачное произведение искусства обладает «силой веры, не требуя веры». Удачные стихи, как он полагал, порождают моменты (обратим внимание на слово «моменты») «бесконечной последовательности», реальности, отделенной от биологического мира, духовной, но не богословской. В этом он близок к Сантаяне.
Валери, среди прочего, стремился показать, что существует «взаимная нерелевантность» между биологическими и духовными ценностями – для него сама суть человека заключалась в том, что мы отделились от нашей биологии. Биологическая жизнь, говорил он, «ординарна», но, хотя душа тесно взаимодействует с телом, самый драгоценный психологический опыт – радость познания или бескорыстная любовь – «указывает на нечто такое, что радикальным образом отличается от нашей повседневной жизни». По его мнению, стремление сторонников романтизма к недостижимому помешало им – и многим из нас – понять, что все этапы нашего поиска «неизбежно носят условный характер».[303]303
Suckling, op. cit., p. 17.
[Закрыть] Скорее человек, «странник на земле», не способен подчинить тот мир, какой он есть, своей цели: мы не можем изменить устройство вещей, но можем изменить взаимоотношения между ними.
Мы отделились от нашей биологии со своими духовными ценностями.
Как думал Валери, разочарование есть «неизбежный» результат опыта нашего мира, поскольку такой опыт «никогда не адекватен тому, что Я надеялось из него получить». Он прилагал это и к произведениям искусства: каким бы важным знаком они ни были, в них на самом деле никогда нет подлинной определенности (это отражает его знаменитое высказывание, что произведение искусства никогда не завершено, оно только лишь заброшено на том или ином этапе). На поэта легко произвести впечатление, но его невозможно убедить; спонтанные движения ума, особенно наша «странная озабоченность» бессмертием, должны верифицироваться и исследоваться нашим более строгим вторым Я.
«Произведение искусства всегда в каком-то смысле разочаровывает своего создателя, но по той причине, что оно не открывает всего того, что намеревался открыть автор, а не потому, что оно неадекватно какому-то во всей полноте пережитому опыту и неумело выражает его или предает. То совершенство, на фоне которого произведение неадекватно, находится вне произведения, а не за ним; нас заботит недостижимость того совершенства, полноценное представление о котором – совершенно независимо от его конкретного воплощения – само только возникает, это не есть несовершенное выражение невыразимой, но уже известной «глубины» [курсив мой]». Эта же логика приложима к нашему Я: неотъемлемое Я, «подобно поэтической реальности, которая составляет один из его аспектов», есть нечто, что надо открывать в процессе его появления, который никогда не завершается. И «результат любого… отдельного акта вносит свой вклад в раскрытие, это не есть несовершенное заявление о некоем открытии, сделанном в более благоприятном состоянии сознания… Сам поиск здесь есть цель».
Вот почему для Валери порядок или форма (скажем, сонет как форма стиха) не есть ограничение: форма объективна, она не сводится к сиюминутной ситуации и определяет отношения, которые распознает и автор, и ценитель, которые оба вправе оценить на предмет успешности осуществления, когда оба более или менее согласны относительно идеи формы и того, как она влияет на выражение. Произведение искусства показывает, на что мы способны, и указывает на то совершенство, которого нет нигде, за исключением ума художника или зрителя либо их обоих. Совершенство, малое или великое, всегда остается идеалом, нам следует принять наше разочарование, не переставая наслаждаться той идеей идеала, о которой нам говорит произведение искусства.[304]304
Ibid., p. 19.
[Закрыть]
Для Валери, как и для Стефана Георге, поэзия, поэтическое использование языка, даже ее искусственность – или особенно ее искусственность – духовна, хотя бы по ее предназначению: «L’esprit est un souffle, la pensée un poids».[305]305
Ibid., p. 31.
[Закрыть] Источник самых интимных и самых глубоких наших мыслей, говорил Валери, – это наивность и растерянность наших предков, и никакая поэзия, достойная этого звания, не вправе относиться к этим мыслям пренебрежительно – в этом смысле поэзия воплощает в себе прогресс, поскольку делает вещи яснее (так Томас Нагель определял философию). Интеллект есть подлинный ангел в наших головах, именно интеллект определяет душу как произвольную конструкцию, искусство как духовную конструкцию, а духовную жизнь, если посмотреть на нее с этой точки зрения, как нормальную часть природы. Мы стоим на пороге психологической эпохи, писал он.
Поэзия – это «абсолютное место», путешествие через «Нидерланды промежуточного существования», возможность мыслить не так, как другие, возможность возникать для мыслей и слов, плод «воли» Шопенгауэра, которую Валери понимал как «стремление без цели», быть может, самое бессмысленное явление во вселенной. Стихи не просто освобождают поэта от внутреннего напряжения и не просто глубокое «пассивное наслаждение» читателя или поклонника, но необходимое средство для обретения уникального состояния эстетического сознания. Это не столько нечто божественное, как то называл Малларме, сколько «временное хранилище нашего указания на божественное… стихи для поэта есть одновременно приглашение, обращенное к читателю, и стадия реализации предназначения поэта, причем они исполняют обе эти функции лишь временно». Создавая стихи, поэт становится больше себя самого, самой полной формой себя; «настоящее предназначение вселенной состоит в том, чтобы ее выразили поэты». Я неистощимо.[306]306
Ibid., pp. 46, 94.
[Закрыть]
Сама суть поэзии, говорит Валери, есть асимптотическое приближение ума к опыту, который отнюдь не реален с материалистической точки зрения, но все равно нечто значит: это и есть духовность. Многие говорили, что устойчивость религии в мире объясняется тем, что здесь никогда не прекращаются страдания. Валери видел, что люди способны достичь гораздо большего, чем достигают за свою жизнь, и что это познание – которое дает чтение поэзии и участие в поэтическом процессе – должно укреплять человека и готовить его к страданию, к правильной реакции на него. Иными словами, мы способны быть больше того, какими позволяют нам быть традиционные религии.
Духовность – сама суть поэзии.
Именно такая претензия объединяет разных героев данной главы.
Исчезающий порядокУильям Батлер Йейтс говорил, что он был «покорен» Ницше. В 1902 году он писал своему другу американскому коллекционеру Джону Куинну: «Я не читал ничего другого с таким великим волнением», – а в другом месте говорил, что обрел в Ницше «радость».[307]307
Otto Bohlmann, Yeats and Nietzsche: An Exploration of Major Nietzschean Echoes in the Writing of William Butler Yeats, London and Basingstoke: Macmillan, 1982, p. xi.
[Закрыть] Отто Больманн находит много пересечений у Ницше и Йейтса. Последний отличал «жестокого» Ницше от «кроткого», его привлекали «темные» инстинкты философии Ницше и его идеи «пугающей» внутренней природы человека. Йейтсу нравилось, что Ницше смотрел на мир «сухими» глазами и что он считал «тотальным характером» мира «хаос», и что «богатство противоречий» этого мира «плодотворно». Его привлекало мнение Ницше, что любовь есть «краткий миг прощения между двумя противниками».[308]308
Bohlmann, op. cit., p. 26.
[Закрыть]
Для Йейтса, как и для Ницше, личность – это «постоянно возобновляемый выбор», неизбежно придающий жизни свойство (дарвиновской?) борьбы, которую, тем не менее, следует «радостно принимать». Когда мы признаем трагизм жизни и принимаем наши ограничения, говорил он, мы открываемся для того факта, что «даже самые мимолетные мгновения могут содержать нечто священное, что весит больше [хотя это продолжается недолго], чем борьба и страдания».
Для Йейтса сама цель поэзии заключалась в создании кратких моментов «экстатического утверждения». Мир, как говорят феноменологи, нелогичен, а разум, логика, поэтические аналогии и вольности позволяют нам «относиться как к равному к тому, что просто подобно», создавая тем самым порядок, а даже исчезающий порядок лучше, чем ничего.
Подобно другому ирландцу, Джорджу Бернарду Шоу, Йейтс был и религиозным, и нерелигиозным. По его мнению, «окончательное единство» могло осуществиться только за пределами физического мира, но он также думал, что субъективность и объективность нуждаются одна в другой, «если мы стремимся достичь цельности», и что поэзия – это субъективность и объективность, заключенные в порядок. «Всякое искусство есть страсть, прославление жизни», полагал Йейтс, и вместе с Шоу он утверждал, что «не существует конечного счастливого состояния, если не считать того, что люди могут постепенно учиться жить лучше». Великое искусство – а такое искусство всегда несет в себе элемент трагизма – выводит нас «за пределы самосознания» к «самозабвению»: вот что такое спасение.
На него также повлияли Малларме и символисты. Читая оккультную драму Вилье де л’Иль-Адама «Аксель», он сказал: «Могу без особого напряжения представить себе, что наконец-то нашел ту Священную Книгу, которую искал». Ему нравилась такая техника символистов, как краткие диалоги, открытые для интерпретации, «которые игнорируют аналитические попытки расшифровать извне эти неоднозначные смыслы или найти к ним ключ». Ему нравилась утонченность поэзии, «которая каждый день обретает новый смысл». Для него это был «смысл смысла в поэзии».
Йейтс также не был чужд представлениям о священной функции поэзии – когда поэт становится секулярным жрецом. «Искусства, размышляющие о своей интенсивности, становятся религиозными и стремятся… создать священную книгу». В эссе «Осень тела» он пишет: «Искусства, как я считаю, взвалят на свои плечи те бремена, что упали с плеч священников». О том же он говорит в другом месте: «Как искусства помогут преодолеть то медленное умирание сердец, которое мы называем мировым прогрессом, и снова найти слова для глубочайших чувств людей, не облекаясь в одеяния религии, как в прежние времена?».
Ему удалось соединить метафору и (кельтский) миф в почтенное и величественное целое, где сама поэзия и чтение поэзии обрели почти качество обряда, торжественной церемонии, что также заставляет видеть в ней светскую форму литургии.
Герои многих его произведений борются со случайными элементами равнодушной вселенной. Тем не менее, в отличие от Малларме, Йейтс никогда не отвергал духовную трансцендентность как возможность. Он был в такой же мере дитя своего времени, как и своего отца. Джон Батлер Йейтс был закоренелым скептиком в вопросах религии. Он был юристом, который оставил свою контору в Дублине ради изучения живописи в Лондоне. Позднее его характеризовали такими словами: «Он имел свое мнение обо всем, а также обладал информацией и красноречием, чтобы это мнение отстаивать, всегда остроумный и интеллигентный, даже в своих заблуждениях. Эдвард Доуден, Гилберт Кит Честертон, Ван Вик Брукс и другие говорили о его обаянии». Изучавший право Йейтс-отец любил дихотомии: социальное или личное, интеллект или эмоции – и в частности противопоставлял «поэзию как голос одинокого духа прозе, которая есть язык социального мышления».[309]309
Richard Ellmann, The Identity of Yeats, London: Macmillan, 1957, pp. 214, 231ff.
[Закрыть] Для него эпоха Шекспира была идеальными временами, потому что тогда «все были счастливы». Несчастье пришло вместе с Французской революцией, «которая принесла с собой реализм». И существовало, как он полагал, два типа веры: поэтическая и религиозная – где поэзия выражала полную свободу, а религия свободу отрицала.
Его сыну Уильяму Батлеру Йейтсу повезло с тем, что у него был образованный и мыслящий отец. В юности сын отвергал многие представления отца, в частности его скептицизм. Но отчасти такие взгляды, как и общий интеллектуальный климат той эпохи, помогают понять поэта. В период становления Йейтса как поэта и человека происходящие в Европе и США изменения влияли на подобных ему молодых людей (подробнее об этом мы поговорим в следующей главе). Благодаря этому он отказывался от скептицизма отца, но не обращался к тому, что мы могли бы назвать status quo ante, – к христианству. В итоге, подобно многим другим борцам с «материалистами», как он называл оппонентов, он обратился к мышлению с элементами мистицизма, которое отказывалось принять картину вселенной, представленную учеными и рационалистами. Он увлекался разными оккультными теориями, вступал в общества оккультистов и сформулировал принципы мистического национализма, которые, хотя и порождали великую поэзию, по прошествии времени могут показаться весьма странными.
Йейтс стремился найти всеобъемлющую систему, систему с великими претензиями, которая могла бы объяснить гораздо больше, чем, скажем, представления Шоу или Валери. Но в итоге это увенчалось неудачей. Задним числом мы можем осознать, что в этом и заключалось – или и сегодня заключается – главное значение того эксперимента, о чем и пойдет речь в следующей главе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?