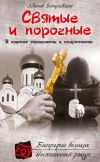Текст книги "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Автор книги: Протоиерей Георгий Ореханов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
«Символы веры» 1850-х годов
«Там, где нет Бога, уже не остается места и для человека».
Н. А. Бердяев
Очень важным начальным источником для понимания духовной конституции Толстого и эволюции его взглядов являются своеобразные «символы веры», то есть краткие записи в дневнике, которые появляются довольно рано и в которых писатель излагает нечто самое главное в области его личной веры.
Таких записей известно несколько. Первая из них относится к 1852 г., вторая, очень похожая на первую, сделана 13 июля 1854 г., следующая, самая знаменитая, внесена в дневник 4 марта 1855 г. Наконец в 1860 г. Толстой после смерти брата помещает в дневник еще одну важную мысль об идее создать материалистическое евангелие.
1852 «Верую во единого, непостижимого, доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие за дела наши; не понимаю тайны троицы и рождения сына Божия, но уважаю и не отвергаю веру отцов моих».
(46, 149). Орфография и курсив подлинника.
1854 «Верую во единого всемогущего и доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие по делам нашим; желаю веровать в религию отцов моих и уважаю ее».
(47, 12).
1855 «Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. – Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».
(47, 37–38).
1855 «Боже! благодарю тебя за Твое постоянное покровительство мне. Как верно ведешь ты меня к добру. И каким бы я был ничтожным созданием, ежели бы ты оставил меня. Не остави меня, Боже! напутствуй мне и не для удовлетворения моих ничтожных стремлений, а для достижения вечной и великой неведомой, но сознаваемой мной цели бытия».
(47, 42).
1860 «Скоро месяц что Николинька умер. Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уже недалеко до отправления туда. Куда? Никуда. – Пытаюсь писать, принуждаю себя, и не идет только оттого, что не могу приписывать работе того значения, какое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпенье работать. Во время самых похорон пришла мне мысль написать материалистическое евангелие, жизнь Христа материалиста».
(48, 30).
Конечно, в дальнейшем, когда Л. Толстой отвергнет художественное творчество и целиком будет занят религиозными вопросами, записи в его дневнике, посвященные различным аспектам веры и христианского учения, будут появляться часто. Но упомянутые отрывки имеют совершенно особое значение. Именно в них была намечена программа, от которой писатель в дальнейшем не очень сильно уклонялся.
Какие же принципиальные для себя идеи Толстой формулирует в дневниковых «символах»? Первый из них вполне вписывается в просвещенческую программу и содержит минимальный набор требований к разумной вере. Бог добр, требует праведной жизни и воздаст каждому по его делам. Заметим, что все эти формулировки носят сугубо моралистический характер, это деистический манифест, который вполне мог возникнуть и в XVIII веке, и ранее где-нибудь в Англии. Обратим также внимание на постоянное подчеркивание Толстым того факта, что его вера есть также и вера его отцов. Почему для молодого Толстого так важна связь с «отцами»? Думаю, ответ есть только один: это последняя попытка удержаться в русле традиции в ситуации, когда разум обрушивается на нее со всей толстовской интеллектуальной мощью и прямолинейностью.
Второй интересный момент заключается вот в чем. Когда изучаешь ранние дневники Л. Толстого 1840–1850-х годов, поражаешься количеству всевозможных моральных нормативов, которые предписывает себе Л. Толстой. Эти правила призваны регулировать его жизнь, сделать ее чистой и праведной, помочь писателю преодолеть свои недостатки. Но это далеко не всегда получается. И Л. Толстой постоянно ломает себя – кается в дневнике в распутной жизни и лени, создает новые правила, планы и графики жизни, снова их нарушает, снова кается. Титаническая моральная работа, которую ведет над собой достаточно молодой человек, действительно впечатляет и имеет в духовной истории XIX века мало аналогов. Л. Толстой последовательно и упорно занимается той «рубкой леса», которую он описал в одном из ранних рассказов, только теперь это просека в чаще неверия и греха в «лесу», который представляла собой религиозная жизнь его современников.
Так вот, читая «символы» первой половины 1850-х годов, невольно приобретаешь впечатление, что вера для Л. Толстого также является таким же правилом, набором правильных мыслей и чувств. Он желает веровать так, как веровали его отцы, но рационалистический червь уже давно точит его ум и сердце. Он может веровать только так, как требует от него закваска Просвещения, которая знает только один надежный критерий религиозного опыта – рационально-чувственный. И Л. Толстой с той же последовательностью и свойственным ему упрямством снова ломает себя, принуждая «уважать веру отцов». Уже скоро наступит момент, когда это стремление потерпит окончательный крах.
При анализе первого отрывка 1855 г. мы должны учитывать интересные замечания, сделанные Павлом Басинским. В момент появления этой записи – одного из самых цитируемых толстовских текстов, писатель находился на войне в Крыму и был свидетелем тех ужасных сцен, которые потом были описаны в «Севастопольских рассказах». П. Басинский справедливо подчеркивает, что данный отрывок должен анализироваться не поверхностно, а в контексте севастопольских переживаний писателя и с учетом художественного переложения этих переживаний, а также с учетом эпистолярия Л. Толстого этого периода.
Это действительно впечатления от войны с «разговором о божественном», впечатления, которые нашли выражение как в дневнике, так и в художественном тексте. П. Басинский совершенно прав в том, что невозможно представить себе Л. Толстого моральным уродом, который в ситуации привычного ада войны просто спокойно морализирует об «очищении» религии, которая даст людям комфорт на земле: «и его севастопольские очерки, и его дневник этого времени, и его письма Т. А. Ергольской доказывают обратное: Толстой мучительно пытается понять происходящее и найти какой-то разумный выход из этого положения»[139]139
Басинский П. В. Святой против Льва. С. 262 и далее.
[Закрыть].
Конечно, Л. Толстой не был моральным уродом, чудовищем, наоборот, он был духовно очень чутким человеком. Но духовная чуткость бывает очень разной. И духовная чуткость Толстого, которая со временем приобрела совершенно определенную религиозную окраску, повторю еще раз, несла на себе стойкую печать, глубинную печать неприятия всего чудесного и превентивности всего разумного. Поэтому не может быть и религии, построенной на «чудесном».
И дело здесь не в том, что «символ» Л. Толстого 1855 г. не удовлетворяет церковных критиков. Задача конструктивной критики заключается не в том, чтобы определить, что «церковно», а что нет. Во всяком случае, это не первая задача. Главный вопрос – что послужило источником этих рассуждений, их отправной точкой? Какой жизненный опыт Л. Толстого (детский, юношеский, зрелый) наложил свой отпечаток на желание видеть (точнее, слышать) именно так Христа? Какие книги сыграли тут свою роль? Какие встречи? Какие люди?
Между прочим, все, что я здесь перечислил, укладывается в очень емкое немецкое слово Verortung (от нем. Ort, место). Мы не найдем аналогов этому слову не только в русском словаре – сам термин можно отыскать далеко не в каждом немецком словаре. А словечко очень значимое. Условно говоря, это то «место» в интеллектуальном и духовном пространстве, которое занимает человек и которое определяется его жизненной историей. Это та интеллектуальная и духовная ниша, которую человек занял в результате определенного пути и своего уникального способа самоидентификации – чтения, встреч и бесед, влияния окружения, учебы и т. д.
То объяснение контекста возникновения «символов» 1855 г., которое дает П. В. Басинский и которое он в первую очередь связывает с пребыванием молодого Толстого на войне и переживанием ее ужасов, мне кажется не совсем убедительным. Обстоятельства появления этих текстов уловлены им тонко. Но я хотел бы сделать по этому поводу два существенных замечания.
Первое. Если мы заглянем в дневник писателя за этот период (том 47 юбилейного собрания сочинений) и проанализируем записи за февраль и март 1855 г., то заметим, что очень большое внимание Толстой уделяет не только ситуации в армии и страданиям солдат и офицеров, но и своим карточным долгам. Тот же мотив присутствует и в письмах этого периода, например, в письмах тетушке Т. А. Ергольской.
Это примечательно. Не потому, конечно, что факт карточной игры делает Льва Толстого моральным уродом. Напротив, поражает та настойчивость, с какой молодой Л. Толстой работает над своей душой. Писатель чуть ли не каждый день дает себе слово справиться со страстью к карточной игре, перестать играть, побороть лень и апатию и начать писать, справиться с похотливыми вожделениями. И он постоянно заносит эти обещания в дневник. Но перестать играть не может, потому что проигрывает все больше и сообщает об этом в своих письмах.
Обращаю на это внимание просто потому, что если мы действительно ставим перед собой задачу анализировать контекст и обстоятельства появления тех или иных записей в дневнике Л. Толстого, то нужно учитывать следующее. Запись от 4 марта 1855 г. появилась в очень широком жизненном контексте Л. Толстого, который включает и страдания военного времени, и карточные долги, и творческое призвание, которое ощущает Л. Толстой, и недовольство собой, и состояние здоровья, и многое другое.
Второе. Для П. Басинского важно противопоставление умной веры Л. Толстого и неразумной религиозности его тетушки, которая исповедует «голую веру в Провидение, в силу молитвы» и в образок Божией Матери. Это противопоставление исходит из того допущения, что неразумная вера тетушки Ергольской всегда трусливо отступает и стушевывается перед ужасами войны и вообще сложностями жизни, никак не участвует в любых попытках их объяснения, просто на место разума приходит слепая вера[140]140
Басинский П. В. Святой против Льва. С. 264.
[Закрыть].
Я не знаю, возможно, вера тетушки Л. Толстого и была именно такой. Но утверждение, что приверженность традиции и разум вообще не могут соединяться в процессе осмысления сложных вопросов жизни, противоречит всему опыту христианской Церкви и христианского богословия. То мировоззрение, которое появится у Толстого через двадцать пять лет после анализируемой записи, нельзя интерпретировать только в категориях противостояния писателя с православием. Религиозный пафос и религиозный бунт Л. Толстого не был глубинно, мировоззренчески вызван именно стремлением полемизировать с учением Православной Церкви, в этом смысле его конфликт с Церковью вторичен и во многом стал таким острым благодаря чисто субъективным обстоятельствам.
На первом месте здесь стоит более важное, фундаментальное противостояние двух «текстов»: «текста» Л. Толстого и «текста» христианского учения в его конфессиональной оболочке, о чем также очень проницательно пишет П. В. Басинский[141]141
Басинский П. В. Святой против Льва. С. 274.
[Закрыть]. Слово «текст» я здесь понимаю широко, как определенный набор идей, ценностей и норм, реализованных в слове и жизненной программе. Так вот, «текст» Толстого абсолютно несовместим с «текстом» Евангелия – так, как его понимает христианство в целом. Почему – об этом подробно будет сказано ниже.
Таким образом, мой вывод остается неизменным: Лев Толстой так и не встретил в жизни Воскресшего Христа. Конечно, в жизни писателя могло произойди чудо. Он мог встретить Христа, Христа Евангелия, того Воскресшего Христа, в Которого веровали его отцы и деды. Рядом с писателем до его последних дней были люди, которые веровали в этого Христа – оптинский старец Амвросий, сестра писателя М. Н. Толстая, двоюродная тетка А. А. Толстая и другие. Но Л. Толстой, великий «тайнозритель плоти» (Д. С. Мережковский), так и не стал тайнозрителем духа. Он уже не мог ничего открыть в Евангелии – он был способен только приспособить Евангелие к своему опыту и своему пониманию морали, превратить все богатство евангельских смыслов, очевидным образом группирующихся вокруг Воскресения Христа, в довольно банальную моральную проповедь. Очень точно отечественный исследователь А. В. Гулин называет это явление «сакрализацией собственного эмоционального мира», «самостоятельно найденным духовным абсолютом»[142]142
Гулин А. В. Л. Н. Толстой: Духовный идеал и художественное творчество (1850–1870-е годы). Автореферат дисс. д. филол. н. М., 2004. С. 17.
[Закрыть].
В этом отношении запись 1855 г. имеет особое значение, поэтому она – один из наиболее цитируемых отрывков из дневника Л. Толстого. Здесь писатель высказывает свое самое сокровенное желание – основать новую религию, соответствующую требованиям современного мира, уровню развития просвещенного человечества. Обратим сейчас на это внимание: речь идет не только о сокровенном, сердечном поиске молодого человека, он сознательно проецирует этот поиск на нужды человечества. И это важно: человечество всегда является значимым фоном поисков Л. Толстого.
В этой новой религии есть место Христу, но какому Христу? Не случайно ведь эта оговорка 1860 г. о «Христе-материалисте»: всякая тень мистики преследует Л. Толстого как наваждение, как страшный кошмар, от которого нужно избавиться любыми способами. Еще один важный мотив, который появляется в 1855 г. – идея блаженства на земле. Новая религия преследует вполне практические цели: это построение земного царства добра. Блаженство, о котором говорит Евангелие, с точки зрения Л. Толстого, лишено какой-либо эсхатологической основы. Правда, непонятно, как теперь быть с воздаянием за неправедную жизнь в будущем, если основной акцент переносится на земное существование человека.
Первая не-встреча с Достоевским: образ Христа (1854–1856)«Да, вероятно, мы уже больше в этом мире не увидимся; так Богу угодно, стало быть, это хорошо. Не думаю тоже, чтобы мы увидались там так, как мы разумеем свидание, но думаю и вполне уверен, что и в той жизни все то доброе, любовное и хорошее, которое вы дали мне в этой жизни, останется со мною, может быть, такие же крохи от меня останутся и у вас».
Из письма Л. Н. Толстого А. А. Толстой (1903 г.)
А теперь обратим внимание, что примерно в то же самое время, а точнее, в 1854 г., появился еще один очень известный «символ веры», но принадлежал он уже Ф. М. Достоевскому. Это письмо, отправленное Достоевским Н. Д. Фонвизиной из Омска, где в тот момент он отбывал ссылку.
Наталья Дмитриевна Фонвизина – жена декабриста Михаила Фонвизина, последовавшая в ссылку за мужем в Сибирь в 1830 г. Знакомство с женами декабристов очень поддержало писателя по пути на каторгу в январе 1850 г., когда Н. Д. Фонвизина подарила Достоевскому единственную книгу, которую он, в соответствии со строгими правилами содержания в заключении, сможет читать – Евангелие. И в письме 1854 г. Достоевский, вспоминая этот эпизод, попутно формулирует свое понимание веры в Христа.
«Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Н<аталия> Д<митриевна>. Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как “трава иссохшая”, веры, и находишь ее, собственно, потому, что в несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
Ф. М. Достоевский. Отрывок из письма Н. Д. Фонвизиной. Конец января – 20-е числа февраля 1854. Омск. (ДПСС. Т. 28. 1. С. 176).
Толстой и Достоевский в жизни никогда не встречались и не обменялись ни одной строчкой в письмах. Поэтому, говоря в этой книге о пересечении их идейных траекторий, я ввел специальный термин «не-встреча». И. Л. Волгин в своей замечательной книге о последнем годе жизни Ф. М. Достоевского употребил уже термин «невстреча»[143]143
Волгин И. Л. Последний год Достоевского. С. 382.
[Закрыть]. Но мне он кажется несколько слабым в данном случае. «Невстреча» – то, что произошло случайно; «не-встреча» – нечто более конструктивно жесткое, определенное или даже предопределенное (биографией, духовной конституцией, кругом чтения, вектором общественного интереса, личностной направленностью на совершенно определенные вопросы и проблемы).
Более формально: под «не-встречей» я имею в виду идейные встречи, встречи на перекрестках мысли, чувства, интуиции, истории, когда по каким-то важным обстоятельствам, связанным с особенностями психо-духовной конституции, Толстой и Достоевский расходятся в разные стороны. Или еще более формально: это встречи их текстов и встречи в их текстах тогда, когда они либо прямо говорят друг о друге, либо говорят о чем-то важном для обоих, то есть обсуждают по сути одни и те же идеи и вопросы, но уже необязательно при этом упоминая друг о друге. Эти пересечения всегда показывают, насколько по-разному эти два человека смотрели на жизнь и веру.
Может быть, некоторым аналогом «не-встречи» может служить слово «ненависть», но, конечно, в его исконном, этимологическом понимании, которое замечательно раскрывает В. В. Бибихин. Славянское слово «на-видеть», имеющее очевидную основу, связанную со зрением, взглядом, означает «навести взгляд, посмотреть, охотно смотреть», в более широком смысле «увидеть, усмотреть, обратить внимание, приглянуться» (ср. «положить взгляд»), то есть в конечном итоге «любить, полюбить». Тогда, наоборот, «не-навидеть» – значит «не замечать», «не узнавать себя» в виденном и, как предел, испытывать сильнейшую неприязнь[144]144
Бибихин В. В. Дневники Льва Толстого. С. 364 и далее.
[Закрыть]. Конечно, такой неприязни, доходящей до ненависти, между двумя великим русскими писателями никогда не было, но описанный эффект «не-навидения», с моей точки зрения, присутствует.
Оказывается, таких не-встреч в их жизни было достаточно много, и с точки зрения жанра теологического детектива они имеют большое значение для расследования того преступления, которое совершил Л. Толстой. Каждая такая не-встреча могла стать серьезным мистическим предупреждением Л. Толстому, предупреждением о том, что выбранный им путь является ошибкой и тупиком. Как мы увидим, за две недели до смерти Достоевский сказал об этом прямо, а сразу после смерти последнего Толстой вдруг понял, какую жизненную опору он потерял.
Учтем, что оба будущих великих писателя были представителями одного поколения (Достоевский родился в 1821 г., Толстой – в 1828-м), в 1854–1855 гг. находились в довольно трудных жизненных обстоятельствах (Достоевский – в Сибири в ссылке, Толстой – в Крыму на войне). При чтении их «символов веры» возникает впечатление, что оба в первой половине 1850-х годов шли в одном направлении, искали отправную точку, фундамент веры. И оба пережили глубокий мировоззренческий и религиозный кризис. И для обоих фундаментом новой жизни стал Христос[145]145
Не придавая какого-либо особого значения магии цифр, все-таки заметим, что 1855 год – год рукоположения в священники святого праведного Иоанна Кронштадтского, который впоследствии будет самым решительным критиком Л. Н. Толстого.
[Закрыть].
Очень занятно, что к 1856 г. относится вообще первое упоминание Достоевского о Толстом. В письме А. Н. Майкову он отмечает, что Толстой ему «очень нравится, но, по моему мнению, много не напишет (впрочем, может быть, я ошибаюсь». (ДПСС. Т. 28. 1. С. 206. Письмо от 18 января 1856 г.).
Что же общего и разного было у двух писателей в восприятии Христа?
Общее – это печать гуманистического понимания его Образа, выделение и подчеркивание в нем человеческого измерения (Ницше скоро скажет свое знаменитое «слишком человеческое»). Толстой пишет об этом прямо, стремясь освободить этот Образ от всего, что противоречит его собственным представлениям и представлениям его учителей-просветителей XVIII века. В «символах» писателя, созданных уже в ранней молодости, противопоставление того Христа, которого хочет знать Л. Толстой, тому Христу, которого он знать не хочет и не может, выражено совершенно определенно.
У Достоевского этого противопоставления нет. Есть только Христос, которого он хочет любить. И Им любоваться. Но и он подчеркивает в своем видении Христа только человеческие качества: «прекрасное», «глубокое», «симпатичное», «разумное», «мужественное», «совершенное» – это тоже пока еще «слишком человеческое». Пожалуй, только красота здесь стоит несколько особняком – для Достоевского всю жизнь это понятие значило гораздо больше, чем только эстетическая категория.
Образ Христа – проблема, которая является одной из центральных для творчества Достоевского и которая в таком виде почти не существовала для Л. Н. Толстого. Для Достоевского эта жизненная проблема стояла настолько остро, что позволила протоиерею С. Булгакову утверждать: «любовь ко Христу в Достоевском, как и в его героях, тверже и несомненнее даже, чем самая вера в Него»[146]146
Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1918. С. 4.
[Закрыть].
В качестве полезного упражнения предлагаю читателям сравнить два разбираемых символа с еще одним.
«Даже если бы можно было доказать математически, что Бог существует, я бы не хотел, чтобы Он существовал, поскольку это ограничивает меня в моем величии».
Из письма Дитриха Хайнриха Керлера Максу Шелеру. Цит. по: Анри де Любак. Драма атеистического гуманизма. Милан – Москва. 1997. С. 30.
Это отрывок из письма немецкого историка и библиотекаря Д. Х. Керлера (1837–1907). К сожалению, мне пока не удалось выяснить датировку этого письма, но ясно, что оно также написано во второй половине XIX века. Слова Керлера фактически являются симметричной антитезой словам Ф. М. Достоевского. Это уже анти-теизм, доведенный до своего логического предела.
Итак, уже в ранних «символах» двух писателей заложено важное различие. Толстой со своим панморалистическим отношением к жизни и действительности хочет слышать Христа, для него главным является Его учение, выраженное в Нагорной проповеди. Этим учением Толстой способен восхищаться и вдохновляться. Для Толстого Христос – только учитель, пусть и великий учитель. Это этический критерий. Но он не хочет, скорее, не может видеть Христа.
Для Достоевского главное не слышать, а видеть: христианством насыщенный эстетический критерий является определяющим. В первую очередь важно не учение Христа, а сам Лик Христов, неразрывно связанный с красотой: «главное образ Христа, из которого исходит всякое учение» (ДПСС. Т. 11. С. 192). Красота Лика Христова является, как скажет Достоевский несколько позже, страшной силой, спасающей мир. Спасающей, конечно, и учением, и заповедями. Уже в XX веке, после первых ужасов и зверств большевистской революции, Н. А. Бердяев напишет, что моралистический нигилизм Л. Н. Толстого явился для России глобальным несчастьем, наваждением, соблазнительной ложью, противоядием против которой должны были стать «пророческие прозрения Достоевского»[147]147
Бердяев Н. А. Духи русской революции//Из глубины: Сборник статей о русской революции/ Библиотека русской религиозно-философской литературы «Вехи»<Электронный ресурс>.– http://www.vehi.net/berdyaev/duhi.html. – 26.10.2009.
[Закрыть].
Даже из этого короткого анализа видно, что просвещенческий гуманизм Толстого и Достоевского имеет общие корни, но разные плоды. Можно сказать, что это противопоставление этического и эстетического гуманизма. Но важно и другое. «Символ» Толстого невероятно жестко очерчен и замкнут. Кажется, что это окончательная, чеканная формулировка, в которой уже ничто не может измениться, к тому же ориентированная на чужое восприятие («человечество»). Наоборот, «символ» Достоевского открыт для движения, динамики, творческого переосмысления и, что очень важно, для опыта большой трансценденции, то есть обогащения своего маленького и несовершенного опыта чем-то принципиально и абсолютно отличным от него.
Именно в этом контексте особую значимость приобретает наблюдение В. Никитина, который замечает, что запись Л. Толстого от 4 марта 1855 г. подозрительно напоминает программу Великого инквизитора![148]148
Никитин В. «Богоискательство» и богоборчество Толстого // Прометей. Т. 12. М., 1980. С. 115.
[Закрыть] Действительно, слишком функционально мыслится в этом отрывке Личность Христа, как будто Он нужен Л. Толстому только для того, чтобы осуществить совершенно определенную жизненную программу.
Но легко заметить, что и для Достоевского оппозиция «Христос – истина», так емко сформулированная в письме к Н. Д. Фонвизиной, представляет огромную проблему. Впоследствии он много раз будет возвращаться в своем творчестве к этому сюжету. Я думаю, эта оппозиция была главным камнем преткновения и соблазна для всех образованных современников двух русских писателей, для тех, кто искал веры. Беспощадная война, которую секулярный мир, эксплуатируя знание, науку, рациональность как фундаментальный жизненный принцип, объявил Евангелию, Христу и Церкви, была вызовом для всех, кому было суждено родиться в XIX веке.
В дальнейшем Л. Н. Толстой всегда будет исходить из того факта, что христианское учение не может противоречить разуму, здравому смыслу. С его точки зрения, образованный человек XIX в. просто не может верить в то, чему учит Церковь; на этом принципе построена вся толстовская критика ее догматического учения. По мнению Л. Толстого, истина кардинально отрицает церковное понимание Христа и христианства. Таким образом, для Толстого проблема «Христос и истина» имела принципиальное значение, но не как жизненная задача – эта оппозиция заранее им отвергается, разрушается в пользу истины, о чем он прямо говорит в трактате «В чем моя вера?».
«Учение Христа имеет глубокий метафизический смысл; учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа».
(23, 423).
Поразительно, но остается фактом: формулировки Ф. М. Достоевского фактически были ответом на вопрошание Л. Н. Толстого, на вопрошания, которые Достоевскому просто не могли быть известны. Вся жизнь Достоевского проходит в размышлениях над вопросом, который был так актуален и для Л. Н. Толстого: «возможно ли веровать?», «возможно ли серьезно и вправду веровать?», «можно ли веровать, быв цивилизованным, т. е. европейцем? – т. е. веровать безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в этом и состоит)», наконец, «можно ли веровать во все то, во что православие велит веровать?» (ДПСС. Т. 11. С. 178–179). В одном из своих писем Ф. М. Достоевский говорит, что самый главный для него вопрос – как заставить интеллигенцию согласиться с христианством: «Попробуйте заговорить: или съедят, или сочтут за изменника» (ДПСС. Т. 30. I. С. 236). Совершенно справедливо русский литературный критик и богослов, профессор парижского Свято-Сергиевского богословского института К. В. Мочульский указывает: «С беспощадной логикой намечается трагическая дилемма: или верить, или “все сжечь”. Во всей мировой литературе вопрос о возможности веры для цивилизованного человека XIX века не ставился с такой бесстрашной откровенностью, как в этом черновике к “Бесам”. Спасение России, спасение мира, судьба всего человечества в одном этом вопросе: веруеши ли?»[149]149
Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 434.
[Закрыть].
Заметим, что этот вопрос практически дословно присутствует и в трактатах Л. Н. Толстого – в «Исповеди», «В чем моя вера?» и др. Таким образом, оба писателя решали важнейший, принципиальный вопрос: о месте православия и христианства в современной жизни, в жизни человечества второй половины XIX в., о его соотношении с культурой и современным научным знанием. Именно православие стало для обоих отправной точкой для поиска путей преодоления религиозного кризиса.
Но нас интересует снова в первую очередь Л. Толстой. Для понимания особенностей его духовного перелома и нового мировоззрения мы должны остановиться теперь на отдельных направлениях религиозной программы писателя.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?