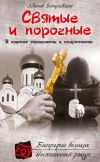Текст книги "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Автор книги: Протоиерей Георгий Ореханов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Евангелие
«Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог”.
Б. Л. Пастернак
Безусловно, особое значение для Л. Н. Толстого имели опыты нового перевода Евангелия и попыток его нетрадиционной интерпретации. Ведь от того, насколько убедительной была его критика церковного понимания Нового Завета, зависела и убедительность его критики церковной догматики.
В работе Л. Н. Толстого над евангельским текстом проявилась характерная тенденция. Нужно освободить Евангелие от вековых наслоений, от всего того, что, по мнению писателя, в течение долгого промежутка времени содействовало искажению первоначального намерения Христа и евангелистов – дать людям простое и понятное учение. Этот мотив подробно и детально освещен в очень интересном письме постоянного корреспондента Л. Толстого философа Н. Н. Страхова публицисту славянофильского лагеря И. С. Аксакову, где автор письма говорит о стремлении Л. Н. Толстого восстановить «человеческой тон» евангельского повествования, который оно первоначально имело. «Если Царство Небесное может водвориться внутри нас, то смысл его должен выражаться нашей обыкновенной речью»[150]150
Аксаков И. С. – Страхов Н. Н. Переписка. Оттава; М.; 2007. С. 135.
[Закрыть].
В первую очередь «освобождение Евангелия» было направлено на критику в нем всего чудесного. Малейшее напоминание о каком-либо чуде из евангельского текста должно было быть удалено. Это касается и главного евангельского события – Воскресения Христова. «Евангелие Толстого» заканчивается не Воскресением Спасителя, а Его смертью на кресте, а все чудеса Христа либо трактуются чисто рационалистически, либо просто отрицаются как неподлинные поздние вставки.
Однако при таком подходе возникала проблема, которую сам Толстой осознал гораздо позже, только через 20 лет, а не в тот момент, когда создавал свою интерпретацию Евангелия. Проблема эта заключается в том, что, даже если принять тезис Н. Н. Страхова, ясно, что простая и понятная речь Евангелия – это не русская речь, а древнегреческий язык определенной исторической эпохи. Домашний учитель детей Л. Н. Толстого И. М. Ивакин, по образованию филолог-классик, оставивший о писателе очень ценные воспоминания, вполне однозначно свидетельствует, что Л. Н. Толстой греческий язык знал не очень хорошо, и дополняет это свидетельство описанием многочисленных случаев, когда писатель обращался к нему, тогда еще студенту, с самыми элементарными вопросами[151]151
См.: Ивакин И.М.<Воспоминания о Толстом> // Литературное наследство. Т. 69: Лев Толстой / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. М., 1961. Кн. 2. С. 34 и многие другие места.
[Закрыть].
Правда, это свидетельство плохо соотносится с воспоминаниями тех восторженных почитателей Л. Толстого, которые утверждают, что писатель сам научился греческому языку за шесть недель, в результате чего добился того, что свободно читал и понимал Геродота и Ксенофонта. Примирить эти показания несложно. Всякому человеку, имеющему самое общее представление о греческом языке, должно быть понятно, что уровня владения языком, которого добился Л. Толстой, действительно было достаточно для чтения евангельского текста, но совершенно недостаточно для его анализа, критического исследования и перевода, а ведь именно так определил жанр своей работы сам писатель.
И. М. Ивакин дает очень интересные примеры «метода» Л. Толстого. Часто, желая подогнать текст под свою концепцию, Л. Н. Толстой искал в словаре некоторые специальные значения того или иного слова, но, совершенно не будучи знаком с так называемыми критическими методами исследования, он никогда не задавался вопросом о допустимости в конкретном случае применения найденного перевода, лишь бы он служил подтверждением его собственного понимания евангельского текста. Ивакин подчеркивает, что в первую очередь Л. Н. Толстой имел в виду только нравственную сторону своего собственного учения, причем Евангелие обязано было только подтвердить взгляды писателя, иначе Л. Н. Толстой «не церемонился и с текстом».
«При всем моем благоговении к нему, я с первого же шага почувствовал натяжку. Иногда он прибегал из кабинета с греческим Евангелием ко мне, просил перевести то или другое место. Я переводил, и в большинстве случаев выходило согласно с общепринятым церковным переводом. “А вот такой-то и такой-то смысл придать этому нельзя?” – спрашивал он и говорил, как хотелось бы ему, чтоб было… И я рылся по лексиконам, справлялся, чтобы только угодить ему, неподражаемому Л<ьву> Н<иколаевичу>».
Ивакин И. М. <Воспоминания о Толстом> // Литературное наследство. Т. 69: Лев Толстой / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. М., 1961. Кн. 2. С. 40.
О плохом знании древних языков Л. Н. Толстым свидетельствует и известный русский богослов, специалист по библеистике проф. Н. Троицкий, который встретился случайно с Л. Толстым в вагоне поезда зимой 1885 г. Из описания этой встречи выясняется, что Л. Н. Толстой, который в целом отнесся к вопросу серьезно и пользовался многочисленными западными сочинениями при подготовке своего перевода Евангелия, свой выбор осуществлял все-таки волюнтаристским путем и совершенно не был знаком ни с многими критическими трудами по предмету, ни со специальными сочинениями филологического характера. Проще говоря, писатель, будучи человеком образованным, прекрасным автодидактом, в целом хорошо знакомым с европейской литературой, к тому же проявляя большое личное усердие в изучении греческого языка, просто не учел того обстоятельства, что работа по переводу Евангелия требует специальной, специфической, очень сложной богословской, филологической и исторической подготовки, которая продолжается десятки лет и может быть в современных условиях осуществлена только академическим путем.
В ходе беседы с Н. И. Троицким выяснилось, что Л. Толстой был прельщен талантом и художественностью лекций Э. Ренана, но не смог критически отнестись к их содержанию. Так как Ренан требовал от своих читателей знания еврейского текста Библии, Толстой взялся за изучение греческого и еврейского языков, но серьезно в этом вопросе не продвинулся. Еврейским языком Л. Толстой занимался с М. В. Никольским и дошел до глав книги Бытия, где говорится об Аврааме. Кроме того, в 1882 г. он брал уроки еврейского языка у московского раввина С. А. Минора.
При этом писатель, пользуясь самыми современными греческими словарями («лексиконами»), совершенно не учитывал особенностей так называемого языка «койне», имеющего существенные различия с языком классических писателей, а ведь Евангелие написано именно в традиции «койне», поэтому Л. Н. Толстому был неизвестен столь опасный эффект слов – «ложных друзей переводчика», которые, имея стандартное значение в классической традиции, имеют совершенно иное семантическое поле и коннотации в тексте Евангелия, на что и обратил внимание писателя Н. И. Троицкий в связи с богословски столь значимым термином «благодать»[152]152
Троицкий Н. Кто он? Моя встреча с графом Л. Н. Толстым // Вера и Церковь. 1903. Т. 1. Кн. 1. С. 125. С. 133–134.
[Закрыть].
Толстовский подход к «переводу» Евангелия был настолько искусственным, что иногда даже ставил в тупик ближайших последователей писателя. Когда в 1895 г. обсуждался вопрос о переводе «Краткого изложения Евангелия» Толстого на английский язык, В. Г. Чертков в письме обратился к писателю с вопросом, как быть с интерпретацией главы 10-й Евангелия от Иоанна, в которой, чтобы полностью избежать какого-либо намека на чудо, совершаемое Христом, писатель заменил телесное прозрение слепорожденного, освобождение от слепоты, на духовное просвещение. В интерпретации Л. Н. Толстого Господь не сделал слепого зрячим, не дал ему зрение, а духовно его просветил, открыл темному свое учение. На это В. Чертков спрашивает, как же тогда быть с началом главы 10-й, где говорится, что слепец был темен от рождения, он же не мог быть просвещен от рождения. В ответ на это письмо Л. Н. Толстой указывает, что в английском переводе придется употребить слово blind, т. е. именно «слепой». Этот ответ привел В. Г. Черткова в еще большее недоумение: он написал Л. Н. Толстому, что его ответ очень смущает его, ведь в таком случае «выходит чудо», которое противоречит настойчивому желанию писателя избежать всего чудесного: «Чувствую, что это послужило бы большим соблазном, ибо если в одном месте оставить чудо, то это было бы оправданием для восстановления их везде, где захочется» (87,351–352, 356). На это писатель ответил, что не может вдуматься в обсуждаемое место Евангелия и поэтому оставляет за В. Г. Чертковым право делать, как он знает, но при этом, «разумеется, надо, чтобы не было возможности объяснить чудом» (87, 356).
Другой преданный поклонник Л. Толстого, Н. Н. Страхов, также подверг «метод» писателя уничтожающей критике. В письме к И. С. Аксакову Н. Н. Страхов называет труд писателя «крайне безобразным», не «переводом», а «перефразом», но подчеркивает, что «по сущности дела, и по отношению к евангельскому тексту тут есть и ценное, и даже бесценное»[153]153
Аксаков И. С. – Страхов Н. Н. Переписка. С. 134.
[Закрыть].
Интересно, что впоследствии писатель, по всей видимости, прекрасно понял, в чем заключается слабость и неубедительность его построений, так как в письме В. Г. Черткову от 26–28 марта 1902 г. он просит последнего предпослать предполагающемуся английскому изданию «Соединения и перевода четырех Евангелий» небольшое предисловие, в котором будет сказано, что в этой книге имеется много лишнего, «в особенности все филологические необычные толкования греческих слов в таком смысле, чтобы они отвечали общему смыслу» (88, 258). Далее Л. Н. Толстой указывает, что писал эту книгу под впечатлением того восторга, который его охватил, когда, казалось, ему открылся истинный смысл евангельского учения – не того сложного учения, которое преподается Церковью, а того простого, которое может быть понятно всем людям. С этой точки зрения все Евангелие делится на две части: мысли «понятные» и мысли «темные». Так вот, в 1902 г. Л. Н. Толстой признает, что в этот период жизни предпринял попытку «придать и темным местам подтверждающее общий смысл значение. Эти попытки вовлекли меня в искусственные и, вероятно, неправильные филологические разъяснения, которые не только не усиливают убедительность общего смысла, но ослабляют ее» (88, 259).
В то же самое время Л. Н. Толстой был убежден в том, что его понимание Евангелия является правильным и гораздо точнее «церковного» – в 1890 г. в беседе с К. Н. Леонтьевым в Оптиной пустыни Толстой указывал, что сам пьет «чистую Евангельскую воду», а К. Леонтьев, пребывающий в монастыре, пользуется монашеской «воронкой»[154]154
Леонтьев К. Н. Из эпистолярного наследия. Письмо к Т. И. Филиппову / Публ. и примеч. Г. М. Кремнева // Трибуна русской мысли. 2002. № 3. С. 123.
[Закрыть].
Описанное понимание Л. Толстым Евангелия было тесно связано с общими идеями религиозного характера, к характеристике которых мы должны теперь приступить.
Бог
«С Богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя, только с глаза на глаз начинаются настоящие отношения; только когда никто другой не знает и не слышит, Бог слышит тебя».
Л. Н. Толстой. «Бог»
С точки зрения Л. Н. Толстого, Бог – безличный «Хозяин и Отец», «начало начал разума», носитель духовного, глубинного «я» человека, и в этом смысле «Бог» Толстого бессмертен. Фактически «Бог» Толстого есть духовная сущность в человеке, которая проявляется в любви, поэтому этот «Бог» может развиваться и совершенствоваться, это развитие и есть приближение человечества к Царству Божию на земле.
Исходя из так называемой трихотомической схемы (тело – душа – дух), Л. Н. Толстой утверждает, что Бог есть «бесконечное, вечно-живое, единое существо», которое проявляется в «бесконечном количестве видов (существ)», высшую ступень состояния которых составляет человеческий дух, самопознающий и познающий Бога. Эта третья («духовная») ступень познания открыта в «истинном браманизме, и буддизме, и христианстве». Согласно этому представлению реальностью является не отдельная человеческая личность, а действующая через человеческое сознание «вечная, бесконечная сила Божия», высшим проявлением которой является любовь. Смысл жизни человека в росте сознания, в постепенном переходе от низшей ступени сознания к высшей (88, 318). Учитывая многочисленные высказывания подобного рода, становится ясно, почему один из самых авторитетных западных исследователей художественного творчества писателя, Р. Ф. Густафсон, утверждает, что учение Л. Н. Толстого представляет собой не столько пантеизм, сколько одну из разновидностей панентеизма.
Панентеизм (от греч. πας всё; εν – в; θεος– Бог) – философская доктрина, согласно которой мир включен в Бога, пребывает в Нем. Термин введен К. Краузе, учеником И. Г. Фихте и Ф. Шеллинга, использовавшим его для обозначения понимания Бога, призванного объединить теизм, резко отделяющий Бога от мира, и пантеизм, сливающий Бога и мир. Вселенная покоится в Боге, а мир есть способ проявления Бога. Учения, близкие к панентеизму, выдвигали многие философы, начиная с Плотина и кончая представителями русской религиозной философии (концепция всеединства).
Мы уже отмечали, что представления о Боге, заключенные в дневниковой записи Л. Толстого, крайне динамичны и с трудом поддаются какой-либо систематизации. В дневниковых записях Л. Н. Толстой различает «Бога познаваемого», т. е. личного, и «Бога, сознаваемого в себе»: «тот Бог, который во мне, слышит меня, в этом-то уж не может быть сомнений. Так что ж вы молитесь сами себе? Да, только не низшему себе, не всему себе, а тому, что есть во мне Божьего, вечного, любовного. И оно слышит меня и отвечает. Благодарю тебя и люблю тебя, Господи, живущий во мне» (54, 15; см. также: 57, 108–109). В другом месте Л. Н. Толстой пишет: «Помоги мне Тот, Кого знаю, но не могу ни назвать, ни понять» (57, 145).
Дневниковые записи последних двух-трех лет жизни Л. Толстого являются особенно показательными с точки зрения подобного рода формулировок. Примером может служить запись от 16 мая 1909 г.: «Бог не в храмах, не в изображениях, не в словах, не в таинствах, не в делах человеческих, а в человеке, в самом человеке; перед ним, перед проституткой, палачом, пригова<рива>телем к казням, перед этим благоговей, созерцая в них Бога» (57, 69).
Ровно за месяц до ухода из Ясной Поляны Л. Н. Толстой делает своего рода обобщающее признание.
«Если есть какой-нибудь Бог, то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а также и во всем живом. Говорят: нет материи, вещества. Нет, она есть, но она только то, посредством чего Бог не есть ничто, не есть не живой, но живой Бог, посредством чего Он живет во мне и во всем <…> Надо помнить, что моя душа не есть что-то – как говорят – божественное, а есть сам Бог. Как только я Бог, сознаю себя, так нет ни зла, ни смерти, ничего, кроме радости».
(58, 108).
Фактически «Бог» Л. Н. Толстого недоступен какому-либо познанию, более того, всякая попытка познания в этой области, всякий признак наличия такого знания есть на самом деле яркое присутствие религиозного заблуждения: «Чем определеннее наше понятие о Боге, тем менее руководит такой Бог нашей жизнью. И наоборот» (57, 194; запись от 24 декабря 1909 г.).
Таким образом, религиозно-философские установки Л. Н. Толстого коренным образом противоречат персоналистическому подходу, утверждению значения личности (Бога и человека) в процессе богообщения, возможности религиозного (например, молитвенного) обращения к Богу, как к самостоятельной Личности.
В постоянном стремлении Л. Н. Толстого не воспринимать Бога как Личность лежит глубинная мировоззренческая интенция, стремление интерпретировать духовные процессы («разумное сознание») как выход личности во всеобщее, внеличностное бытие. Неоднократно в своих дневниках писатель подчеркивает ограниченность, с его точки зрения, персоналистического подхода к вере. Вот характерная запись от 5 мая 1890 г.: «Обращение к Богу как к личности нужно, когда сам себя чувствуешь слабым – личностью; когда силен – не чувствуешь себя личностью и живешь, когда слаб – только просишь. Лицо – прости, помоги мне, лицу» (50, 40). Именно поэтому, по очень меткому замечанию Н. А. Бердяева, религия Л. Н. Толстого представляет собой поклонение «безличной божественности среднего рода»[155]155
Бердяев Н. А. Духи русской революции//Из глубины: Сборник статей о русской революции/ Библиотека русской религиозно-философской литературы «Вехи» <Электронный ресурс>. – http://www.vehi.net/ berdyaev/duhi.html. – 26.10.2009.
[Закрыть].
Нужно заметить, что подобный взгляд на веру Л. Толстой пытался передать своим детям. Правда, без особого успеха, если не считать младшей дочери, Александры. В 2015 г. были впервые изданы ее дневники, по которым очень интересно проследить, что именно отложилось из домашних проповедей отца в душе молодой девушки. И вот, с точки зрения обсуждаемой темы, я обращаю внимание на запись от 1 января 1904 г., когда Саше было уже 19 лет. Она пишет о своем несогласии с религиозными воззрениями тети, Т. А. Кузминской, и, с подачи отца, обвиняет ее в том, что вера тетушки в Личного Бога, в сущности, является формой идолопоклонства, конечно, адаптированной к взглядам образованного сословия: «У нее почти такое же понятие о Боге, как у некультурного, ничего не слыхавшего мужика или, скорее, даже бабы. Бог есть существо, которое сотворило мир, сотворило нас, к которому можно обращаться с просьбой. Она не понимает, что Бог есть любовь – понятие такое же, как зло, добро и т. п. Что Бог – любовь есть в нас, она не может понять»[156]156
Толстая А. Л. Дневники. 1903–1920. М., 2015. С. 28.
[Закрыть]. Далее в этом же отрывке Александра указывает, что даже само слово «Бог» является источником недоразумений и «превратных понятий».
Из этой красноречивой записи еще раз видно, что для Толстого, взгляды которого транслирует младшая дочь, поклонение Личному Богу, обращение к нему с молитвой, просьбой, есть такое же действие, какое совершают мордовские крестьяне, которые мажут своего идола сметаной, чтобы его ублажить (о чем сам граф часто писал в своих сочинениях). Странно при этом, как Л. Толстому не приходит в голову, что весь Новый Завет пропитан духом богословского персонализма. Достаточно вспомнить, например, молитву Христа в Гефсиманском саду или многочисленные молитвы первых христиан в книге Деяний апостольских (не говоря уже о Ветхом Завете). Впрочем, выше мы уже видели, что делал граф с евангельским текстом, если тот его по каким-либо причинам не устраивал.
Л. Н. Толстой соглашается с евангельским утверждением о том, что вечная жизнь – знание Бога (Ин. 17:3), но интерпретирует его совершенно по-иному, нежели христианское богословие. Это знание не есть теснейшее единение с Богом как Личностью, не есть межличностный процесс, наоборот, это процесс самопреодоления, самоотречения, преодоления себя как личности ради растворения во всеобщем благе, во внеличностном законе добра и веры, Бога и жизни. 28 августа 1908 г. Л. Н. Толстой пишет в дневнике: «Короткая молитва: Не оставляй меня, Ты (не могу назвать Тебя). Помогай мне служить Тебе в деле Твоем, быть с Тобою, в Тебе и Тобою» (56, 149).
Таким образом, христианская жизнь, с точки зрения Л. Толстого – это не предстояние одного Другому, человека личному Богу, которое осуществляется в Церкви и при ее благодатной помощи, а своеобразное «богоношение» – в каждом человеке живет «Бог», Который открывается в духе, разуме и любви, а вовсе не в символических действиях (таинствах), также радикально писателем отрицаемых и отвергаемых.
Но как тогда подобные взгляды соотносятся с личным бессмертием и вечной жизнью, о которых постоянно говорит Евангелие? Очевидно, этот вопрос все время приходил в голову писателю и не давал ему покоя. Пытаясь на него ответить, пытаясь убедить себя в бессмысленности Бога-Личности, в Котором только и возможно личное бессмертие, бессмертие человека как личности, Толстой вынужден постоянно возвращаться к формулировкам персоналистического характера, снова их отвергая.
Внимательному читателю дневника графа следует обратить внимание на часто повторяющиеся ремарки «нехорошо», «не то» и т. д., – очевидно, сформулированные мысли не удовлетворяли писателя. Вот несколько ярких примеров такого рода: «Послания Иоанна отрицают всякое представление о Боге, кроме любви, кроме того начала любви, которое каждый человек сознает в себе. Просить не о чем и некого. Можно только жить или не жить любовью <…> Молитва при такой вере не такая, в которой к кому-то обращаешься, просишь кого-то: помоги, помилуй, а только такая: «знаю, что Ты – любовь. Хочу жить Тобою. (Нехорошо)» (56, 165). Или другая запись: «Пришла было мысль, что доброй жизнью приготавливается душа для другой, лучшей жизни за гробом. Но это не то. Ничего не будет. Все есть. Если живешь добро, сейчас есть все то благо, какого можешь желать. А какая свобода и сила, когда вся жизнь в одном настоящем» (56, 157). При этом некоторые православные молитвы были писателю особенно близки – примерно за месяц до смерти он указывает: «Да, еще молился хорошо: Господи, Владыко живота моего и Царю Небесный» (58, 108; запись от 29 сентября 1910 г.).
7 мая 1909 г. Л. Н. Толстой отмечает в дневнике: «Помоги, помоги – кто? Кто бы там не был, но знаю, что есть кто-то, кто может помочь. И прошу Его, и Он помогает, помогает» (57, 59). Менее чем через месяц (1 июня) Л. Н. Толстой записывает: «Очень ясно, живо понял, странно сказать, в первый раз, что Бога или нет, или нет ничего, кроме Бога» (57, 78).
Очевидно, эти записи свидетельствуют о следующем. Сколько бы Л. Толстой не пытался представить свой взгляд на веру подлинно христианским, приносящим радость и успокоение, подобная вера не приносила писателю ни подлинной радости, ни духовного и нравственного успокоения, того, что является признаком примирения с Богом, веры в Него и любви к Нему. Холодное чувство одиночества, связанное в первую очередь с семейной трагедией, отчужденность детей, не желавших (особенно это касается сыновей) разделять в жизни отца то, что он считал для себя главным, трагический жизненный разрыв, определяемый очевидным противоречием между проповедью графа Л. Толстого и окружающим его богатством, в итоге тоска и богооставленность – эти чувства к концу жизни писателя стали особенно сильно проявляться в его душе.
Подчеркнем еще раз: эти отрывки отражают напряженный поиск, который, в финале земного существования писателя заметно обострился и в значительной степени зашел в тупик, но который окружавшие писателя люди, в первую очередь В. Г. Чертков, пытались выдать за стройную систему. Постоянно и в жесткой форме дистанцируясь от православного вероучения, квалифицируя его как суеверие, обман и даже кощунство, Л. Н. Толстой реально был от него зависим, практически ежедневно размышлял над содержанием основных истин христианской догматики, которые, очевидно, не давали ему покоя, о чем свидетельствуют многократные возвращения к уже сказанному ранее не только в трактатах, но и в дневнике. Мучительно тревожная растерянность перед идеей вечной жизни, Бога как Личности, поиск смысла молитвы, стремление к любовному отношению к окружающим и в то же время настойчивое желание любыми способами каждому явлению духовной жизни дать рациональное объяснение, сделать его простым и понятным, удержаться на рационально-моралистической плоскости при всей очевидной невозможности для самого писателя сделать это – вот причина угнетенного состояния духа Л. Н. Толстого в последний год жизни.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?