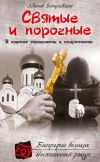Текст книги "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Автор книги: Протоиерей Георгий Ореханов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Непротивление злу силой
Homo homini lupus est – человек человеку волк.
«Вместо того, чтобы учиться жить любовной жизнью, люди учатся летать. Летают очень скверно, но перестают учиться жизни любовной, только бы выучиться кое-как летать. Это все равно, как если бы птицы перестали летать и учились бы бегать или строить велосипеды и ездить на них».
Л. Н. Толстой. «Непротивление»
Итак, еще раз. С точки зрения Толстого, главным в Евангелии и христианстве является нравственное учение Христа, изложенное в Нагорной проповеди (Мф. 5–7), понимание которой писателем существенно отличается от традиционно-христианского. По Толстому, христианство, как и всякое религиозное учение, заключает в себе две стороны: 1) учение о жизни людей – о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе, – учение этическое и 2) объяснение, почему людям надо жить именно так, а не иначе, – учение метафизическое. Эти две стороны могут быть найдены, по Толстому, во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же и христианская религия: «Она учит жизни, как жить, и дает объяснение, почему именно надо так жить» (23, 437).
Писатель обосновывает эту мысль, сопоставляя христианство с другими религиями. Все религии, за исключением христианской, «требуют от исповедующих их, кроме обрядов, исполнения еще известных хороших поступков и воздержания от дурных» (23, 438). Напротив, христианство, также первоначально носившее моральный характер, ныне, в «церковном варианте», не предъявляет, якобы, никаких этических требований: «Нет ничего, что бы обязательно должен был делать христианин и от чего он должен был бы обязательно воздержаться, если не считать постов и молитв, самою церковью признаваемых необязательными» (23, 438).
Разрыв между «этическим» учением о жизни и «метафизическим» объяснением жизни начался с проповеди апостола Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-каббалистическую точку зрения. Окончательно же осуществился этот разрыв, с точки зрения писателя, во времена императора Константина, когда начались Вселенские Соборы и когда центр тяжести христианства якобы переместился «на одну метафизическую сторону учения».
Писатель не замечает, что его выводы наглядно противоречат известным фактам, например, страстной нравственной проповеди святителя Иоанна Златоуста и других авторов, живших уже в константиновскую эпоху. С точки зрения Л. Н. Толстого, именно христианство в большей степени, чем какая-либо другая из великих исторических религий, утратило составлявшую некогда главную часть – этическое учение. Со времен Константина христианская Церковь якобы «не требовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было» (23, 439).
Впоследствии, в более поздних сочинениях 1880–1890-х гг. Толстой последовательно развивает эти идеи, которые можно назвать этическим анархизмом. Он подвергает критике современные ему социальные и религиозные институты, в том числе государство, Церковь, суд, аппарат власти, культуру. Толстой развивает критику общественного строя, основанного на порабощении большинства меньшинством. В связи с этим он изменяет постановку вопроса о власти. Он не только гораздо подробнее, чем в предшествующих сочинениях, пытается исследовать связь, существующую между властью и насилием. Теперь Толстого занимает главным образом вопрос о власти государственной, и не вопрос о насилии вообще, но о насилии, осуществляемом учреждениями государственными и лицами, представляющими государственную власть. Как бы не менялись общественные формы, повсюду жизнь общества, утверждает Толстой, представляла до сих пор и представляет в настоящее время картину порабощения большинства меньшинством насильников, захвативших власть над большинством.
«Положение нашего христианского мира теперь таково: одна, малая часть людей владеет большей частью земли и огромными богатствами, которые все больше и больше сосредоточиваются в одних руках и употребляются на устройство роскошной, изнеженной, неестественной жизни небольшого числа семей».
(36, 192).
Согласимся, что сегодня эта мысль не менее актуальна.
Писатель отрицает не только государство со всеми его учреждениями и установлениями, отвергает не только всякое насилие, совершаемое государством, но и пытается доказать, что единственным средством радикального уничтожения зла может быть только непротивление злу насилием, т. е. полный отказ от насилия как от средства борьбы с насилием. Оптимальное устроение общества, как полагал Толстой, не может быть достигнуто путем революций и вообще политическим путем. Борьба с современным государством должна вестись ненасильственными средствами, неучастием населения в действиях государства, в том числе в отказе и уклонении от государственных обязанностей. Толстой полагал, что главное отличие «патриархального русского крестьянства» заключается именно в следовании данному принципу.
Наверное, никакое другое положение доктрины Л. Толстого не подвергалось столь уничтожающей критике, как это «ненасилие». Всякий раз, когда кто-то в очередной раз убедительно доказывал, как слаб и примитивен тезис Л. Толстого, почему-то обязательно вспоминался тигр, который в пустыне терзает маленькую девочку, а писателю задавался вопрос: «Неужели вы останетесь безучастны к этой ужасной трагедии?!». Действительно, интересно было бы понять, почему так часто в этой аргументации появлялся именно тигр, ведь тигры в нашей жизни попадаются не на каждом шагу.
Но сейчас, по прошествии уже более ста лет с того момента, как положение о ненасилии было сформулировано Л. Толстым, мы удивляемся тому, насколько именно этот тезис находит в мире все больше и больше сторонников. Вполне возможно, что граф Л. Толстой, «на поверхности» своей личности отвергавший православие, в глубине души все-таки сохранял некоторую связь с верой отцов, для которых всегда было понятно, что зло не является эффективным способом борьбы со злом.
Вторая не-встреча с Достоевским: праздношатайство (1877)Удивительным образом именно Достоевский одним из первых заметил новую тенденцию в творчестве Л. Толстого, которая и привела к кризису, но при жизни Достоевского она окончательно оформлена еще не была. Эта тенденция наметилась к моменту выхода «Анны Карениной», когда в «Дневнике писателя» за февраль 1877 г. появляются первые записи, содержащие размышления о характере Левина (ДПСС. Т. 25. С. 52).
В рамках размышлений писателя о новом романе Л. Н. Толстого важное значение имеет в целом отрицательное отношение Ф. М. Достоевского к идее «опрощения», которая трактуется им как невежливое по отношению к народу и унижающее дворянина «переряживание» (ДПСС. Т. 25. С. 61). Ф. М. Достоевский интуитивно понимал, что искусственная «простота» не есть возвращение к истокам, в том числе христианским истокам, не есть возвращение к преданию Церкви.
«Опрощенчество» Левина связано с поисками веры. Но какую веру находит герой Л. Н. Толстого? Отвечая на этот вопрос, Ф. М. Достоевский подчеркивает: «…вряд ли у таких, как Левин, и может быть окончательная вера», хотя Левин любит называть себя «народом», он продолжает оставаться московским баричем «средне-высшего круга». Именно поэтому люди типа Левина народом никогда не сделаются, более того, по многим пунктам и не поймут народа, потому что, для того чтобы стать народом и обрести его веру, мало сомнения и акта воли, на этом пути к народу препятствием будет то, что Ф. М. Достоевский назвал «праздношатайством», «физическим и духовным», которое всегда будет «народу» видно и понятно. Именно поэтому вера, обретенная Левиным, «долго не продержится» и рухнет при новом приступе сомнений (ДПСС. Т. 25. С. 205).
В духовной сфере идея «опрощенчества» (и связанные с ней идеи непротивления, вегетарианства и т. д.) приносила слишком примитивные плоды. Рождался некий «народный» вариант христианства, который, впрочем, в качестве своеобразного искушения в разной степени тяготел не только над Л. Н. Толстым, но отчасти и над самим Ф. М. Достоевским и даже над К. П. Победоносцевым, что вполне убедительно показывает в «Путях русского богословия» протоиерей Г. Флоровский: критерием истины, в том числе и христианской, часто становится не Предание, а «свое», «народное», «исконное», «мужицкое». При этом сам «народ» не может воспринимать эти барские затеи иначе, как попытку нарядиться в армяк и лапти.
Таким образом, мы можем согласиться с А. Л. Бемом: «С большой проницательностью Достоевский наметил уже в 70-х гг. в религиозно-моральном облике Толстого черты, резко обозначившиеся только позже, уже после смерти Достоевского»[173]173
Бем А. Л. Н. Толстой в оценке Достоевского // О Достоевском: Сб. статей под редакцией А.Л. Бема. Прага, 1929/1933/1936. М., 2007. С. 533.
[Закрыть]. Другими словами, во второй половине 1870-х годов Ф. М. Достоевский, чутко угадывая то направление мысли, которое для Л. Толстого станет наиболее притягательным, заранее предсказал ожидаемый результат: «опрощенчество» в жизни и вере обречено на поражение.
Рассматривая и анализируя религиозную жизнь Л. Толстого, невозможно забыть о том тяжелом семейном фоне, о той семейной драме, которая в значительной (а может быть, и в решающей) степени влияла на состояние духа писателя. Религиозные поиски писателя сопровождаются тяжелым переживанием моральной противоречивости своей собственной жизни. 8 июня 1909 г. он отмечает в дневнике, что жизнь людей его круга, которую он сам вынужден вести, противоречит его же собственным мыслям, изложенным в «Круге чтения»: «…безумная безнравственность роскоши властвующих и богатых и нищета и задавленность бедных» (57, 80). С другой стороны, здесь присутствует отчетливое понимание своего одиночества: «Я чувствую, что ко мне отношение людей – большинства – уже не как к человеку, а как к знаменитости, главное, как к представителю партии, направления: или полная преданность и доверие, или, напротив, отрицание, ненависть» (57, 126).
Незаконченность, неуверенность, зыбкость, которые являлись характерной особенностью психологической конституции писателя, его страстной натуры, склонной к крайностям, совершенно произвольно квалифицировалась им как убедительный показатель истинности своего мировоззрения. И в то же время писатель осознавал, что его духовные поиски не находят поддержки в собственной семье.
И эта особенность Л. Толстого была глубоко подмечена Ф. М. Достоевским.
«Автор «Анны Карениной», несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо иль налево, чтобы разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, заговорят совершенно противоположное, так как во всяком случае они всегда строго искренни. Этот переворот может и совсем не совершиться, но может совершиться и через месяц…»
(ДПСС. Т. 25. С. 175).
Христос и Церковь
«– Конечно, я горжусь тем, что только я один приблизился к правде.
– Господи! и это он называл правдой…»
Из воспоминаний А. А. Толстой о Л. Н. Толстом
Менее чем за три недели до окончательного ухода из Ясной Поляны и ровно за месяц до смерти писатель записывает в дневнике: «Какое страшное кощунство для всякого человека, понимающего бога как можно и должно – признавание одного Еврея Иисуса – Богом!» (58, 115; запись от 7 октября 1910 г.).
Таким образом, Л. Н. Толстой радикально отвергал церковно-догматическую христологию и категорически не признавал Христа Богочеловеком. Но Христос, с точки зрения Толстого, «явил нам Бога» (23, 175) и нравственно един с Богом Отцом (24, 875). «Откровение» Христа – явление богосыновства, которое присутствует в полноте именно во Христе, но возможно для каждого человека (63, 8–9). Христос – человек, но учение его божественно (73, 11).
Мы видим из этих формулировок, возникших в разные моменты жизни писателя, что Личность Спасителя всегда представляла для Л. Толстого крест мысли и загадку. Свидетельства современников об отношении Л. Н. Толстого ко Христу также весьма противоречивы. Складывается впечатление, что это отношение постоянно менялось, как и мысли в дневнике. Например, А. А. Толстая сообщает в своих воспоминаниях, что когда Л. Н. Толстой читал свои любимые стихотворения и «когда в каком-нибудь стихотворении появлялось имя Христа, голос его дрожал и глаза наполнялись слезами… Это воспоминание и до сих пор меня утешает: он, сам того не сознавая, глубоко любит Спасителя и, конечно, чувствует в нем не обыкновенного человека; трудно понять противоречие его слов и его чувства»[174]174
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. С. 35.
[Закрыть].
С другой стороны, в своих воспоминаниях С. Н. Дурылин приводит рассказ М. А. Новоселова, который в 1880-е годы был очень близок писателю. В одной из бесед Л. Н. Толстой «резко и твердо» заявил, что «не желал бы» встретиться с Христом: «пренеприятный был господин»[175]175
Дурылин С. Н. В своем углу: Из старых тетрадей. М., 1991. С. 210.
[Закрыть]. Это поразительное кощунство для слушающих «было так неожиданно и жутко», что сказанное буквально резануло по сердцу М. А. Новоселова.
Итак, в толстовской доктрине Личности Христа отведено совершенно определенное место: она лишена каких бы то ни было мистических элементов. Голос Христа, с точки зрения Л. Н. Толстого – это общее разумное сознание человечества в целом, другими словами, Христос провозглашает истину человеческого разума, разумное учение, Христос является провозвестником закона Бога Отца, Личности Которого, наоборот, Л. Н. Толстой уделяет много внимания, ибо Отец дал людям самое главное – заповеди Нагорной проповеди, фундамент религиозной жизни.
Таким образом, с точки зрения Л. Н. Толстого, учение Христа есть путь разума, противный человеческой глупости, и поэтому вообще христианское учение может быть названо учением «рациональной нравственности», а смысл христианской жизни есть рациональное понимание того, что в жизни является благом[176]176
См.: Steiner G. Tolstoj oder Dostojewskij. München, Wien, 1964. S. 229–230, 236–237.
[Закрыть].
«В наше время только человек совершенно невежественный или совершенно равнодушный к вопросам жизни, освящаемым религией, может оставаться в церковной вере».
(28, 65).
В 1877 г., т. е. в тот самый год, когда уже закончена «Анна Каренина», Толстой излагает исповедание новой, универсальной христианской Церкви, которая, по его мысли, могла бы вобрать в себя старые конфессиональные церкви: «Верую во единую истинную святую церковь, живущую в сердцах всех людей и на всей земле и выражающуюся в знании добра моего и всех людей и в жизни людской» (17, 363). Под такой «церковью» понимается не благодатное сообщество, а отрицающий любую иерархичность абстрактный принцип (23, 224).
Из этого принципа вытекает невозможность выработки каких бы то ни было обязательных для всех догм, или, если говорить в положительном смысле, безграничная открытость этой церкви для людей, не связанных никакой исповедальной формулой. Через единение в любви они приходят ко всё более глубокому познанию религиозной истины. В «Исповеди» Толстой пишет: «Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры» (23, 49).
Толстой связывает концепцию альтернативной церкви с двумя содержательными моментами: с верой в Бога, отвечающей требованиям разума, и с отвечающим Евангелию нравственным поведением. Это «церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага соединенными воедино» (23, 464). Их объединяет не вера в загробное спасение и блаженство и в благодать Евхаристии, а жизнь по заповедям Христовым. Такая церковь отвечала бы современному уровню развития человека. Это будет церковь разума, в которой люди «установят разумное и соответствующее их знаниям свое отношение к Богу и признают вытекающие из такого отношения нравственные обязанности» (34, 317).
«Всё, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, все живое в нашем европейском мире отпало от Церкви и всяких церквей и живет своей жизнью независимо от Церкви. И пусть не говорят, что это – так в гнилой Западной Европе; наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от Церкви, слава Богу, гораздо гнилее Европы. Все живое независимо от церкви».
(23, 440–441).
В конце жизни Толстой скажет, что он, несмотря на свой разрыв с Русской Православной Церковью или, скорей, благодаря этому разрыву, всегда оставался членом этой альтернативной, универсальной и истинной Церкви: «Думаю, что не ошибаюсь, полагая, что я никогда не разъединялся с нею, – не с той какой-либо одной из тех церквей, которые разъединяют, а с той, которая всегда соединяла и соединяет всех, всех людей, искренно ищущих Бога, начиная от этого пастуха и до Будды, Лао-цзы, Конфуция, браминов, Христа и многих людей. С этою всемирною церковью я никогда не разлучался» (78, 178). Относительно будущего церквей Толстой пророчит уничтожение всякого внешнего богопочитания и, тем самым, конец всех институализированных церквей, требующих признания догматов (24, 897).
Третья не-встреча с Достоевским: бессмертие, Воскресение, Церковь«Я сохранил способность изумляться, благодаря которой могу иногда выйти из водоворота вещей и вернуться на свое настоящее место, к внимательной неподвижности. Уже не я, а мир, творение страшно и величественно движется, ошеломляя меня: это повествование, эпопея, спектакль. Стоит приступить к нему с объяснениями, как мы перестанем что бы то ни было понимать».
Э. Ионеско
Мир Толстого и его творчество после духовного перелома отмечены стойкой печатью страха небытия. Этот страх – очень яркая особенность рассказа «Смерть Ивана Ильича». При этом Л. Толстой практически никогда не пишет о вечной жизни и бессмертии, а если такие мысли присутствуют, они носят абстрактно-философскую окраску причастности к Абсолюту, Вечному Началу и т. д. Как справедливо отмечает И. Л. Волгин, если Ф. М. Достоевского больше интересует бессмертие, то Л. Толстого – смерть[177]177
Волгин И. Л. Последний год Достоевского. С. 333.
[Закрыть].
Именно поэтому, во-первых, у Л. Толстого так много подробных и философски окрашенных описаний умирания. Этот интерес к небытию связан, как мы видели выше, с совершенно конкретным эпизодом биографии Л. Толстого – так называемым «арзамасским ужасом». Льву Толстому была дана возможность лично пережить некий мистический ужас, причины которого остались для писателя неведомы, но память о котором он сохранял всю жизнь.
Не будем в очередной раз упражняться в попытках связать этот эпизод с последующей жизнью писателя. Но Арзамас? Ведь это город, который находится в семидесяти пяти километрах от Саровской пустыни, где подвизался преподобный Серафим. Тут сама по себе напрашивается мысль, что таким путем, посредством вмешательства преподобного, Бог пытался Толстого о чем-то предупредить или от чего-то уберечь. Или? Загадка остается.
А что же Достоевский? Ему изначально понятно, что человеческая природа причастна «мирам иным» (ДПСС. Т. 27. С. 85). Человеческое «я» не укладывается в земной порядок вещей, а ищет чего-то другого, кроме земли, «чему тоже принадлежит оно» (ДПСС. Т. 30. I. С. 11). На земле есть только одна «высшая идея» – идея о бессмертии человеческой души, все остальные вытекают из нее. И если эта идея так значительна для человека, для его бытия, то бессмертие и есть нормальное состояние человека и всего человечества, бессмертие души человеческой существует несомненно (см.: ДПСС. Т. 24. С. 48–50).
Трагической конкретности размышления Достоевского о бессмертии достигают после смерти его первой жены, М. Д. Исаевой. Они отразились в записной книжке 1863–1864 гг. (знаменитый отрывок, начинающийся словами: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?»). В этом отрывке Достоевский говорит о человеке как о развивающемся и переходном существе (см.: ДПСС. Т. 20. С. 172). Идеал развития человека на земле Ф. М. Достоевский называет гуманистическим – это идея самопожертвования. Полнота развития человеческой личности – это уничтожение самости, своего «я», отдача его «целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно». Я и все, взаимно уничтоженные друг для друга – вот идеал жизни на земле, который способен дать представление о вечной жизни. «Это-то и есть рай Христов» (там же).
Идея бессмертия человеческой души в христианской постановке тесно связана с идеей Воскресения. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский не могли обойти этот вопрос, и на самом деле он в определенном смысле занимает центральное место в их творчестве, а тема Воскресения является стержнем их последних больших романов.
Толстой никогда не воспринимал Воскресение в соответствии с христианской традицией – именно как трехдневное Воскресение Христа и «сошествие Христово во ад», т. е. «победное явление торжествующего Христа в мире усопших, которым были разрешены “вереи вечные” и “ад упразднися”»[178]178
Софроний (Сахаров), архим. Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2008. С. 46.
[Закрыть]. Факт Воскресения Христова и возможность личного воскресения писателем последовательно и настойчиво отрицаются и отвергаются, в том числе и в его «евангелии» как «грубое суеверие».
Это не просто неверие, а именно принципиальное отвержение, принимающее форму протеста, бунта, борьбы.
«Ни за что не поверю, что Он воскрес в теле, но никогда не потеряю веры, что Он воскреснет в Своем учении. Смерть есть рождение, и мы дожили до смерти учения, стало быть, вот-вот рождение при дверях».
Из письма художнику Н. Н. Ге. (63, 160).
Именно поэтому в целом в творчестве Л. Н. Толстого полностью отсутствуют пасхальные мотивы. Как только в романе «Воскресение» появляется описание пасхальной заутрени, это произведение приобретает какой-то новый, более радостный, светлый оттенок. Толстой может мыслить воскресение как угодно, например, как интеллектуально-нравственный прорыв или как торжество сострадательной любви. Но та работа, которая однажды была проделана им над последними главами Евангелия, принесла свои горькие плоды: из его философского наследства полностью уходит пасхальная радость, пасхальный восторг, пасхальное дерзание.
В этом смысле, если бы князь Мышкин был героем Л. Н. Толстого, а не Ф. М. Достоевского, он вполне мог бы «воскреснуть» подобно Нехлюдову, особенно в Швейцарии. У Достоевского он может только погибнуть. В сущности, Христос Толстого – это и есть князь Мышкин, тоже, между прочим, Лев Николаевич! Носитель идеи любви и сострадания, морального закона, последовательный «непротивленец», он возможен и даже в чем-то убедителен именно в Швейцарии. Вспомним еще раз, с каким недоверием и пренебрежением Достоевский относился к «швейцарским идеям», под которыми в первую очередь понимал чувствительность в духе Руссо. Но Мышкин, которого только обманывают, обворовывают, над которым смеются в лицо или бессовестно издеваются окружающие, абсолютно фантастичен в России, где обречен на смерть и обрекает на смерть (физическую или нравственную) всех вокруг себя. Один из героев романа «Идиот», Келлер, прямо и обвиняет князя в приверженности к «швейцарскому взгляду на человека».
Князь Лев Николаевич Мышкин (вслед за своим учителем, графом Львом Николаевич Толстым) может сострадать и убеждать, но не может «простить грехи грешнице и исцелить безнадежно больного». И если бы он дерзнул на этот шаг, то есть проявил бы энергию и власть, то получил бы строгую отповедь от своего автора и учителя: «Он богохульствует!»[179]179
См. по этому поводу замечательную статью: Касаткина Т. А. «Христос вне истины» в творчестве Достоевского // Достоевский и мировая культура. СПб., 1998. № 11. С. 116–118.
[Закрыть] Утопический путь Мышкина (как и Л. Н. Толстого) – не к преображению падшего мира, а к первозданной невинности: «Князь уверяет безобразных и злых людей, что они прекрасны и добры, убеждает несчастных, что они счастливы, смотрит на мир, лежащий во зле, и видит один лишь “образ чистой красоты”<…> Он хочет спасти мир верой в жизнь и делами любви. Ипполит и Рогожин возражают ему: ни жизнь, ни любовь не спасают – они сами нуждаются в спасении»[180]180
Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 405.
[Закрыть].
«Воскресения» героев Толстого очень неубедительны, у Нехлюдова оно вообще носит какой-то умственно-ходульный характер, что подтверждается мнением А. П. Чехова по поводу финала романа, который в целом писатель оценивал очень высоко.
«Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст Евангелия – это также произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала уверовать в Евангелие, а потом уж решать все текстами».
Из письма А. П. Чехова М. О. Меньшикову // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма. В 12 т. М., 1950. Т. 9. С. 30.
В творчестве Ф. М. Достоевского тема Воскресения является одной из центральных. Здесь, напротив, нужно отметить ту точность и художественную правду, которыми отмечены сцены чтения эпизода о воскресении Лазаря («Преступление и наказание») и ключевые эпизоды романа «Братья Карамазовы»: видение Алеши Карамазова (глава «Кана Галилейская») и финальная глава с мальчиками у камня. И финал «Преступления и наказания» отмечен именно этим противостоянием «рациональной диалектики» и жизненной правды: «Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое» (ДПСС. Т. 5. С. 533).
Именно об этом пишет Л. М. Розенблюм: «Как-то еще до сих пор мало замечается, что Достоевский, на первый взгляд мрачный писатель, необыкновенно умел описывать счастье в те редкие, но прекрасные мгновения, когда “находит Бог человека”»[181]181
Розенблюм Л. «Красота спасет мир»: О «символе веры» Ф. М. Достоевского // Вопросы литературы. 1991. № 11–12. С. 187–188.
[Закрыть]. Поэтому-то сам Достоевский так высоко оценил действительно гениальную сцену – примирение Каренина и Вронского у постели больной Анны.
В этой связи следует сделать еще одно, заключительное замечание. При всем своем часто критическом отношении к русскому духовенству Ф. М. Достоевский сохранил верность глубоко церковному христианскому идеалу. Точнее, он прекрасно понимал, что этот идеал может быть сохранен в первозданной полноте только в Церкви. Такой вывод подтверждается замечательными словами, сказанными о сектантах, которые, критикуя Церковь, призывают разбить сосуд с драгоценной жидкостью, потому что почитание сосуда (Церкви) есть, с их точки зрения, идолопоклонство. С точки зрения сектантского мировоззрения, святая жидкость, а не сосуд, «содержимое, а не содержащее» (ДПСС. Т. 25. С. 11). Но Достоевский понимает, что разбив сосуд, мы расплескаем и жидкость, ибо Церковь – «добытое веками драгоценное достояние» (там же), которое связано теперь с содержимым сущностно и глубинно. Эти слова прямо направлены против Л. Н. Толстого. И в этом понимании Достоевского непроходимая пропасть между ним и Толстым.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?