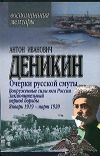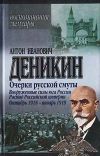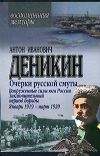Автор книги: Сергей Яров
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Летне-осенняя попытка наступления 1919 г. на частную торговлю не была, однако, последней. Следующий – 1920 год – начался с национализации молочных распределительных пунктов. Спустя две недели Президиум Исполкома Петросовета поручил Отделу управления совместно с Отделом коммунального хозяйства и налоговым отделом, а также ЧК «начать правильную работу по закрытию всех рынков». Решено было начать с Клинского рынка: все ларьки следовало пустить на дрова, а на освободившейся площади устроить детскую площадку.
Однако уже только это одно вызвало, очевидно, довольно сильное недовольство, ибо спустя месяц «Петроградская правда» писала: «То и дело приходится слышать такие слова: „Окончательно хотят заморить голодом, негде будет купить фунта картошки, негде будет достать фунта мыла и т. д. и т. п.“ К сожалению, точно такие же слова пишущему эти строки приходилось слышать от людей, именующих себя коммунистами. Неужели эти товарищи до сих пор не могут понять, какой вред приносят рынки?.. В переживаемый трудный момент ни один фунт какого бы то ни было продукта не должен пройти мимо наших продовольственных органов, все должно идти на улучшение нашего коммунального котла, а не для изысканных блюд отдельным группам. Этого мы можем достигнуть только уничтожением этих гнезд бесшабашной спекуляции»[766]766
Там же. 1920. 25 февраля.
[Закрыть]. Тем не менее «правильная работа» по уничтожению названных гнезд все же затягивалась. На Клинском рынке еще и в начале марта продолжала вестись торговля. Правда, за это время успели закрыть частные мебельные магазины, а покидающим пределы Советской России горожанам предписать продажу своего добра только Петрокоммуне. В очередной раз судьба частной торговли и рынков решалась на заседаниях Большого Президиума Петросовета 30 апреля и 2 мая 1920 г. Детальная проработка операции была поручена Бадаеву, Равич и Трилиссеру. 7 мая Президиум вернулся к этому вопросу. Присутствующие считали, что в городе существует около 30 000 различных частных заведений (в том числе 8000 из них получили разрешения за последний год-полтора). Было решено, что 20 мая все эти заведения будут закрыты. На следующий день в это решение было внесено небольшое дополнение – все закрытые магазины «в кратчайший срок разгрузить»[767]767
ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 4. Д. 55. Л. 4, 8.
[Закрыть].
Начальник Отдела управления С.Н. Равич подготовила соответствующий приказ: «1. Управлению Петроградской РабочеКрестьянской Советской Милиции 25 сего мая опечатать все частные магазины, рынки, мастерские отдельных кустарей, мелких промышленников, кустарно-кооперативных объединений, как производящих непосредственно торговлю своими изделиями, так и не производящих… не подлежат опечатыванию временно магазины цветочные и оптические… 3. Воспретить 25 мая в течение всего дня перевозку частных товаров из магазинов, рынков и мастерских»[768]768
Там же. Ф. 7384. Оп. 9. Д. 405. Л. 50.
[Закрыть].
По своим масштабам задуманная операция была колоссальной. С проведением ее у городских властей что-то не заладилось с самого начала. 4 июня С.Н. Равич пришлось выступить с объяснениями на заседании Большого Президиума. Ей дали недельный срок для завершения. Секретарь Исполкома Петросовета Д.А. Трилиссер разослал соответствующие телеграммы в районные комиссии по частной торговле[769]769
Там же. Ф. 1000. Оп. 4. Д. 56. Л. 170, 182.
[Закрыть]. Весь июнь, судя по всему, подготовительные работы продолжались и, вероятно, не остались незамеченными со стороны предполагаемых объектов репрессалий. По крайней мере, собрание торговцев Кузнечного рынка решило пожертвовать в фонд «недели помощи Западному фронту» полмиллиона рублей. Когда все же приступили к закрытию рынков, остается неясным, так как 22 июля 1920 г. Большой Президиум вынес решение на обращение торговцев о возвращении им инвентаря и открытии вновь рынков: «Рынки должны быть закрыты»[770]770
Там же. Д. 57. Л. 213.
[Закрыть], но, по официальным сообщениям, сама операция началась лишь через неделю после этого решения.
Дальнейшее развитие событий было логически объяснимым. 29 июля новый председатель Петрокоммуны А.С. Куклин заявил, что считает продовольственное положение города неустойчивым. Имеющихся продуктов хватит только до 2 августа, и поэтому хлебный паек будет сокращен, как и нормы отпуска обедов в коммунальных столовых[771]771
Петроградская правда. 1920. 29 июля.
В повести «Возвращение Мюнхгаузена» Сигизмунд Кржижановский вложил в уста главного героя следующую фразу: «…питательные пункты, организованные правительством Советов, не могли бороться со стихией голода: пункты раздавали по маковой росинке на человека, чтобы никто не мог сказать, что у него росинки во рту не было; это предотвращало ропот, но оставляло желудки пустыми».
[Закрыть].
На следующий день Отдел управления приступил к закрытию всех магазинов, ларьков и частных мастерских. По словам С. Равич, для этого задействовали 17 000 человек (10 000 коммунистов, 3000 красноармейцев; кто были остальные 4000 – неясно). Задержанных торговцев отправляли в «распределительные карательные пункты».
Сама операция проводилась несколько дней. 2 августа Отдел управления провел специальное заседание «по разрешению вопроса о приемке запечатанного в магазинах товара и передаче его в учреждающиеся в настоящее время государственные магазины»[772]772
Там же. 1920. 3 августа.
[Закрыть]. А уже 3 августа Исполком Петросовета принял постановление: «Восстановить нормы продовольственного пайка, существовавшие до 1 июля с. г.» Тем самым давалось понять, что власти достигли своих целей. В конце августа Равич на заседании Петросовета заявила: «Частная торговля более не существует. Тем не менее и в настоящее время наблюдается уличная торговля кучками. Борьба с этими последними попытками поручена исполкомам районных советов».
Выступивший после нее представитель Петрокоммуны с гордостью сообщил о том, что «разгружено 5730 (sic!) магазинов», при этом (вероятно, к немалому изумлению присутствовавших) добавил: «…в закрытых лавках и на рынках обнаружено такое ничтожное количество продуктов, что смотреть на эти лавки и рынки как на серьезную подмогу продовольственного кризиса ни в коем случае нельзя»[773]773
Там же. 1920. 21 августа.
[Закрыть]. Тем самым столь крупномасштабная операция и вовсе лишалась какого-либо смысла. Даже более простое дело, чем ликвидация «спекуляции и частной торговли» – проведение описи содержимого закрытых торговых заведений – затянулось как минимум до конца октября. Представить себе, что у каждого из нескольких тысяч закрытых заведений приставили круглосуточную охрану, невозможно. Борьба же с «последними попытками» оказалась еще более трудной. Большой Президиум 4 декабря 1920 г. в очередной раз предложил Отделу управления «периодически производить облавы и энергично бороться со спекуляцией»[774]774
ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 4. Д. 60. Л. 1.
[Закрыть]. Наличие диссонанса между «периодичностью» и «энергичностью» в Большом Президиуме определенно не улавливали.
Настойчивое стремление городских властей ликвидировать рынки и уличную торговлю вызывалось не только необходимостью воспрепятствовать широко распространенным хищениям на фабриках и заводах, из государственных распределительных пунктов и складов, на железной дороге. Определенно, это стремление обусловливалось и желанием устранить тот слишком неприятный для властей контраст между становящимися все более скудными муниципальными обедами и пайками – с одной стороны, и довольно бойкой торговлей на рынках и улицах – с другой. Содержание корзинки разносчика или лотка рыночного торговца пусть частично, но вступало в противоречие с постоянными сетованиями городских властей на сложности с общей экономической ситуацией и волей-неволей ставило под вопрос их расторопность в деле снабжения городского населения.
Следует, однако, заметить, что петроградским властям не хватило понимания того, насколько выгодно сохранение этого контраста при наличии крайне тяжелых экономических условий в стране и при разрухе на транспорте. Этот контраст делал существующую власть до некоторой степени необходимой, позволял ей самой об этом говорить, и горожанин не возражал против необходимости ограничения свободы торговли, контроля над ней. Полное же устранение рынков и уличной торговли уничтожало тот компромисс, который был достигнут между жителями и городскими властями. Глухой ропот недовольства в течение двух лет не перерастал в открытые политические акции именно потому, что горожанин сознавал ограниченность возможностей властей и принимал как должное предоставление ему возможностей в деле собственного жизнеобеспечения. Однако теперь эти возможности у него отбирались; тем самым городская власть обязывалась в понимании горожанина нести ответственность за его выживание в полном объеме. На словах городская исполнительная власть вроде бы была готова к этому, но ближайшие месяцы показали, что фантазиям дают разгуляться даже тогда, когда неприкосновенные запасы терпения уже исчерпаны. Июльская акция 1920 г. могла бы напомнить историю с одним литературным героем, отвинчивавшим гайки на железной дороге, если бы не походила более на месть за собственное бессилие, а месть редко заставляет думать заранее о последствиях.
С.В. Яров
Политические настроения горожан

Революция: за и против
Уловить нечто постоянное в частой смене настроений, поступков, чувств, взглядов петроградцев пореволюционной эпохи – дело трудное. Сложно выяснить, где кончалось индивидуальное и начиналось массовое, где выявлялось самостоятельное размышление, а где повторялось заученное с чужого голоса, что имеет отпечаток краткого аффекта и где неоспорима прочность убеждений. Это присуще всем временам, но эпоха распада и хаоса придала мыслям людей особую переменчивость и обостренность.
Осень 1917 г. – это время психологического надлома русского общества. «Весна русской свободы» с ее экзальтацией, необычной речью, обусловленной не политикой, а этикой, с ее театральностью политических манифестаций в одночасье стала анахронизмом. Революция не показала того, что в ней пристальнее всего стремились разглядеть, – чудодейственный дар. Она быстро обнажила изнанку свободы, но многие не были способны трезво признать «рутину» революции, ее немощь, ограниченность и произвол.
Приближение катастрофы – это чувствовали и об этом писали многие, независимо от их взглядов. Катастрофа стала признаком и символом общей душевной смуты. Здесь сказалось все: и разрушение старого порядка, и экономический хаос, и политическая разноголосица. Новому не было привычных объяснений: прежние представления о нем оказались иллюзорными. Предчувствие катастрофы – это и одна из ипостасей апокалиптичности, определяемой не только государственным упадком, но и началом духовного переосмысления, «пересчета» эпохи.
Перемена политических симпатий в обществе, столь заметная уже к осени 1917 г., произошла не сразу и не прямо. Ее ускорило смещение Корнилова – но не только это. Корнилов был устранен, но инерция антикорниловского движения осталась, придав особую силу всем оппозиционным действиям сентября 1917 г. Эйфория победы над Корниловым плохо сочеталась с той рутиной государственного существования, которая вновь воцарилась тотчас же после ликвидации мятежа. По-прежнему ничего или почти ничего не делалось – ни в политике, ни в экономике. Керенскому уже мало верили – но это еще не означало одобрения большевизма.
Керенский являлся не просто политическим лидером. Он был прочно спаян с той системой идеологических ценностей, которая стала объектом едва ли не ритуального поклонения после Февраля. Он воплощал в себе эту систему – своим экзальтированным демократизмом, революционной риторикой, манерами. Отчасти и поэтому переход к большевистскому радикализму не был легким. Отчаяние, политическая апатия, отсутствие былой восприимчивости к революционным символам – все это приходило исподволь и составляло неизбежный промежуточный этап в большевизации масс.
Отношение к Керенскому особо резко обозначилось собственно уже после переворота: кто-то делал политический выбор, кто-то размышлял о прошлом, стараясь понять то, что случилось. «Все указывали, что при непопулярности правительства в стране лучше о нем не вспоминать»[775]775
Станкевич В.Б. Воспоминания. 1914–1919 гг. Л., 1926. С. 138.
[Закрыть], – вот что писал об этих днях В.Б. Станкевич, политик, весьма далекий от большевизма. Неприязнь к коалиционному правительству была почти единодушной[776]776
Суханов Н.Н. Записки о революции. Кн. 3. М., 1992. С. 271; Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. М.; Л., 1927. С. 315; Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. М., 1957. С. 463; Листовки петроградских большевиков, 1917–1920, Т. 3. Л., 1957. С. 121–122; Новая жизнь. 1917. 31 октября; Соболев Г.Л. Пролетарский авангард в 1917 году. Л., 1993. С. 237.
[Закрыть]. Этого не объяснить ни запальчивостью мемуариста, ни искусной манипуляцией историческими источниками. Люди высказывались сразу же, едва утих шум выстрелов в Зимнем – и говорили торопливо, со злобой, то прибегая к «партийному» языку, то пользуясь уличным жаргоном – но однозначно. «Левые» резолюции и воззвания здесь более известны – тем символичнее, что многое из них было повторено едва ли не в унисон и правыми. Очень показательны дневниковые записи одного из чиновников министерства финансов, относящиеся к октябрю-декабрю 1917 г.
По ним можно определить, какую репутацию имел министр-председатель у «буржуазной» публики в конце своего поприща. Редкая запись обходится без прямых оскорблений свергнутого премьера. Оценки чиновника почти не мотивированы, но по ряду признаков можно догадаться, как они возникли. Примечателен уже едкий комментарий к воззванию А.И. Коновалова с призывом «Спасайте родину, республику и свободу»: «Забыли упомянуть о революции и ее спасении и углублении»[777]777
Русская революция глазами петроградского чиновника. Дневник 1917–1918 гг. Осло, 1986. С. 15.
[Закрыть]. Тут явно обнаруживается аллергия, которую тогда уже вызывала у многих революционная фразеология. Демократическая риторика даже воспринималась острее, чем маскируемое ею безвластие, неприятием которого была продиктована другая дневниковая запись: «Керенский опять занимался произнесением речей в Царском Селе»[778]778
Там же. С. 21.
[Закрыть].
И все же политическое поведение масс в октябре 1917 г. не было двухполюсным. Все было перемешано. Неприязнь к Керенскому выражали люди, не питавшие симпатии к большевикам. Одобрение большевиков не означало готовности к «выступлению». И что очень важно, протест против правительства не всегда был политическим. Выбирали зачастую не программы, которые отличались в массовом восприятии лишь степенью радикализма, а средства, которыми могли быть достигнуты программные цели.
Здесь, возможно, одна из причин (хотя и не главная) той апатии к грядущему «выступлению», которая была замечена в середине октября даже большевистскими лидерами. Идеологическое противостояние враждующих сторон в октябре 1917 г. было во многом иным, нежели перед Февралем. Приемы идеологической защиты самодержавия были очевидно обветшалыми, застывшими, дискредитированными. Им противостояла тогда сумма политических представлений, близких массам прежде всего «культурно», т. е. использовавших их язык, утилитарную логику их общественных оценок, наконец, эгалитаризм – недаром почти все антимонархические программы были буквально пронизаны социализмом, правда, разных оттенков.
Не так было осенью 1917 г. И большевики, и Керенский пользовались одинаковыми политическими клише, аргументацией, ключевые блоки которой неизменно включали «защиту и продолжение революции», «борьбу за свободу», «пресечение происков черносотенцев» и т. д. Несколько иной идеологический язык обнаружил Корнилов – и этот лингвистический сигнал был осознан даже быстрее политической угрозы, ибо был непосредственным признаком «чужого».
Историки уже не раз обращались к протоколу заседания ПК РСДРП(б) 15/28 октября 1917 г. Здесь большевики говорили о политическом самочувствии масс накануне «выступления» – неуверенно, то подбадривая себя, то с пессимизмом – но откровенно. Почти текстуально совпали выступления представителей Рождественского района («Если будет выступление со стороны контрреволюции, то отпор дадим, но если будет призыв к выступлению, то не думаю, чтобы рабочие выступили»)[779]779
Первый легальный Петербургский комитет. С. 314.
[Закрыть] и профсоюзов («Если будет наступление со стороны контрреволюции, то отпор будет дан, а сама масса в выступление не пойдет»)[780]780
Там же. С. 315.
[Закрыть]. Это уже симптом, он говорит о большем, нежели позднейшие арифметические подсчеты голосов «оптимистов» и «пессимистов» на этом заседании.
В речах «пессимистов» прослеживается даже какая-то монотонность. «Общая картина – стремления выйти нет», «настроения выйти на улицу у рабочих нет», «выступить настроения нет» – таковы были донесения из различных районов[781]781
Там же. С. 313–315.
[Закрыть]. Иные из ораторов предпочли и вовсе уклониться от четких оценок: «Настроение чрезвычайно сложное», «настроение трудно учесть»[782]782
Там же. С. 313.
[Закрыть]. Но прислушаемся и к речам «оптимистов». В них сразу же замечаешь одну особенность – оговорки по поводу готовности «выступить». Где-то это обусловлено особым влиянием РСДРП(б), где-то социальным расслоением рабочих, а где-то – и маскировкой предстоящего переворота «советской», не большевистской вывеской[783]783
Там же. С. 314–315.
[Закрыть].
Несомненно одно. Всеобщее недовольство существующим порядком не принимало экстремистские, «маргинальные» формы. Иногда (как в свое время Н.Н. Суханов)[784]784
Суханов Н.Н. Указ. соч. С. 271.
[Закрыть] объясняют это памятью об июльской катастрофе. Эта память, думается, сохранялась скорее у активистов и партийных политиков, нежели в низах, где с трудом разбирались в десятках версий июльских событий. Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев были отчасти правы, когда утверждали, что настроения выступать «нет даже на заводах и в казармах»[785]785
Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). М., 1958. С. 91.
[Закрыть]. И трудно выяснить, где обнаруженная апатия масс имеет своим источником исключительно «октябрьские» условия, а где лишь ярче проявилась (ввиду усиленной вербовки для «выступления») давняя и прочная традиция политического равнодушия многих слоев общества. Простое разделение этих двух явлений почти невозможно. Одно маскировалось другим либо совмещалось и сливалось с ним.
Пореволюционный Петроград очень точно отразил амплитуду общественных настроений, колебаний и ожиданий того времени. Большевистское «выступление», сначала малоприметное, не вызвало ни 24, ни 25 октября сколько-нибудь заметного всплеска городской среды. Правда, все необычное – разведение мостов, перекрытие улиц, остановка трамваев – собирало толпы людей. Слухи заполнили город. Мало кто что-либо знал точно, но общим было мнение о недолговечности нового режима.
Недовольство стало нарастать исподволь, его укрепляли мелкие стычки и расширяли слухи. Ожидания анархии и погромов, привычные для любого переворота, возникли и здесь. Грабежи, обычные для того времени, уже связывали с «выступлением». Все пришло в движение. Художник К. Сомов, зашедший к своему знакомому 31 октября, нашел его в «большой ажитации»: «…животный страх… слухи, буржуазные настроения, т. е. только страх и ужас»[786]786
Константин Андреевич Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С. 183.
[Закрыть]. Насилие было еще «политическим», а не «бытовым» – но «на улицах, в трамваях, в общественных местах говорили только о событиях»[787]787
Суханов Н.Н. Указ. соч. С. 345.
[Закрыть]. Полюса неприязни поменялись. В эмоционально и психологически неустойчивом русском обществе болезненно воспринималось все, что хотя бы издали напоминало прежний режим. Новая жизнь началась для горожан не с великих перемен, а с «водворения порядка», причем в формах, памятных по царским временам.
В обществе, раздираемом конфликтами, ненависть, отчаяние, нищета, усталость – все искало своего выхода. Всегдашняя готовность к оппозиции обнаружилась мгновенно. Враг стал осязаем, предметен, видим. Краткое, быстро пошедшее на убыль антибольшевистское движение на улицах 27–30 октября – реакция скорее не на идеологию и не на политические прокламации победившей партии, а на ее практику: на закрытие газет, разгром типографий, пресечение демонстраций. Разумеется, вспыхнувшая борьба обрела идеологическое обрамление, вернее пропагандистские клише в ней использовались как эффективный инструмент. Ситуация к 27 октября стала более ясной, позиция различных партий – отчетливой. И пришла в движение ориентированная на партии «политизированная» публика – постоянные участники всевозможных митингов, собраний и манифестаций. У здания городской Думы стояла большая толпа, произносились речи. При выстрелах люди разбегались, прячась в подъездах домов и в колоннаде Гостиного Двора, потом собирались вновь. Каждое протестующее слово одобряли, любой призыв находил отклик. Оглядывались, боялись солдат – и с надеждой ждали от них поддержки. Матроса, защищавшего перед Думой Керенского, «слушавшая оратора публика подняла… на руки с криками „Ура!“, стала… качать»[788]788
Новая жизнь. 1917. 29 октября.
[Закрыть]. «Город зашевелился… – писал один из очевидцев тех дней. – Новое правительство не нашло сочувствия среди горожан. Напротив, к нему отнеслись резко отрицательно, враждебно. Злобой дышали лица и разговоры, когда заходила речь о большевиках. То и дело вспыхивали словесные стычки на улицах…»[789]789
Там же.
[Закрыть] Все стало хаотичным. Люди присоединялись к митингующим и отходили, нападали на патрули и спасались бегством от пуль. «Толпа, чернь, гарнизон – бессознательны абсолютно и сами не понимают, на кого и за кого они идут…» – записывает в дневнике 29 октября З. Гиппиус[790]790
Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914–1919 // Живые лица. Тбилиси. 1989. Т. 1. С. 388.
[Закрыть].
Вскоре все захлебнулось. Подавление юнкерского восстания, откат войск Керенского, разговоры об однородном правительстве, ослабившие на время партийную междоусобицу, – многое способствовало этому. Очевидцы не разглядели лиц участников событий, это неслучайно. Уличный протест 27–29 октября – это движение плохо управляемой, аморфной массы, слабое и обреченное. Отражало ли оно пульс всего Петрограда, заявляло ли о том, о чем думал всякий в те дни, – сказать трудно. Несомненно, большая часть горожан не мешала большевистскому перевороту, за Керенским шло очень мало людей. Отсутствие широкого протеста – следствие разных причин, и не только политических. Непросто говорить и о свидетельствах, запечатлевших «революционный восторг» в октябре 1917 г. Многим из них позднее без достаточных оснований был придан политический оттенок. Отказ низших служащих бастовать (едва ли политическое решение) рассматривалось как одобрение переворота. Заявление верхушки профсоюзов выдавалось за мнение всей профессиональной группы. Пробольшевистские заводские резолюции (из коих особо сомнительны единогласные) оценивались как точное отражение настроения рабочих.
Разумеется, проблема «октябрьских» симпатий масс неизмеримо сложнее. Желание изменить жизнь к лучшему, приблизить «настоящий день» было всеобщим и широким – это несомненно, и видно сразу, едва касаешься подлинных документов той эпохи. Но существовали и особые политические ритуалы в послефевральской России. Низовые устремления были оформлены партийными резолюциями, каждая из которых по-своему их «углубляла» и видоизменяла, дополняла десятками политических оговорок, обусловленных тактическими приемами борьбы. Элементарный низовой протест, едва возникнув, сразу же облачался в идеологические одежды, шлифовался, переводился на другой язык и направлялся как оружие против политических врагов. Разглядеть под этими наслоениями первичное движение очень трудно – ведь и сами массы пользовались предложенными им клише, унифицируя ими свои неотчетливые и аморфные политические представления.
Что несомненно – это то, что стиль простых, насильственных и волюнтаристских решений широко практиковался в низах, даже политически равнодушных. Можно спорить, принимался или нет политический большевизм, но экономический проводился наполовину стихийно – тому есть веские доказательства. Сам его дух возникал из повседневных производственных стычек, житейских неурядиц, его в полной мере можно назвать порождением низов[791]791
Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде (1917–1920 гг.) Л., 1958. Т. 1. С. 34–35; Петроградский военно-революционный комитет. Документы и материалы. М.; Л., 1967. Т. 3. С. 136, 145.
[Закрыть]. Доставленное в ноябре 1917 г. в Петроградский ВРК письмо одного из обывателей – это тот же большевизм, правда, мелкий, не претендующий на «политику», ограниченный лишь чайными и рынком. «Имеем честь донести Вам о мародерстве и скрытии товаров», «целый вагон картошки скуплен и хранится внизу чайной, а бедному люду 1 фунт взять негде», «господин гражданин еще оповестите население правилом, чтобы домовые комитеты не брали большие цены с обывателя»[792]792
Петроградский военно-революционный комитет. М., 1966. Т. 2. С. 461.
[Закрыть] – это ведь писалось не под принуждением и едва ли объяснимо влиянием прокламаций.
Многие отвергали большевизм – не принимая его этику, из-за партийных обид, по личным причинам. Но везде ощущалась подсознательная тяга к большевизму – в поисках «врагов революции», насаждении социалистической кастовости, отторжении всего несоциалистического: газет, партий, вождей. Требование однородного социалистического правительства ведь неслучайно. Это один из симптомов той болезни послефевральской демократии, которая затем погубила и ее саму – инерция «отторжений» оказалась неостановимой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?