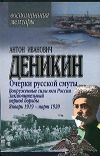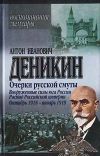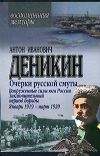Автор книги: Сергей Яров
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
По обе стороны баррикад
Определить истоки, границы и сущность политического недовольства в октябре-ноябре 1917 г. можно лишь условно и приблизительно. В этом еще раз убеждаешься, изучая забастовки «саботажников», столь шумные в первые недели после переворота. Забастовки возникали не только как следствие политического неприятия большевиков. Это была и реакция на революционный язык новых властей, их жесткий политический стиль, вмешательство в работу учреждений. Чиновник МИДа В.Б. Лопухин, упоминая о забастовке в министерстве, писал: «Безо всякого предварительного сговора, совершенно стихийно назрело решение большинства служащих не оставаться на службе при большевистском правительстве. И не по одному нашему ведомству, но и по другим… Внушенный чиновникам страх и нанесенная обида – являлись главнейшими стимулами воздержания служащих от сотрудничества с новой властью»[793]793
Лопухин В.Б. После 25 октября // Минувшее: Ист. альманах. 1990. № 1. С. 14–15.
[Закрыть]. Но это «культурное» отторжение от большевизма тесно переплелось с обычной бюрократической реакцией на государственный переворот. Чиновники боялись административных кар за сотрудничество с властью, в чьей скорой гибели мало кто сомневался. Первая волна забастовок началась с 26–27 октября, и ее в целом можно назвать политической. Через несколько дней ряды бастующих стали быстро покидать низшие служащие. Они менее, чем высшие чиновники, были связаны ритуалами бюрократического поведения, меньше понимали политическую риторику и слабо реагировали на нее, их действия имели скорее бытовой, чем идеологический подтекст. И вряд ли оправданно искать в их поступках некую политическую корысть.
Вторая волна забастовок началась в ноябре. И здесь она имела оттенок политической оппозиционности. Но основная причина ее – столкновение с новыми большевистскими комиссарами по различным производственным вопросам. Такие стычки только post factum, в соответствии с традицией, получали политическую окраску. Зачастую эти «политические» забастовки прекращались в результате неприкрытого торга, где о политике старались не вспоминать. В данной связи уместно вспомнить ситуацию в типографии «Новое время», в которой, по сообщению ее комиссара, из 550 человек «только 150 высказалось за Советскую власть»[794]794
Петроградский военно-революционный комитет. Т. 3. С. 319.
[Закрыть]. Об этом говорилось на заседании Петроградского ВРК 24 ноября 1917 г. Далее в отчете о заседании мы читаем: «Товарищ комиссар высказывает уверенность, что, если выдать аванс в 4000 руб. – большая часть рабочих выйдет на работу»[795]795
Там же.
[Закрыть].
И забастовки, и другие оппозиционные акции в конце 1917 г. в первую очередь были вызваны сугубым экстремизмом новых властей. Политическое недовольство здесь вторично, на первом плане – столкновение различных интересов, экономических и профессиональных. Примеры многообразны. Возьмем резолюцию собрания Петроградского общества заводчиков и фабрикантов 22 ноября 1917 г. Промышленники выступали против рабочего контроля, заявляя, что «русский пролетариат, совершенно не подготовленный для руководства чрезвычайно сложным механизмом промышленности, неминуемо своим решающим вмешательством приведет эту жизненную отрасль государства, уже потрясенную в своих основаниях, к быстрой гибели»[796]796
Рабочий контроль и национализация промышленных предприятий Петрограда в 1917–1919 гг.: Сб. документов. Л., 1947. Т. 1. С. 257.
[Закрыть]. Лишь в конце мы читаем несколько строк о власти, «не преследующей в своей деятельности государственных целей и не признанной большей частью населения России»[797]797
Там же.
[Закрыть]. Забастовка служащих Государственного Банка в середине ноября 1917 г. прямо связана с попытками большевиков получить крупную денежную ссуду. В воззвании, которое выпустили по этому поводу служащие банка, на первом месте – не политическое осуждение, а резонное замечание о том, что «банк и при царском режиме не отпускал никаких сумм безотчетно»[798]798
Новая жизнь. 1917. 16 нояб.
[Закрыть]. И даже протесты печатников были вызваны не только ущемлением «свободы печати».
Закрытие газет, конфискация их тиражей и секвестр типографий создавали реальную угрозу заработкам рабочих.
Еще более запутанным и сложным представляется определение политического пульса интеллигенции. Русский интеллигент встретил революцию со смешанным чувством недоумения, раздражения и равнодушия. Революция предстала перед ним с варварской стороны – обстрелом Зимнего дворца и разрушением Кремля, непривычной «низовой» речью новых правителей, погромами, насилиями, запретом печати, цензурой, и, наконец, прожектами Наркомпроса. И здесь первичным было культурное отторжение. Культурная неприязнь определяла код политической неприязни. «Порыв и увлечение заняли доминирующее место, – таким языком описывал впоследствии актер Ю.М. Юрьев свое отношение к послеоктябрьским эксцессам, – можно сказать, они играли тогда руководящую роль и, таким образом, вековой культуре не только театра, но и культуре всех искусств грозила несомненная, очевидная опасность. Многие из нас именно так воспринимали развивавшиеся события, и именно подобное (пусть субъективное) восприятие проблем культуры и искусства диктовало нам те или иные… поступки»[799]799
Юрьев Ю.М. Записки. М.; Л., 1956. Т. 2. С. 242.
[Закрыть].
Октябрьская междоусобица, столь возмутившие интеллигентов «штыки»[800]800
Лапшин В.В. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М., 1983. С. 212.
[Закрыть] побудили их более открыто и отчетливо выступить против радикализма. В революционном акте часть интеллигенции увидела знак культурного «опрощения» России. Никогда не умолкавшие споры о цивилизованности страны и ее готовности к переворотам вспыхнули с новой силой. М. Горький выразил мнение многих, заявив в те дни о том, что «в современных условиях нет места для социальной революции, ибо нельзя же, по щучьему велению, сделать социалистами 85 % крестьянского населения страны, среди которых несколько десятков миллионов инородцев-кочевников»[801]801
Горький М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 182.
[Закрыть]. Добавим к этому, что многие интеллигенты были политически ориентированы на социал-демократизм, причем не большевистского, а умеренного толка. Для них положение о постепенном «стадиальном» движении к социализму давно уже стало общеупотребительным каноном. Типичным для этой среды представляется признание известного меньшевика О. Ерманского, писавшего в 1927 г.: «…в лозунгах… выброшенных большевиками, я усматривал оппортунистическое приспособление к иллюзиям политически неискушенных пролетарских и особенно солдатско-крестьянских масс… Я полагал, что в данных условиях возможна революция демократическая, с глубоким социальным содержанием, но не социалистическая…»[802]802
Ерманский О.А. Из пережитого (1887–1921 гг.). М.; Л., 1927. С. 182.
[Закрыть] Эти отчеканенные в жесткие формулы, накрепко заученные расхожие партийные клише, прямо перекликаясь с «культурной» неприязнью интеллигента к революции, теоретически оформляли его непосредственные впечатления.
Антибольшевистские настроения интеллигенции зачастую изучаются по документам, представляющим скорее административную, «верхушечную» реакцию государственных учреждений или общественных Союзов на непризнанную и «самозванную» власть. Разумеется, оппозиционные резолюции учительских, студенческих, медицинских и прочих организаций и учреждений[803]803
Воспоминания главного комиссара Врачебно-санитарного отдела Военно-революционного комитета М.И. Барсукова // Донесения комиссаров Петроградского Военно-революционного комитета. М., 1957. С. 246–251; Федотова З.Ф. Борьба большевиков Петрограда против контрреволюционной деятельности Всероссийского Учительского Союза // Питерские рабочие в борьбе с контрреволюцией. М., 1986. С. 205.
[Закрыть] возникли неслучайно. Но зачастую они не только оформляли «низовые» устремления, но и как бы создавали их. Они устанавливали обязательный канон политического поведения в определенной группе, ставший и одной из ипостасей традиционного профессионального поведения.
Отметим и другое. Нередко сигналом к политической демонстрации служил не столько политический акт, сколько административное действие, нарушающее групповые ритуалы. В этом отношении показательны забастовки петроградских театров в конце 1917 г. «Назначенный на место Головина[804]804
Ф. Головин – комиссар Временного правительства над б. Министерством императорского двора и уделов.
[Закрыть] бывший помощник режиссера в Суворин[ском] театре прислал труппе строгий приказ, чтобы они не смели прекращать спектакли. Никто раньше об этом и не думал, но, получив в дерзкой форме такой приказ, труппа взяла да и отменила нынешний спектакль», – записывает 28 октября 1917 г. в своем дневнике хорошо знавшая Александринский театр писательница С.И. Смирнова-Сазонова[805]805
Советский театр: Документы и материалы. Русский советский театр. 1917–1921. Л., 1968. С. 227.
[Закрыть]. Пресловутое комиссарское предписание – яркий пример того языка, на котором говорили с «саботажниками» и который в данном случае забыли сменить или хотя бы облечь в приемлемую форму: «Всякое уклонение от выполнения своих обязанностей будет считаться противодействием новой власти и повлечет за собой заслуженную кару»[806]806
История советского театра. Л., 1933. Т. 1: Петроградские театры на пороге Октября и в эпоху военного коммунизма. С. 93.
[Закрыть]. Сохранившийся протокол упомянутого заседания труппы показывает, каким непростым было решение театра бастовать. Актеры колебались, шли на компромиссы, предлагали сделать протест условным. Но едва один из них, предложив сотрудничать с комиссаром, как-то неловко и явно невпопад сообщил, что «если бы он привел на собрание комиссара, то члены собрания не так бы реагировали на его слова», – зал огласили крики: «долой», «вон», «провокатор», «он нас запугивает»[807]807
Советский театр. С. 222–223.
[Закрыть]. После этого нетрудно понять, какой отклик вызвала у артистов обещанная комиссаром «заслуженная кара». Повторим, поводов для недовольства в театральной среде было достаточно, но лишь малая их часть может быть отнесена к политическим. Устройство митингов в помещениях театров, смещение прежних управляющих, нападки на автономию – все то, что в одночасье рождало протест, собственно и не выходило за пределы театрального мира и имело мало соприкосновений с политическими страстями пореволюционного Петрограда.
Разумеется, в те дни можно обнаружить интеллигентскую реакцию и с более приметным идеологическим оттенком. Причиной политических споров тогда служили не прямые действия властей, а лишь «декларации о намерениях». Но и в данном случае первопричина конфликта оставалась прежней – стремление властей усилить государственный контроль над различными сферами духовной жизни и, в частности, искусства. Это вызывало живейший и, заметим, почти единодушный протест интеллигенции. «Моя революция» – так называл Октябрь В. Маяковский[808]808
Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. М., 1955. Т. 1. С. 25.
[Закрыть], но даже и для него переворот не сразу стал личным делом. Послеоктябрьские тактические ходы «Союза деятелей искусств» (к которому и тяготел В. Маяковский) – яркая иллюстрация взаимоотношений художника и власти в революции, свободная от «хрестоматийного глянца», столь ненавистного поэту.
В ноябре 1917 г. Союз деятелей искусств (СДИ) рассматривал несколько предложений А.В. Луначарского о сотрудничестве с Наркомпросом. Все они были отвергнуты. Особо примечательно заседание Временного комитета уполномоченных СДИ 17 ноября. Несмотря на наличие в Союзе трех блоков – «правого» (Ф. Сологуб), центра и «левого» (О. Брик) – все, и «правые», и «левые», говорили на одном языке. «Кто бы ни стоял у власти – никто не может управлять деятельностью искусства помимо деятелей искусств», – эти слова необычны для О. Брика, но были сказаны именно им[809]809
Литературное наследство. М., 1958. Т. 65: Новое о Маяковском. С. 565.
[Закрыть]. Гневно выступил Ф. Сологуб, призвавший «оберегать искусство – достояние народа» – от А. Луначарского[810]810
Там же. С. 566.
[Закрыть]. В протоколе мы читаем и следующую запись: «Маяковский согласен с Сологубом, но каким путем прийти к этому, как можно захватить это достояние – приходится обратиться к власти, приветствовать эту власть»[811]811
Там же.
[Закрыть]. Можно, как позднейшие комментаторы, находить в этих словах симптомы будущих симпатий поэта – но как примечательно здесь согласие с Сологубом и как недвусмысленно это слово – «приходится». Данный пример очень показателен. Если даже у Маяковского и его «левых» приверженцев большевистские приемы поначалу не вызывают сочувствия, то что говорить о массе интеллигентов, далеких от «футуристических» крайностей и исповедующих иные, чем будущие лефовцы, взгляды на культурные ценности.
Восприятие интеллигентом Октября – это взгляд людей, ущемленных революцией, предъявляющих ей свой счет. Во всяком случае, так было в первые недели после переворота. Но большевистская акция имела не только обвинителей, но и защитников. Проводить водораздел между принявшими революцию и осудившими ее по классовому признаку вряд ли правомерно. Правильнее было бы отметить «культурные» истоки размежевания: но и они объясняют не все. Политическая лаборатория 1917 г. не имела условий для чистоты эксперимента. Здесь все перемешано. Меркантильное маскировалось идеологическим, бытовое – политическим. «Революционность» едва ли может быть представлена как нечто однозначное, безусловное и тотальное. Она отчетливо и легко показывает нам и анархичность, и консерватизм, ее в равной мере проповедуют и бунтарь, и приверженец прежних устоев. Что она отразила точно – так это нетерпимость общества, нетерпимость идеологическую, политическую и бытовую, направленную против старого порядка и порожденную им самим[812]812
См., например: Воспоминания комиссара типографии «Русская воля» С. Уралова // Донесения комиссаров. С. 226; Потехин М.Н. Первый совет пролетарской диктатуры. Л., 1966. С. 129; Фрайман А.Л. Форпост социалистической революции. Л., 1969. С. 172.
[Закрыть].
Подавление инакомыслия поначалу еще рядилось в идеологические одежды. «Новое строительство требует новых форм, требует полного отрешения от старых отживших законов», – так откликнулся на разгон старой городской думы левый эсер В. Трутовский, выступая 24 ноября перед новыми гласными[813]813
Великая Октябрьская социалистическая революция. Триумфальное шествие Советской власти. М., 1963. Ч. 1. С. 186.
[Закрыть]. Здесь и слова нет о политической целесообразности.
Все сведено к дуальным примитивным оппозициям: новое – старое, рождающееся – отжившее, однозначная оценка которых была приметой не только социал-демократа, но зачастую и либерального интеллигента. Эти характерные оговорки сопровождают всякий насильственный акт конца 1917 г. Для примера приведем резолюцию Выборгского райсовета, принятую в тот же день, 24 ноября: «Укрепление действительно народной свободы невозможно без ограничения… свободы буржуазии во всех областях народной жизни: путем контроля над производством, урегулирования распределения, закрытия буржуазных газет и тому подобного организованного насилия над эксплуататорами»[814]814
Районные Советы Петрограда в 1917 году. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 161.
[Закрыть].
Идеологическое оправдание насилия – это все же прерогатива верхов. Насилие для низов – это составная часть обычного социального поведения, оно лишь в силу обстоятельств приобрело политический оттенок. Здесь насилие уже очень заметно выражается в форме «охранительной» реакции, зеркально отражающей практику старого режима. Это быстро почувствовали современники революции. Один из них дал примечательное описание вечернего Невского проспекта 12 ноября 1917 г., в первый день выборов в Учредительное собрание: «Запестрели тут и там летучие митинги. Но солдаты, матросы и красногвардейцы почему-то усомнились в их законности… местами происходили такие диалоги:
– Агитации разводят!
– Кому это мешает? За свободу агитации мы боролись.
Пусть пользуются.
– Кто агитировать хочет, пусть идет на митинги, в Модерн или куда еще…
– Почему же не агитировать на улицах?
– Не велено.
– Кем? Почему?
Солдат отворачивается и уходит.
В другой кучке:
– Протелефонируйте в ВРК, пусть отряд вышлет.
– Зачем?
– Да так, «чтоб не собирались»…
– А почему нельзя собираться?
– Всякую агитацию разводят…
– Да так при Николае городовые и жандармы говорили…
– Мешают проходить…
и т. д. Разговор совсем как по старине»[815]815
Новая жизнь. 1917. 14 нояб.
[Закрыть].
Говоря о массовой поддержке революции, необходимо еще раз отметить феномен «социалистического» фундаментализма. В нем очень сильно проявилось автоматическое начало. Поддержка переворота – это и элемент политического поведения, кодированного, определенного принадлежностью к той или иной группе. В данном случае массы реагировали не на революцию, а на сигналы к групповым действиям. Здесь заметно и подсознательное стремление к кастовости, выделению себя в особое сословие. Все «чужое» вызывает уже быстрое, слабо мотивированное отторжение. Многие «революционные» поступки 1917 года – это реакция не только на революцию, но скорее на действия тех, кто ее осудил, – а ими и были по преимуществу «чужие».
Отмеченные выше элементы общественной психологии явственно обнаружились во время споров об однородном социалистическом правительстве. Требование «объединить демократию» широко распространилось в начале ноября[816]816
Районные советы Петрограда в 1917 году. Т. 1. С. 50; М.; Л., 1966. Т. 3. С. 208; Петроградский военно-революционный комитет: Документы и материалы. М., 1966. Т. 1. С. 530; Блинов А.С. Центральный Совет фабзавкомов Петрограда. 1917–1918. М., 1982; Фрайман А.Л. Указ. соч. С. 93.
[Закрыть]. Оно было выражено послефевральским языком, еще привычным для политизированных горожан. Примечательны, однако, те мотивы, по которым эта идея вызывала сомнения или отвергалась. Здесь и обычное указание на голос масс, и ожидание саботажа со стороны «союзников», и боязнь объединения с «контрреволюционерами», и, наконец, убежденность, что Советы – выразитель воли всего народа и потому объединяться не с кем и не для чего. Но тут же можно обнаружить и уже очень знакомое. Читаем протокол заседания 2-го Городского РК РСДРП(б) 4 ноября 1917 г.: «Тов. Крутов предлагает объявить все партии, кроме больш[евиков], вне закона и ни на какие соглашения с другими социалист[ическими] партиями не идти. Товарищ предлагает беспощадную борьбу со всеми партиями… В заключение тов[арищ] повторяет, что никаких соглашений не должно быть»[817]817
Первый легальный Петербургский комитет большевиков. С. 346.
[Закрыть]. И этот максималист не был одинок. «На местах обижаются на переговоры с меньшевиками и эсерами», – сообщал представитель Петербургского района на заседании ПК РСДРП(б) 29 октября 1917 года[818]818
Там же. С. 330.
[Закрыть].
Прощание с революцией
Послеоктябрьское напряжение в городе быстро спало. Даже выборы в Учредительное собрание не вызывали того политического отклика, на который рассчитывала оппозиция. Общая апатия ощущалась всюду. «В массах громадный абсентеизм, полное равнодушие. Те, которые голосовали за нас, голосовать вовсе не будут. Многие уничтожают избирательные бюллетени», – говорит большевик М. Горелик на заседании ПК РСДРП(б) 8 ноября 1917 г.[819]819
Первый легальный Петербургский комитет большевиков. С. 350.
[Закрыть]. Ему резко возражали, но даже В. Володарский был вынужден здесь же признать: «Всякий, кто присматривается к нашей революции, поражается слишком малым творчеством пролетарских масс»[820]820
Там же.
[Закрыть]. Накануне выборов по городу передавались слухи, очень примечательные для того времени, – о возможных насилиях над избирателями, о том, что вечером отключат ток и бюллетени будут подменены и т. д. Нервозность вызывали и слухи о предстоящем выпуске новых денег. В день выборов не было ни шумных митингов, ни демонстраций, многие улицы казались пустыми.
В середине ноября А. Луначарский попытался собрать интеллигентов, готовых сотрудничать с большевиками, – на встречу пришло лишь несколько человек[821]821
Ярошевская В.П. Борьба партии большевиков за художественную интеллигенцию в период подготовки социалистической революции и в первые годы Советской власти. Л., 1973. С. 15.
[Закрыть]. Событием стало другое – демонстрация к Таврическому дворцу 28 ноября. В этот день предполагалось открыть Учредительное собрание – его и стремились поддержать. Учредительное собрание еще никто не разгонял, но примечателен язык и стиль того письма, в котором «рабочие новоснарядной мастерской» Обуховского завода опровергали слухи о своем участии в шествии. Демонстрацию они (а скорее, скрывшийся за ними профсоюзный активист) оценили как «поклонение приспешникам контрреволюционной шайки корнило-калединской закваски и компании»[822]822
Петроградский военно-революционный комитет. Т. 3. С. 452.
[Закрыть]. Авторы письма буквально захлебываются в ругательствах по адресу инакомыслящих: «…небольшие кучки торговцев, спекулянтов, мироедов и всей честолюбивой сволочи», «…гнусные вожди контрреволюционной шайки», «…сатрапы, ловко скрывшиеся под ширмой Учредительного Собрания»[823]823
Там же. С. 452–453.
[Закрыть].
Через несколько дней в городе ввели осадное положение из-за разгрома винных складов. Неприятным было то, что спивались революционные полки – в строгой очередности, по мере заступления на вахту борьбы с погромами. Погромщиков тогда искали рьяно: за пьяными обывателями чудились вожди российской контрреволюции. Очереди за хлебом удлинялись, продуктов не хватало, и они стоили больших денег. «Живется у нас скверно. Тоскливо. Я очень мало и неохотно работаю», – пишет Константин Сомов из Петрограда 15 декабря[824]824
Константин Андреевич Сомов. С. 184.
[Закрыть]. О политике упоминают все более охотно. Газет мало, что-то закрыли, что-то закрылось само, все вновь заговорили на знакомом «эзоповом» языке. «Много слухов о том, что в ближайшем будущем в Петрограде явятся немецкие войска, на престол будет возведен цесаревич Алексей, а регентом будет назначен не то Гессенский, не то Баварский принц. Хуже не будет, и многие предпочитают видеть здесь тысячу шуцманов, чем сотню красногвардейцев», – описывает в дневнике 3 декабря настроения своего круга уже знакомый нам финансовый чиновник[825]825
Русская революция глазами петроградского чиновника. С. 35–36.
[Закрыть]. И о том же в записи 9 декабря: «Все мечтают увидеть на углах шуцманов вместо проклятых красногвардейцев»[826]826
Там же. С. 38.
[Закрыть]. Мира ждут любой ценой – и не только чиновники. Впоследствии чекисты прочтут запись речи редактора газеты «Страна» И.К. Брусиловского на заседании интернациональной секции ЦИК Совета крестьянских депутатов 14 декабря 1917 г.: «Можно достигнуть единения масс на вопросе о защите Учредительного Собрания, но по отношению к вопросу о мире антибольшевистская пропаганда встречает невероятные препятствия, массы не разбираются в тонкостях международной политики, они довольствуются внешностью германского предложения мира…»[827]827
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 8098. Оп. 1. Д. 6 а. Л. 17 об.
[Закрыть]
Но в Петрограде рассуждают не только о мире. Много разговоров об эвакуации. Заводы закрываются, нет сырья и денег – и растет ожесточение рабочих к «буржуям», чьими происками и объясняют кризис. Рабочий контроль с непривычки быстро сводится к проверке складов и даже буфетов у «капиталистов». Рабочие ищут не «участия в восстановлении хозяйства страны» (чем и мотивировался контроль) – они жаждут надежных заработков. Отсюда и лавина прошений о национализации предприятий, которые, по быстро упрочившейся традиции, облачаются в политические одеяния.
Такова «феноменология» предновогоднего Петрограда. Эта картина тех дней, составленная очевидцами, мозаична и фрагментарна, но она довольно точно отражает «осадный» дух города. В первой половине 1918 г. можно наблюдать три пика политической активности горожан – в начале января, в феврале и в мае. В каждом из них оппозиционность проявлялась все слабее, отчетливо видно ее специфическое «затухание». Наиболее мощными оппозиционными акциями отмечен, пожалуй, лишь январь 1918 г. Уже с начала месяца город вновь, как это было во всех «кризисах», захлестнула волна слухов. «Говорят о выступлениях в связи с теми или иными событиями, о покушениях, о возможных погромах», – сообщала газета «Наш век»[828]828
Наш век. 1918. 3 января.
[Закрыть]. Массой всевозможных слухов обросло «покушение» на Ленина 1 января. Оно заметно повысило напряженность в городе, и не только ввиду его агитационной «обработки» большевиками, но еще и потому, что в этом увидели символ надвигающихся перемен. «Все и вся пребывают в каком-то непрерывном ожидании, что завтра это должно кончиться, наступает это завтра – ничего нет, тогда ждут еще завтрашнего дня и т. д. Тоска!» – писал 4 января 1918 г. из Петрограда художник Б.М. Кустодиев[829]829
Борис Михайлович Кустодиев. Л., 1967. С. 157.
[Закрыть].
Несколько событий получили в эти дни общественный отклик: разгон Учредительного собрания, расстрел «учредиловской» демонстрации и убийство в Мариинской больнице А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина – арестованных министров Временного правительства. Они произошли почти что одновременно и, слившись воедино в сознании людей, послужили основным детонатором оппозиционного движения в январе. «Учредиловские» манифестации 5 января собрали под свои знамена людей различных положений и сословий. Здесь были рабочие, много солдат, но преобладала интеллигенция. Демонстранты шли с пением «Марсельезы», с красными флагами, с плакатами о свободе и революции – совершался привычный послефевральский «манифестационный» ритуал. Безжалостный расстрел демонстрантов придал оппозиционности горожан специфический оттенок потаенности. О том, что происходило в Петрограде, можно лишь догадываться по намекам, косвенным признаниям, да и по той атмосфере нервности, которую в ее почти что иррациональных проявлениях столь художественно зорко изобразил на страницах «Взвихренной Руси» А. Ремизов: «На Большом проспекте на углу 12-й линии два красногвардейца ухватили у газетчицы газеты.
Боитесь, – кричит – чтобы не узнали, как стреляли в народ!
– Кто стрелял?
– Большевики.
– Смеешь ты —?
И с газетами повели, а она горластей метели – Я нищая! – орет, – нищая я! Ограбили! Меня!»[830]830
Ремизов А. Взвихренная Русь. М., 1990. С. 191.
[Закрыть]
Эта нервность проявилась и во время похорон жертв 5-го января – демонстрации, на редкость политически сдержанной, осторожной даже в своем «плакатном» оформлении. Во время шествия, как сообщалось в одной из газетных заметок, «из толпы солдат, шедшей за гробом, раздались возгласы: „Товарищи солдаты, присоединяйтесь к нам“»[831]831
Наш век. 1918. 11 янв.
[Закрыть]. И люди, не поняв, о каких солдатах говорят, или что-то не расслышав, побежали – от пуль, от новых расстрелов, от той смерти, которая стала обычной на петроградских улицах в январе 1918 г.
Для историка многое в те дни становится каким-то двойственным, малоотчетливым и трудноосязаемым. Разгон Учредительного собрания и расстрел демонстрантов, убийство министров – все это вызывало живейший протест горожан, о котором говорят даже пристрастные свидетели тех дней. Но массовых откликов нет, новых демонстраций не видно, на заводах молчат. Возможно, здесь сказался агитационный натиск большевиков, а он был в первые недели января необычайно мощным. В примечательной листовке, выпущенной властями 3 января, полутонов нет: «Это будет демонстрация врагов народа, демонстрация друзей Каледина и Корнилова», «…на улицах Петрограда будут демонстрировать саботажники, буржуазия, прислужники буржуазии» и т. п.[832]832
Листовки петроградских большевиков. Т. 3. С. 144.
[Закрыть] Все это, пусть не сразу и не всеми, но перенималось в низах, на это откликались люди, не раз слышавшие большевиков на митингах и собраниях и привыкшие верить им, особенно там, где индивидуальное подавлялось массовым. Им достаточно было разглядеть в протестующей толпе хорошо одетых людей – и пропагандистские клише становились сигналом к действиям. Характерно признание одного из рабочих, разгонявших демонстрацию 5 января. Сделано оно было в 1932 г. на «вечере воспоминаний». Он стоял по другую сторону баррикад, и события того дня виделись ему уже по-иному: «…никаких ранений со стороны публики и охраняющих участок не было, за исключением одной истерички женщины, возможно, была ранена, возможно, нарочно помазала себя кровью. Судя по тому, как она себя вела на извозчике, можно заключить, что все это было искусственно сделано. Она кричала:,Что вы здесь делаете, жандармы, чего вам нужно, вы убиваете совершенно неповинных людей“. Тогда мы ей ответили: „Тебе здесь делать нечего, напрасно на извозчике разъезжаешь, скрывайся или будешь направлена в определенное место“»[833]833
Центральный государственный архив историко-политических документов (ЦГАИПД). Ф. 4000. Оп. 1. Д. 194. Л. 24.
[Закрыть].
Это очень показательный психологический документ. За прошедшие годы многое, конечно, забылось – но примечательно то, что удержано памятью. Дважды упомянут тут извозчик, и это не оговорка: езда на извозчике была для рабочего свидетельством о богатстве, признаком «буржуя». Страдания, всколыхнувшие тогда многих петроградцев, оставляют рабочего равнодушным: он убежден в их «поддельности», протестующие крики для него – «жест истерички». Такова логика «иного» взгляда: те же факты имеют для него другую последовательность и причинно-следственную связь. И неслучайно поэтому на заседании Центрального Совета профсоюзов 7 января аплодисментами были встречены слова лидера левых эсеров о петроградском расстреле: «…это неизбежные жертвы всякой революции… революцию нельзя делать в белых перчатках… с этим нужно считаться как с фактом, являющимся этапом к достижению социализма»[834]834
Наш век. 1918. 11 янв.
[Закрыть].
Следующий политический «всплеск» приходится на вторую половину февраля и непосредственно связан с германским наступлением на Петроград. В городе кое-где началась паника: передавали слухи о бегстве Коллонтай с восемью миллиардами рублей, об отсутствии хлеба, предстоящей эвакуации правительства и, наконец, готовящемся восстании «корниловцев»[835]835
Красная газета. 1918. 1 марта.
[Закрыть]. Властям не верили. После взятия немцами Пскова на заводах стали требовать выдачи жалованья за месяц и более вперед[836]836
Шелавин К.И. Из истории Петербургского комитета большевиков в 1918 г. // Красная летопись. 1928. № 3 (27). С. 152–153; В боях за Октябрь. Воспоминания об Октябре за Невской заставой. Л., 1932. С. 63; Красная газета. 1918. 16 марта.
[Закрыть]. Многие стремились уехать из Петрограда. Примечательная деталь: на собрании Выборгской бумагопрядильной фабрики 10 апреля 1918 г. решили вновь принять на работу глухонемую, оправдав ее тем, что «она взяла расчет, глядя на бегущую массу»[837]837
ЦГА СПб. Ф. 6255. Оп. 17. Д. 70. Л. 8.
[Закрыть].
Однако перевыборы завкомов на предприятиях не выявили сколько-нибудь решающего антибольшевистского сдвига. Разумеется, где-то нужное настроение и «создавали» путем запугивания, переголосований, аннулирования результатов выборов. О том, как это делалось на Трубочном, Обуховском и орудийных заводах, сообщала одна из нелегальных социалистических листовок тех дней «Советы в большевистском плену»[838]838
Меньшевистские и эсеровские листовки 1917–1918 годов // Отечественная история. 1993. № 1. С. 160.
[Закрыть]. Но многих в городе больше, чем политика, интересовали «материальные» вопросы – тарифы, предстоящие увольнения, эвакуация. Показателен в этой связи опрос по предприятиям, проведенный в дни германского наступления Петербургским районным комитетом РСДРП(б). Лишь на фабрике Мелодер была замечена политическая оппозиция: там переизбрали большевистский комитет старост, выдвинули лозунги Учредительного собрания и ликвидации Советов[839]839
ЦГАИПД. Ф. 6. Оп. 1. Д. 5. Л. 18.
[Закрыть]. В других случаях информаторы, отвечая на вопрос анкеты: «Каково настроение рабочих в переживаемый момент?», высказывались односложно и туманно: «неопределенное», «плохое», «более-менее серьезное», «паническое», «приподнятое», «обыкновенное»[840]840
Там же. Л. 5, 11–15.
[Закрыть]. И характерен тут более пространный ответ одного из анкетируемых предприятий: «Настроение в связи с постоянной задержкой уплаты денег очень бурное, к политическим событиям относятся равнодушно»[841]841
Там же. Л. 19.
[Закрыть].
Февральские волнения не приобрели ощутимого массового размаха. Они обернулись мелкими стычками на предприятиях, уличными разговорами, слухами, резкими «антисоветскими» резолюциями, паникой и бегством из угасающего города. Но они не прошли бесследно. Стихийный «большевизм» масс, пожалуй, и остался, но уже нередко обращался, как ни парадоксально, против самих большевиков. Эта тенденция отчетливо видна, когда присматриваешься к рабочему движению в Петрограде в первой половине 1918 г.
Экономическое недовольство рабочих определило тогда три основные формы их массовых действий. Это, во-первых, экономический экстремизм, поддержанный властями и теоретически оформленный коммунистическими постулатами. Для него характерно стремление преодолеть разруху и нищету путем национализаций, имущественных разделов, экспроприаций. Во-вторых, это забастовки – испытанная и давняя форма борьбы рабочих за свои права. И, в-третьих, это создание политизированных профессиональных объединений, противопоставленных государственным профсоюзам.
Полемика о рабочем контроле имела в те дни не только экономический, но и политический смысл. Контроль, будучи одним из основных элементов программы правительства, неслучайно стал объектом острых разногласий между социалистами и большевиками. Но в низах политические аспекты этой акции воспринимались слабо. Истоки экономической разрухи представлялись им зачастую упрощенно, как следствие саботажа, нежелания капиталиста работать на пролетарское государство, утаивания товара и его хищений. И рабочий контроль нередко принимал экзотические формы, экономически бессмысленные, но в целом объяснимые теми воззрениями, которые были присущи рабочей среде. Размах импровизаций в этой сфере насторожил даже большевистские круги, обычно поощрявшие всякую проявленную здесь инициативу. «Заводские комитеты в толковании рабочего контроля уходят вперед, гоняются за такими мелочами, как, например, требования обязательного учета куда, по какому делу и зачем ходил бухгалтер или другое должностное лицо, вплоть до члена правления, требования обязательного своего присутствия на приемах у директора-распорядителя или другого члена правления, требования обязательного своего присутствия на всех заседаниях правления, требования, чтобы ни одна корреспонденция не выходила из завода или правления без санкции, печати и пр. заводского комитета… До таких геркулесовых столпов дошел, например, заводской комитет завода Лангензиппен, который после целого года борьбы за рабочий контроль, в довершение идеи контроля дошел в начале второго года борьбы до обыска председателя правления под руководством членов заводского комитета, и при обыске было найдено… вино», – все это сообщалось в докладе секции по металлу Совнархоза Северного района 11 июля 1918 г.[842]842
Национализация промышленности и организация социалистического производства в Петрограде (1917–1920 гг.). Т. 1. С. 200.
[Закрыть] Возможно, здесь отражены крайности рабочей «борьбы» с разрухой. Проблема, однако, состояла в том, что иных ее форм в низах и не знали, неотчетливость и аморфность имевшихся инструкций лишь усиливала размах импровизаций.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?