Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"
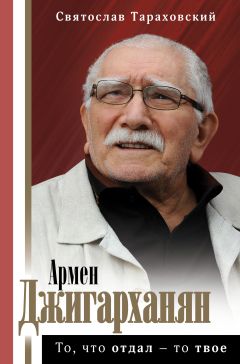
Автор книги: Святослав Тараховский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
108
В театре, на проходной ему, как обычно, отдали честь и посмотрели на него как-то странно. Или ему показалось?
Он направился к кабинету, толкнул дверь, взглянул внутрь и застыл.
Новый наворот, подумал он. Бабы за меня взялись.
На краешке дивана неподвижной напряженной точкой сидела она, его бывшая любимая американская жена Татьяна. Рядом стоял здоровенный баул – значит, сообразил Армен, насовсем.
– Бареф! – только и смог по-армянски озвучить привет Армен, больше слов не нашлось.
– Здравствуй, Армеша, – сказала она и встала и подалась к нему.
Но поцелуй не произошел.
С ней, похоже, происходило то же самое, что и с ним: слова в голове сбились в бессмысленную кучу, какое слово вытянуть, с какого начать было непонятно.
– Я сначала поехала на Арбат, в старую квартиру, – сказала она. – У меня ведь ключи есть.
– Да-да, – сказал Армен, – могла бы позвонить.
Первые слова не помогли ни ей, ни ему. Выглядела она шикарно, отметил он, но спать с ней ему уже не хотелось, нет, никак, никогда. Скажи такое любой женщине, подумал он – она не поймет. Мужчина поймет, она – нет: если выглядит шикарно, почему бы мужику с ней не спать?
«Зачем приехала?» – вертелось у него в голове. Знает, что я с ней разведен и заново женат, сотню раз об этом говорили и обиду вроде бы проехали. Так почему, зачем? Почуяла? Почувствовала, что место опять может освободиться? Никогда он их не понимал. Другой лес, другие запахи, другие звери.
– Садись, – наконец, предложил он и сел сам.
Опустилась на стул напротив, и глаз дрожавших с него не спускала, а в них обожание, надежда на прощение, и мольба, и обещание, что все можно вернуть. Одного в них не было, самого простого: признания того, что прошлого больше нет. Она этого не понимала, он понимал. Понимал и не двигался, ни словом, ни движением, не мыслью. Прошлым он переболел, оно отброшено, забыто и не мучает, болит настоящее, но она этого не знает.
– А на Арбате – люди, – произнесла она. – Какие-то армяне. Сказали, все законно, сказали, ты все знаешь.
– Все верно. Надо было мне сперва сообщить.
Смотреть на нее ему не хотелось. Хотелось, чтобы она поскорее ушла. Куда-нибудь. За чужие проблемы он не отвечает, хватает своих. А она – уже чужая.
– А артисты меня узнают, – вдруг сказала она. – Меня помнят.
Все равно – чужая, подумал он, но вслух ничего не сказал.
Она вдруг вытащила из сумочки, положила перед ним небольшой сверток.
– Я тебе землю с могилки Фила привезла, – тихо сказала она.
Он смотрел на сверток. Он коснулся его, огладил будто это был Фил, и глаза его дрогнули. Она не чужая, сказал он себе, не может она быть мне чужой.
– Зачем ты приехала?
– Я вернулась, Армеша, – сказала она и отважно посмотрела ему в глаза.
– Поздновато, – сказал он. – Поздно.
– Я знаю, – сказала она. – Куда же мне идти?
Он знал ее варианты. Тетка в Москве и двоюродная сестра тоже в Москве – лично у него других вариантов для нее не было. Он пожал плечами, она все поняла.
– Но у меня на Арбате есть право на некоторые метры, разве не так? Я ведь была твоей женой. Не хочешь же ты выбросить старуху на улицу?
Он не знал, что отвечать. Ему было муторно, душно. Он понял, что она приехала, и он, кавказец и мужчина, обязан как-то ей помочь, но как, было ему непонятно, и, значит, подумал он, надо снова напрягать свои старые мозги, свой долбаный сахар, старые силы и снова страдать. Россия – чемпион мира по страданию, а ты в России обитаешь, ты ее гордость. Армеша, услышал он голос мамы, пошли их всех к черту, береги себя, сын, тебя самого для себя мало осталось, очень мало.
– Иди, – сказал он Татьяне. – Иди. Я подумаю.
Она не двинулась с места. Он знал, это означало, что она вот-вот заплачет.
– Иди, – твердо повторил он. – После позвонишь. Иди. Я на работе.
– Куда мне идти?
– Не знаю, – сказал он. – Видишь, я худрук, а живу я именно здесь.
– В каком смысле? В переносном?
Он ничего ей не ответил. Посмотрел и отвел глаза.
И она ни о чем его больше не спросила. Знала: уже не ответит, сама должна была обо всем догадаться.
И удивиться она не успела – стремительно вошел Слепиков.
– Извините – обронил он. – Я не вовремя? О, здравствуйте, Татьяна Сергевна!
– Заходи! Заходи, сын! – распорядился Армен, появление Слепикова несколько его отвлекло. – Заходи, садись.
Слепиков не сразу устроил седалище на стуле, в конце концов присел так, чтобы одновременно видеть сразу двух взрослых героев, он, джентльмен, не мог не замечать присутствия дамы.
– Говори, Васильич, говори, золото, – распорядился Армен. – Что у тебя?
– Рад вас видеть в добром здравии, – сказал Слепиков и чуть заметно покосился на Татьяну.
– От нее секретов нет, – сказал Армен. – Говори!
Струна сорвалась, слетела с колков – Слепиков поднялся и заговорил так бурно будто в чем-то сознавался, облегчал душу.
– Она репетирует своего «Грицюка» несмотря на ваши запреты. «Грицюк», «Грицюк» превыше всего! Она артистов запугивает, заставляет, они жаловаться бегут ко мне – а я ничего не могу сделать, вообще не знаю, как мне быть, я ищу достойную пьесу, но всех артистов она уже заняла, я пробовал с ней говорить – улыбается, обещает, но делает все по-своему… Я в таком положении… Мне уходить? Писать заявление? Потому я сейчас пришел. Слава богу, вы снова в театре. Я прошу, пожалуйста, сделайте что-нибудь, наведите порядок, слов, как говорится, больше нет! Театр задыхается, гибнет! Режиссуры больше нет! Театр превращается в примитивный кубик – четыре плоскости – все!
Армен снова почувствовал недодачу воздуха. Форточки маленькие, ублюдочные, все рассчитано на кондишен, но не любит он, сын гор, кондишен, дайте воздуха, чистоты, света, перспективы! Чем меньше у человека остается сил, подумал он, тем больше ему нужно воздуха!
Он отдышался, поднял руку как римский консул перед выстроенной перед ним когортой и сказал:
– Я приму меры. Всем обещаю, что…
Договорить не успел – вошла самолично Виктория Романюк с замдиректора бледной Эллой.
Пауза и ветер налетели мгновенно, и Армену показалось, что в мире слегка потемнело. Но как только взглянул на нее, лампа вспыхнула в глазах: ощутил, что хороша как никогда, что по-прежнему любит ее и хочет.
И с ней что-то не то происходило: смотрела на всех рассеянным взглядом, и слова обращались вроде бы ко всем, а по факту только к нему, одному:
– Творческое совещание? Мы хотим принять участие. Мы, дирекция, мы имеем право.
Неуместно выступила она, никакое совещание ее не волновало, просто хотела увидеть и услышать.
Говорила и смотрела на него, ожидая одобрения, неодобрения, какой-нибудь живой реакции, освещающей их отношения, его отношение к ней. А он, великий артист, смотрел мимо и молчал.
Молчал и, как ни странно, на глазах у всех чудотворно превращался в хозяина площадки, этой компании, всего театра, всей сиюминутной жизни – чем дольше молчал, тем уверенней превращался в центр притяжения, собирал на себе всеобщие взгляды.
«Пауза, пауза, мхатовская пауза, она придает напряжение мизансцене», – неслышно шептал он себе – даже в такие минуты не переставал быть большим артистом, ведущим главную роль.
Просматривал какие-то бумаги на столе и мощно молчал, и это было самое для нее непонятное и страшное.
И Татьяна молчала, коротко пикнула: «здрасте» и умолкла, просекла, что главная линия напряжения в сцене сместилась на другого персонажа. Несмотря на то, что лично жены не были знакомы, обе были сейчас друг другу ненавистны.
109
Не молчала и не каменела одна только Элла. Она искала глазами стул, но Слепиков ее опередил – встал, предложил ей свой стул и тотчас отыскал другой стул, для любимой – до горечи – директрисы.
Это был настоящий театр.
Театр всюду и всегда, театр в головах, театр в семье, театр в отношениях, театр в театре – все как положено быть в жизни артистов. Зависть к таланту, ревность к красоте или возрасту, интриги, шепоток, немного лжи, приправленной злобой, немного секса во имя искусства, немного дружбы против кого-то, немного славы и врожденной конкуренции на сцене – все это есть здоровая, плодородная, черноземная – иногда с запахом – почва театра для достижения успехов.
– Извините, – сказала Вика, – что прервали вашу работу. Мы внимательно вас слушаем.
– Нет, это вы нас извините! – оборвал ее худрук. – Мне тут про одну книжку рассказали. Я узнал, что у каждого человека есть свой уровень компетенции. Один, например, может стать врачом, все у него для этого есть, а другой человек способен быть только медсестрой, один человек может стать мастером, а другой – только подмастерьем, это предел его компетенции, на мастера он не тянет. Так же и у нас в театре. Один человек может стать режиссером, другой – только помрежем. Так вот, Виктория Богдановна, мы вас внимательно, слушаем и хотим услышать, когда вы перестанете лезть в режиссуру!
Она как будто ждала этого запала, вскочила так резко, что даже стул не сразу от нее отделился, и полыхнула как порох:
– Мне ваше слово «лезть» не нравится – извините! Я работник театра, я, извините… мне кажется, я право имею на эксперимент, тем более опыт есть, я, извините, ставила «Сирэнь» – вполне успешно, многие так считают… – говорила она, а в глазах светилась обида: за что он ее так и принародно: за заботу ее, за нежность, за любовь – за что? – А вы, извините, «Сирэнь» не приняли, революцию оттолкнули от себя – это ваши проблемы… это проблемы вашего, извините, возрастного несоответствия современности и… лучше бы, лучше бы вам, извините, вовремя уйти, покинуть театр, и… люди театра тогда запомнят вас широким, добрым, понимающим, не боящимся рисковать, ставить на молодежь, а главное, запомнят вас как человека, который вовремя ушел! Вот так, извините.
Выпалила, выстрелила, раскраснелась, села в тишине.
Вот так, подумал Армен. Это вам не «любит-не любит», это о возможности дальше с ней жить, физически сосуществовать. Или о невозможности?
Зазвонил его мобильный, он его не тронул. Злоба кипела в нем, впервые кипела в нем против жены.
– Замечательно, – сказал он вслух. – Очень содержательная речь директора. Кто еще?
– У меня – коротко, – сказала вдруг Татьяна Сергеевна. – Я не успела поздравить художественного руководителя театра с удачной женитьбой!
– А я, – реактивно среагировала Вика, – не успела его поздравить со счастливым разводом!
– Спасибо. Спасибо обеим артисткам, – на чистом сливочном масле благодарности отыграл ответ Армен и воздел в сторону женщин большой палец. – Благодарю. От всего сердца… – Он сделал паузу для выдоха и закончил. – Предлагаю резолюцию. Дорогой нынешней супруге, стороннику театральных революций и изгнания старцев из театра запрещается заниматься режиссурой в этом самом театре. Репетиции «Грицюка» прекращаются, пусть он на здоровье танцует в другом месте. Кто «за»?
Руку поднял Слепиков и следом – сам худрук.
Снова звонил мобильный, Армен не реагировал.
– Принято единогласно, – сказал он. – Второе: восстановить Романенко и Голубеву с принесением им извинений! Кто «за»?
Снова «за» были Слепиков, и Армен.
– Принимается, – сказал Армен. – Поздравляю вас: наш театр жив. У нас хороший театр!
– Я снова прошусь в труппу! – сказала Татьяна. – Возьмите. Возьмите хоть на «кушать подано»!
Виктория более не вскакивала, не выражала сверкающих эмоций – осталась на месте, словно была слегка подморожена, и с места, не глядя на Армена, стреляла взглядом по площадям, куда попадет, туда и ладно. Потом, не торопясь, встала.
– Можете мне запретить работать, – сказала она, – я к этому готова. Я молода, я все равно всех вас пересижу. Всех… А вы заседайте, голосуйте, принимайте решения – я буду громко вам хлопать. Браво! Браво! Бис!
Плохой театр, подумал Армен. Хорошая музыкантка, плохая актриса. Моя ошибка.
Хлопая всем и себе в ладоши, Виктория театрально направилась к выходу.
Армен страдал. Даже самый бескровный переворот в России, подумал он, дается кровью.
Она почти победила, она подошла к двери, оставив изгнавших ее праведников в подавленной тишине.
Ее полному триумфу помешал Осинов, ворвавшийся в кабинет шекспировским вихрем и по-шекспировски мгновенно оценивший мизансцену.
– Господа! Товарищи! Звоню, звоню, а вы… – у меня срочная информация. Только что сообщили… приказом министра Романюк Виктория Богдановна освобождена от должности директора театра!
Удивление, непонимание, морщины на лбу. Полное российское недоумение. У всех, включая самого прежнего директора, замершего на ходу.
Не подвел, товарищ министр, подумал Армен. Выиграл все-таки у меня по очкам. Хороший игрок.
– Я проверю, Иосич, – сказал он. – Но, если это так… Директор умер, да здравствует директор! Новый директор. Им будет…
– Только не я, – вставила слово и подмигнула Виктории Элла, но никто на нее не среагировал.
– Им, как прежде, буду я, – закончил Армен. – Да здравствует стабильность. Да здравствуют традиции.
Слепиков, сложив ладони, бесшумно зааплодировал и закивал, Слепиков знал, при Армене он будет жить вечно.
А Татьяна продолжала пребывать в недоумении, видать, Америка отшибла у нее память на русские обычаи смены власти.
Зато Вика отмерла и легко приблизилась к Армену.
– Догадываюсь, кто это сделал с министром, – тихо сказала она. – Вам – особое спасибо. За науку, за театр, за искусство, за любовь. Короче, за жизнь с вами, она была интересной.
И шумно вышла из кабинета и с невоспитанным треском шваркнула за собой дверь. И следом за ней выпорхнула Элла, поспешила, было, по коридору за начальницей-подругой, но приближаться к раскаленному жерлу не решилась и юркнула с ходу в свою замдиректорскую каморку.
Спасибо, спасибо, спасибо, колотилось у Вики в голове и хотелось ей сперва только одного: исчезнуть. Чуть позже на пороге своего директорского кабинета захотелось ей другого: чтоб исчезли все они, он – в первую очередь.
110
Слава богу, ушла, подумал Армен и с удовольствием впустил в себя тишину и воздух.
– Собрание закончено, други, сказал Армен. – Жизнь продолжается.
Сказал и схватил себя за язык: философ, блин, умно выступил – жизнь продолжится в любом случае, с ней, без нее и даже без тебя, сын гор и пастухов.
– И прекрасно, – сказал Осинов. – Теперь вместо танцующего «Грицюка» мы поставим скромную, рядовую, великую пьесу. У меня есть предложение. Я могу озвучить, боюсь, вы все в обморок упадете.
«О какой пьесе толкует Иосич?» – завертелось у Армена в голове. Уж не о той ли заветной, единственной и недостижимой, на которую уговаривал его Гончаров, не о той ли пьесе-мечте, к которой Армен всегда стремился – стремился, но боялся не осилить – не о той ли пьесе-мечте и великом итоге жизни, который он для себя наметил – сыграть в конце концов и уйти, сыграть и уйти навсегда из театра?
– Нет, – вслух сказал Армен. – Не хочу падать. Все великое потом. Устал.
Признаваться в собственной усталости было не в правилах Кавказа, но правда оказалась сильнее правил.
Слепиков и Осинов, серьезные театральные товарищи, для которых усталость шефа была превыше любых намерений, разом поднялись, коротко пожали руки и ушли. Татьяна осталась.
Он смотрел на нее со смешанным чувством сочувствия и собственной беспомощности. Америка, запоздалая Америка, куда тебе идти? И как тебе объяснить то, что с ним здесь происходит, произошло? Много потребуется слов, слишком много. И что он может ей предложить, если сам живет в кабинете?
– Ты тоже… – начал он, запнулся и все же продолжил, – иди.
– Куда? На Арбат? – она усмехнулась. – В родную квартиру?
– Поезжай к тетке, к сестре. Иди. Мне нужно сделать инъекцию.
– Я могу помочь, – поспешила она, ухватившись за возможность быть нужной; знала, он помнит, что когда-то в Ереване она начинала медсестрой.
– Я сам, – сказал он, и убил ее надежду. Знала, он ничего не говорит просто так, в каждом его слове – смысл.
– Иди, Татьяна. Потом. Я позвоню, – закончил он и слегка примирил ее с ситуацией, даже обрадовал – «Татьяна» было из той прежней, счастливой жизни, которая для нее кончилась, но может не навсегда?
– Фила мне оставь, – сказал он и кивнул на сверток с землей.
«Забери себе землю! – хотелось ей крикнуть, – забери, съешь – не поперхнись! Живой человек перед тобой, но тебе важней пустая земля, которую я впопыхах нарыла в аэропорту Нью-Йорка…»
Хотелось крикнуть, задохнулась, не крикнула. Вместо этого спросила:
– Я могу рассчитывать на работу в театре?
– Иди – сказал он. – Все. Потом.
Напоследок взглянула на него роскошными своими глазами – будто печать поставила на их договор, потянулась к свертку с «Филом», который он мгновенно накрыл ладонью, – и тихо переместилась к выходу.
Наконец-то!
Свободен от правых и неправых двуногих стал кабинет, подумал Армен, и покой охватил его, разлился в нем с головы до пят. И плохое – плохо, и хорошее, и даже очень хорошее – плохо, подумал Армен, а лучше всего тебе тогда, когда никого нет рядом. Ни баб, прости их господи, ни мужчин, твоя лучшая компания – одиночество. Одиночество и театр, да, только так, театр и одиночество, ничего другого тебе уже не нужно. Подумал так и, осознанно, наслаждаясь одиночеством и театром, который всегда был в нем, выкурил вдогонку событиям одну заветную сладкую.
И другое еще осталось у него дело, важное, но рутинное, так, сущая привычная ерунда.
Он уколол себя в палец глюкометром и взглянул на шкалу. Подлый сраный сахар снова карабкался в гору. Вот тебе и покой!
Он колол себя каждое утро в надежде, что когда-нибудь сахар все-таки войдет в норму, но все происходило ровно наоборот. Вот и сейчас. Пришлось вымыть руки, приготовить шприц с инсулином и найти на животе еще не замученную уколами и болью точку. Это было непросто, но он нашел – как ни странно совсем близко от пупка.
Подумал о пупке, сразу вспомнил маму. Видишь, сказал он ей, все вот так со мной происходит. Честно скажу тебе, мама, мне совсем не больно. Уже не больно.
Сказал и всадил в себя шприц с инсулином.
«Что сахар?» – сказал он себе. Дозой его инсулина по морде, и подлый сахар, пустив по ногам от ужаса, прячется в недрах органона – и можно с ним жить годами и очень даже ничего, неплохо. И с нервами можно совладать. Хороший височки или коньяк, и нервам на время абзац. И с разными другими замысловатыми болячками и хворями двуногого человечка запросто можно управиться – со всеми, кроме с одной и единственной. Мысли. Куда девать думы, терзания, проблемы, идеи? Которые лишают сна и не дают покоя бодрствующим? Как от них избавишься?
От них зудящих, непонятных, иногда слишком понятных и потому непригодных, от них – жестоких, мучительных, иногда никчемных и пустых, отнимающих время, иногда невероятных, иногда даже преступных, иногда таких интересных, что жить без них никак нельзя – куда их девать? А некуда, и… не стоит от них избавляться. Слава богу, что они есть!
Да вот она, вот она одна из них – непонятная и зудящая – чтоб ее ощутить в полной мере, следует просто набрать номер.
Так он и сделал.
– Послушай, – сказал он ей, – ты врезала замок, ты можешь жить как тебе угодно…
– Так я и живу, спасибо.
– И я пока что как угодно поживу, – сказал он, – но мне нужны личные вещи, извините меня, трусы, носки, майки, бритвы и так далее – я хочу все это получить…
Его звонок застал ее в компании с Эллой – подруги пили чай и обсуждали понятно что. Вика приложила палец к губам, включила в смартфоне громкую связь, чтоб Элла слышала и оценила прелесть.
– Ты уверен, что тебе это надо, Армеша? – переспросила Вика. – Я предлагаю красивый мир и любовь… и забудем все, как недоразумение…
– Да-да, – сказал Армен. – Мне нужны личные вещи.
– Хорошо, – сумела ответить без выражения Вика. – Завтра все привезу в театр.
– Еще хочу сказать, чтоб твои родители квартиру на Арбате освободили.
– Но они работники театра!
– Ты видела, да? Хозяйка вернулась.
– Родители там занимают мою площадь! Я твоя жена, имею право на ту половину, в которой они сейчас живут!..
– Не надо о правах…
– Это правда!
– Не надо о правах и о правде. Квартиру надо освободить.
– Это месть? Это подлая месть. А за что?
Все-таки она совсем его не знала.
Он никогда не мстил, обиды не копил и не помнил – он всегда убивал честно, сразу, на глазах, еще лучше – принародно. Сейчас ни на глазах, ни принародно не получилось, и он убил ее в себе, убил заочно, наверняка и бесповоротно.
Осталось дождаться окончательного повода, но она об этом уже не узнает.
Объясняться далее не стал, нажал отбой, аккуратно положил перед собой трубу, погладил ее, выплясал на ней пальцами танец с саблями друга своего Арама и снова, в ознаменование принятого решения, выкурил еще одну сладкую, которая снова показалась ему горькой.
– Ты слышала? – спросила она Эллу, и та кивнула.
– Лучше б не слышала, – сказала Элла.
– Как тебе?
– У деда крыша поехала, – сказала Элла. – Очевидно.
– Мне-то что делать?
– Лучше всего, чтоб врачи признали его недееспособным.
– Так оно так и есть! Я уверена!
– Но вряд ли у тебя получится это доказать, это очень трудно.
– А что у меня получится, Элла?
Элла не спешила с ответом. Грустно смотрела она в скучное окно, и женская девичья грусть, как принято у мыслящих женщин, переделалась в ней в женскую мудрость.
– Я бы на твоем месте все сделала так, как он хочет… Не забывай, кто он и кто ты…
– И просто вот так? Сдаться?
– Ты можешь потерять все.
– Нет, – твердо отказалась Вика. – Я права на сто процентов. Он сам все это сделал. Сам пристал со своим обожанием, сам женился, сам назначил директором. Я не сдамся ни за что. Главное, он сам не понимает, что я для него значу. Все!..
Сказала так и заплакала потому, что поняла: шансов у нее нет.
Элла протянула ей платок – не понадобился.
Отодвинув руку с платком, еще с мокрыми глазами она схватилась за телефон.
– Куда? Кому? – удивилась Элла.
– Алло, – сказала Вика в трубку. – Папа, это я.
И все, до последней копейки выложила родителю, и, чем дольше она говорила, тем все отчетливей решимость сопротивления несправедливой судьбе проступала на ее лице. Сталь, сказал бы Армен и был бы прав.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































