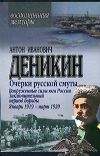Текст книги "Уильям Блейк в русской культуре (1834–2020)"

Автор книги: Вера Сердечная
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
«Воинствующий гуманист» в советской критике
Символистская критика окончилась вместе с революцией, и Блейк оказался в русской критике практически забыт (хотя Маршак изредка публиковал свои переводы). Вплоть до 1957 года упоминания о Блейке в советской печати были крайне редки.
В 1930 году краткая статья «Блэк» появляется в «Литературной энциклопедии»; С. Бабух отмечает в ней, что Блейк в своем творчестве объединяет два главных направления: готический романтизм с его «ужасами» и культ природы. Правда, автор замечает, что в приключенческой готике Блейка превзошли Х. Уолпол, А. Радклиф и В. Скотт, а в пейзажной лирике – Бернс и Вордсворт [Бабух, 1930]. Блейк охарактеризован как поэт буржуазии: «Мистически настроенный буржуа почувствовал „духовное сродство“ с непризнанным в свое время поэтом-мистиком» [там же].
В 1950 году Блейк крайне негативно упоминается в книжке В. Городинского «Музыка духовной нищеты», посвященной джазу. Поэт становится символом разложения западной цивилизации (и все еще называется Блэком). Так, музыка джазового композитора Карла Рагглса недаром вызывает у критиков «ассоциации с творчеством Вильяма Блэка, английского поэта и художника конца XVIII – первой четверти XIX веков, больного мистика, которого весьма чтили и английские декаденты: „прерафаэлиты“ и российские декаденты-символисты. Мистик с головы до ног, Карл Рагглс в своих бессвязных композициях силится „озвучить“ дикие видения Вильяма Блэка, истерические поползновения в потусторонний мир, на небеса и преисподнюю…» [Городинский, 1950, 117]. Очевидно, что для автора Блейк воплощает собой все недостатки загнивающего Запада.
Однако постепенно, исподволь нарастает другое мнение о Блейке, условно-положительное. А. К. Виноградов пишет в 1924 году, приводя монохромную копию страницы из «Песни Лоса», что Блейк – «и великий художник и великий поэт» [Виноградов, 1924, 108–109].
В 1945 году опубликована глава М. Н. Гутнера о Блейке в трехтомной «Истории английской литературы»: он одним из первых дает более точное написание имени поэта (Блейк, а не Блэк) и стремится определить его место в литературных течениях эпохи, то есть помещает его в контекст времени. Он считает Блейка предромантиком: творчество поэта, «романтически сложное, полное мистической и темной символики, <…> проникнуто в целом воинствующе-гуманистическим, бунтарским пафосом, редким у английских предромантиков XVIII века. Завершая в своих ранних произведениях демократические традиции поэзии Гольдсмита и Каупера, Блейк предвещает в то же время отчасти творчество революционных романтиков XIX века» [Гутнер, 1945, 613]. В этой статье уже намечается будущее «оправдание» Блейка: Гутнер отмечает революционный настрой Блейка, его поддержку французской революции и общение с «вождями английской демократии – Годвином и Томасом Пейном» [там же, 614].
В 1947 году Блейк упоминается в статье Н. Бентлей: «Только очень немногие из иллюстраторов той эпохи обладали таким могучим интеллектом и творческим воображением, как Вильям Блэйк <…> большинство его произведений органически связано с мистической поэзией, которой он в равной мере обязан своей славой» [Бентлей, 1947, 11]. Статья была опубликована в «Британском союзнике» – газете, которая вскоре будет закрыта за некритическое освещение капиталистической действительности.
В 1956 году Блейку посвящена страница в учебнике А. Аникста «История английской литературы». Автор относит поэта к «преромантизму». Он не без осуждения говорит о религиозности Блейка: «Враг церкви и духовенства, Блейк, однако, не был свободен от религиозных настроений. Его поэзия проникнута религиозно-мистическим ощущением таинственных сил, управляющих жизнью» [Аникст, 1956, 196]. Но он уже отмечает демократизм поэта: «Манере Блейка не чужда символика, которая оказывается у него средством выражения глубоко прогрессивных и демократических идей» [там же]. Аникст также пишет о поэте как о предшественнике Байрона и Шелли – «революционных» романтиков, предвосхищая мотивы советского оправдания Блейка.
В 1956 году на русском языке публикуется книга британского историка-марксиста А. Л. Мортона «Английская утопия» (в Великобритании она вышла в 1952-м), в которой Блейку посвящена часть главы и где сочувственно обозревается его творчество. Здесь, во-первых, окончательно завершается традиция подозревать у Блейка безумие: он «не был ни в коем случае сумасшедшим мистиком» [Мортон, 1956, 148]. Во-вторых, Мортон, как уважаемый и «прогрессивный» ученый, утверждает традицию говорить о Блейке как о поэте талантливом, даже великом, прежде всего – в силу демократичности его поэзии. Английский историк ставит рядом имена Блейка и Шелли: «два великих писателя-утописта того времени являются одновременно и двумя величайшими поэтами – это Блейк и Шелли» [там же, 143]. Пророческие книги таят в себе не «извращения буржуазного ума», а демократическое, даже революционное, содержание, пусть и высказанное в несколько смутных символах: «Все они, хотя и написаны в присущей Блейку символической манере, выражают основные идеи того радикального кружка, в котором он вращался и где преобладающее влияние принадлежало скорее Пейну, чем Годвину. В них переданы восторг по поводу свержения тирании и вера в наступление новой эры для Франции и всего мира» [там же, 149]. У Блейка Мортон находит и самобытную диалектику, что позволяет говорить о поэте как о завзятом марксисте: «он обратил свою диалектику против механического материализма, который рассматривал как доктрину капитализма на данной фазе развития» [там же, 150]. Книга Мортона открыла путь к пониманию Блейка как революционера и передового деятеля, и путь в советскую критику был ему, наконец, официально одобрен.
Советский Блейк официально «родился» вместе с оттепелью. В 1957 году, в год двухсотлетия поэта, о нем выходит столько публикаций по всему Союзу, сколько не выходило до сих пор [Афонин, 1957; Елистратова, 1957; Некрасова, 1957; Рогов, 1957; Уильям, 1957; Шагинян, 1957 и др.]: очевидно, о нем было разрешено открыто писать и говорить. 200-летие поэта было отмечено не только серией статей и брошюрами, но и выпуском марки с надписью «Уильям Блейк. Английский поэт и художник» (см. рис. 23): подобные марки вышли в этом году во многих социалистических странах.

Рисунок 23. Марка «Уильям Блейк». СССР. 1958
Решающую роль в «реабилитации» Блейка сыграло решение Всемирного совета мира о проведении празднований двухсотлетия поэта. «По инициативе Всемирного Совета Мира, 200-летие со дня рождения Блейка было встречено как праздник всего прогрессивного человечества» [Елистратова, 1960, 68]. Юбилейные статьи разных авторов вышли во многом похожими, с повторением одних и тех же соображений и даже одних и тех же цитат.
Блейк, с его «подпорченной» символистами репутацией, нуждался в серьезном оправдании в советском литературоведении. Аргументами для его оправдания стал революционный пафос его стихов, «рабочее» происхождение и гуманизм.
Блейк в глазах советского критика становился настоящим революционером: «Война за независимость США и в особенности французская буржуазная революция 1789–1794 годов озарили своим пламенем все творчество поэта» [Елистратова, 1957, 190]. Как отмечает искусствовед Е. А. Некрасова, в зарубежной литературе о Блейке «в большинстве случаев замалчивается его основное качество – неукротимого бунтаря и энтузиаста искусства» [Некрасова, 1957, 4]. «Темы рисунков и стихов Блейка и есть, в сущности, высокая пропаганда средствами искусства великих идей свободы, равенства, братства…» [Шагинян, 1957, 4].
Для марксистского литературоведения важно было подчеркнуть близость Блейка к народу: он «вырос в ремесленной среде» [Елистратова, 1957, 189], «вся жизнь Блейка была поистине подвигом самоотверженного труда» [там же, 190]. И, конечно, классовая борьба: «Поэзия Блейка, как и его живопись и графика, была живым вызовом общественной несправедливости, которую он так остро ощущал и так ненавидел» [там же].
Для введения Блейка в литературное поле советской критики было необходимо оправдание его религиозности. Ключом к этому оправданию стали гуманизм и «народность» его веры. «С <…> официальной, ханжеской религией господ, оправдывающей „волей божией“ общественное неравенство, угнетение, разрушительные войны, утопическая мечта Блейка <…> не имела ничего общего <…> Какие бы фантастические видения, какие бы силы неба и ада он ни изображал в своей поэзии, в центре ее всегда стоит человек» [Елистратова, 1957, 190]. О «Иерусалиме» из поэмы «Мильтон» М. Шагинян сообщает, что этот гимн «поется в наши дни рабочим классом Англии как боевая революционная песня» [Шагинян, 1957, 3], хотя в действительности он бытует как религиозный гимн и исполняется в храмах.
Наконец, пророческие поэмы Блейка трактовались как продукт творческого упадка, порожденный трагическим социальным одиночеством поэта: «Поворот, который, начиная со второй половины 1790-х годов, все заметнее проявляется в творчестве Блейка, во многом объясняется тем трагическим одиночеством, вынужденным отторжением от массового, народного читателя, на которое был обречен поэт» [Елистратова, 1957, 191].
Хорошим тоном в критике 1950-х годов стало осуждать переводы Бальмонта и хвалить переводы Маршака: «Бальмонт, переводя Блейка, крайне односторонне интерпретировал его, отбирая из него по преимуществу самые мистические и темные вещи и особо усиливая их символическую отвлеченность <…> переводы С. Я. Маршака из Блейка <…> – это живые цветы искусства, которыми советский народ встречает двухсотлетие со дня рождения Вильяма Блейка, великого романтика-гуманиста» [Елистратова, 1957, 192].
В целом представленные тенденции в освещении творчества Блейка сохранялись в течение всего советского периода. Только некоторые авторы боролись с узким, тенденциозным освещением фигуры и творчества Блейка: например, Татьяна Васильева из Кишинева, которая вступилась за «пророческие поэмы», отстаивая их эстетическую ценность и глубину содержания: «Без „пророческих книг“ Блейк еще не был Блейком. Именно здесь его поэтическое творчество достигло зрелости и расцвета» [Васильева, 1969, 34].
На протяжении всей советской блейкианы исследователям было очень важно отстоять «своего», советского Блейка, выпутать его из пелен ложных и злокозненных зарубежных толкований: «Возрождение интереса к Блейку <…> надолго приобрело односторонний и даже нездоровый характер» [Елистратова, 1960, 53]. «За кадильным дымом мистических и прочих произвольных толкований они <реакционные критики> старательно скрывают его подлинное лицо» [Некрасова, 1960, 5–6]. «Реакционная критика вела и ведет тайную и явную фальсификацию его творчества» [Васильева, 1969, 30]. При необходимости дать библиографию блейкианы можно было увидеть такую надпись: «Лучшие общие работы о У. Блейке, написанные с прогрессивных позиций» [Некрасова, 1960, 68].
В своем стремлении сделать Блейка главным образом революционером советские критики доходили до самых неожиданных комментариев, близких к вульгарному социологизму. Например, так Д. М. Урнов комментирует знаменитое стихотворение «Лондон»: «перед нами Лондон в момент особый, в ожидании французской интервенции и мятежа – революционный пожар вот-вот может перекинуться с континента на острова, в то же время в город могут быть введены прусские войска, вызванные английским королем, немцем по происхождению, так что апатия и тоска на лицах, наблюдаемых поэтом, – это не просто повседневные тяготы жизни, не только бедность, это тревога за судьбы родины» [Урнов, 1989, 90]. Г. В. Аникин и Н. П. Михальская прямо объявляют Блейка антихристианином: «Нравственные идеи Блейка несовместимы с христианской этикой» [Аникин, Михальская, 1975, 199]; очевидно, что исследователи настолько стремятся подчеркнуть революционный и антиклерикальный пафос поэта, что порой прямо противоречат его текстам.
Блейк становится в советской критике недостающим звеном в цепи развития «революционной» цепи тираноборческой поэзии: «Место Блейка в истории английской поэзии определяется тем, что он развил мильтоновское революционное переосмысление библейских символов и подготовил революционно-романтическую философскую поэзию Байрона и Шелли» [Аникин, Михальская, 1975, 200].
Советская ударная «битва за Блейка» привела к важному результату. Уже в 1975 году Е. А. Некрасова пишет о том, что советский читатель немало узнал о Блейке и полюбил его: «Блейк вдруг вошел в число общепризнанных и общепринятых, как-то само собой разумеющихся мировых имен. То, над чем мы (С. Я. Маршак, я и еще несколько человек) бились десятилетиями, наконец растолковано и объяснено. А ведь Уильям Блейк совсем не так уж прост для понимания и принятия» [Некрасова, 1975, 46]. Однако достаточно точен и ее вывод о том, что «эта популярность отчасти достигнута за счет некоторого упрощения – почти до прописных истин – философски-сложных и запутанных концепций его поэтических произведений» [там же]. Действительно, Блейк, прочитанный прежде всего как лирик, стал просто одним из ряда «революционных» романтиков.
В советской теории литературы романтизм был подразделен «на два основных течения (крыла) – консервативное (реакционное) и прогрессивное (революционное), которые различаются в первую очередь по характеру социально-политических взглядов и деятельности романтиков, по преобладающей связи их с реакционными или прогрессивными социальными силами» [Ванслов, 1966, 25]. Горький писал: «пассивный романтизм <…> пытается или примирить человека с действительностью, приукрашивая ее, или же отвлечь от действительности к бесплодному углублению в свой внутренний мир, к мыслям о „роковых загадках жизни“ <…> Активный романтизм стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета ее» [Горький, 2004, 615]. Эта классификация надолго утвердилась в советском литературоведении и определила особенности исследований романтизма. Считалось, что «у консервативных романтиков действительно преобладают бесплодные тенденции в мечтах, а у прогрессивных преимущественное значение приобретает реальное содержание их мечтаний. И это прямо связано с различием политического мировоззрения и социальных корней их творчества» [Ванслов, 1966, 26–27]. Блейк, писавший в своих пророчествах о революционном преобразовании мира, был однозначно отнесен к «прогрессивным» романтикам, также как Байрон и Шелли.
Однако в 1957 году исследователи еще не были уверены, что его можно в полной мере отнести к романтизму как таковому, и высказывались уклончиво: «Блейк был первым провозвестником романтического направления в английской литературе» [Елистратова, 1957, 189]. «Он стал предтечей революционного романтизма Шелли и Байрона» [Некрасова, 1957, 4]. Впрочем, и в Англии Блейк был признан одним из «большой шестерки» поэтов-романтиков только в 1970–1980-х годах.
В СССР и позже, в России, исследователи Блейка разделились на два лагеря: одни уверенно говорили о Блейке в контексте предромантизма, другие – относили его к романтикам. Это различие было важно, в частности, для классификации творчества Блейка в рамках курса литературы: для его исследования либо в рамках XVIII века, либо в рамках романтического XIX века, и эта задача была достаточно сложной как из-за непростой природы синкретического творчества Блейка, так и из-за сложностей в разграничении литературных направлений. Например, в хрестоматии 1988 года допускается такое почти комическое утверждение: «В области поэзии Блейк был революционным классицистом, а затем (в годы французской буржуазной революции) – первым революционным романтиком Англии» [Пуришев, 1988, 344].
Теоретик романтизма В. Ванслов относит Блейка к предромантикам [Ванслов, 1966, 11]. В учебнике 1967 года имя Блейка упоминается среди писателей XVIII века, говорится о том, что он – «прогрессивный поэт, горячо сочувствующий борьбе человечества за свободу, предшественник английских революционных романтиков» [Артамонов, Гражданская, Самарин, 1967, 429]. Н. Я. Дьяконова не находит возможным включить главу о Блейке в свою книгу «Английский романтизм. Проблемы эстетики», поскольку он был слишком изолирован от романтического движения [Дьяконова, 1978, 7].
В дальнейшем в советских и русских учебниках Блейк уже довольно уверенно относится к старшему поколению английских романтиков (вместе с Вордсвортом, Колриджем, Саути и Скоттом) [Аникин, Михальская, 1975, 195; Колесников, 1982, 61; Урнов, 1989, 88; Михальская, 2007, 158]. Д. М. Урнов пишет о том, что объединяет Блейка с романтиками: «В стихах Блейка немало созвучного романтикам: универсализм, диалектика, пантеистические мотивы, стремление к всеохватывающему, духовно-практическому постижению мира»; однако «в отношении к миру у Блейка проявляется такой мистический символизм, который был, на взгляд романтиков, чрезмерным» [Урнов, 1989, 90]. То есть сложности в определении принадлежности к литературному направлению сопровождали Блейка на протяжении всей истории его рецепции вплоть до конца XX века.
Убедительно о связи Блейка и романтизма в русской критике говорит А. М. Зверев: «Блейк был первым из англичан, кто выразил новое самосознание личности. Романтики в этом отношении были обязаны ему всем» [Зверев, 1997, 194]. Пророческие книги он называет первым романтическим эпосом; Блейк стал первооткрывателем романтического мифологизма [Зверев, 1982, 19]. Однако тут же Зверев утверждает, что Блейк не принимает таких общих мест романтической мысли, как «примат идеального над материальным» [там же, 20], и здесь он рассуждает как исследователь лирики Блейка: в крупных пророчествах весьма явно выражается идея бренности физического тела, которое является результатом «грехопадения» в мифологии Блейка.
А. А. Елистратова одна из первых утверждала, что Блейк – не просто предшественник романтизма, но поэт-романтик; она включила раздел о нем в свою книгу «Наследие английского романтизма и современность». Объединяет она великих поэтов-романтиков Англии, от Блейка до Китса, в общем, на основании единства социальной проблематики: «они в разной форме и с разной степенью последовательности и глубины стремились ответить на те новые важнейшие запросы и требования, которые вытекали из революционных социально-исторических потрясений их времени, – эпохи крушения феодального строя и установления буржуазного господства» [Елистратова, 1960, 43].
Признавая Блейка «пионером революционного романтизма», Т. Н. Васильева находит в его поэзии следующие признаки романтизма: субъективизм, демократизм, реакция на наполеоновские войны и промышленный переворот, борьба с догматизмом и буржуазной цивилизацией. Она же отмечает формирование в его творчестве нового жанра: лирико-философской, социально-утопической романтической поэмы [Васильева, 1969, 30–38].
Е. А. Некрасова отмечает: «Если применить к Блейку всю номенклатуру эстетических категорий, характерных для романтизма <…>, то все ответы будут точно соответствовать прогрессивной разновидности романтизма» [Некрасова, 1975, 46]. Эти критерии – в основном тематические:
– критическое отношение к капиталистической действительности;
– преувеличенная оценка значения искусства в освободительной борьбе человечества;
– борьба с механистичностью теории подражания;
– элементы диалектики;
– мечта о небывалом расцвете искусства в грядущем царстве свободы [там же].
Таким образом, все крупные исследователи Блейка в СССР: А. А. Елистратова, Е. А. Некрасова, Т. Н. Васильева, – настаивают на том, что он является полноправным представителем романтизма.
Крупнейшим исследователем Блейка как поэта в советское время стала кишиневский ученый Т. Н. Васильева. В ряде статей 1956–1976 годов она создала объемный образ Блейка – мифографа, эпика, мыслителя. В статье монографического объема «Поэмы Блейка („Пророческие книги“ XVIII–XIX вв.)» приводится подробный анализ пророчеств с цитатами в подстрочном переводе [Васильева, 1969]. Глубина и обширность истолкования ею эпической поэзии Блейка не имели равных на русском языке.
Она впервые в истории советской критики пишет: «Блейк поздних лет, и как критик, и как создатель „пророческих поэм“ с гравюрами к ним – гений английской литературы и искусства» [Васильева, 1969, 34–35]. Она делает вывод о причине очевидной сложности его поэм: «Сложность его поэзии – сложность значительных, имеющих объективную ценность мыслей, возникших в субъективном стремлении охватить и переосмыслить все причинно-следственные связи, истолкованные в XVIII в. в духе рационалистической догмы» [там же, 35]. Более того, исследователь утверждает мысль о единстве творчества Блейка, которая также в советской науке еще не звучала: «лирика составляла подтекст больших поэм и создавалась попутно с ними» [там же, 39].
Т. Н. Васильева говорила об оправданности сложной формы и непростого содержания поэм Блейка с позиций своего времени и говорила о его родстве советскому читателю: «Коммунистическому грядущему, его создателям будет близок и дорог Блейк, певец Свободы, Красоты и истинной Человечности» [Васильева, 1969, 310]. Не свободная от идеологических клише, работа Т. Н. Васильевой отличается глубиной и масштабностью; она интерпретирует поэта в широком контексте международных исследований. Однако автор так и не стала публиковать монографию, а ее диссертация [Васильева, 1971] и статьи, опубликованные в основном в Кишиневе, не были широко доступны для русского читателя.
Деятельность Блейка-художника, Блейка-гравера привлекала меньше внимания. Е. А. Некрасова много лет исследовала Блейка как художника, выпустила несколько статей и две книги, познакомив тем самым советского читателя примерно с сотней произведений автора [Некрасова, 1960; Некрасова, 1962]. Она отмечала растущее с течением времени мастерство Блейка-художника, не совпадающее, по ее мнению, с развитием его литературного дара: «Если в литературном наследии Блейка мы ценим больше всего его раннюю безыскуственную лирику, то в области изобразительного искусства он создает лучшие свои произведения в последние годы жизни <…> Он равно владеет мастерством живой и упругой линии, четко ограничивающей пластически ясные формы, и сияющими, „как драгоценные камни“, красками, образующими простые, лаконичные композиции» [Некрасова, 1960, 65].
Как отмечал историк книжного дела Е. Л. Немировский, в книгах Блейка «автор текста выступает <…> одновременно метранпажем-конструктором полосы, иллюстратором, художником шрифта. <…> То органическое единство текста и оформления, которое мы ценим в книге и которое не легко достигнуть, у Блейка само собой разумелось. Текст, иллюстрации, орнаментальное обрамление страниц тесно связаны, дополняют друг друга. То, что не сказал Блейк-поэт, обязательно доскажет Блейк-художник» [Немировский, 1986, 176]. Это важное замечание о синкретической природе произведений Блейка, его иллюминированных книг, однако, не получило продолжения: в советской критике, да и далее в отечественной традиции, Блейк исследуется, как правило, либо как поэт, либо как художник.
Можно согласиться с выводом Г. Токаревой о том, что «смелые попытки литературоведов 1950–1960-х годов дать общее представление о творчестве Блейка были лишь первым знакомством с художественной системой поэта, к тому же авторы были вынуждены интерпретировать его поэзию с учетом жестких идеологических требований эпохи» [Токарева, 2006, Миф… 4]. Вместе с тем, так или иначе, в советской критике произошел важный поворот в восприятии английского поэта, в общем повторяющий развитие западной блейковедческой мысли: от мистических трактовок Йейтса-Эллиса к социально-историческому подходу Эрдмана. Советская критика порицала оставшийся от символистской рецепции образ поэта-духовидца и провозгласила Блейка певцом революционным, критиком социальной реальности, тружеником и гуманистом. Как писала Т. Н. Васильева, «Блейк, поэт и художник, войдет с нами в коммунистическое завтра» [Васильева, 1969, 311].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.