Текст книги "Царь-рыба"
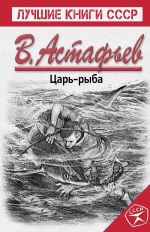
Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Приспел, не заставил себя долго ждать первый утренник, оглушил инеем гнус, искрошил мелкую траву, на свет выпросталось всякое тыкучее растение с мохнатым семенем, стало сорить на землю пухом, на кустарниках засветилась листва, до красноты ожгло бруснику в тундре, посыпалась остатная голубика, черника, раскисла поздняя морошка, княженица уронила в кочки последние мелкие ягодки, листья багульника свернулись туже в трубочки. По озерам, на обмысках и островах тронуло горчичной сыпью тальники, заклубились над рекой птичьи стаи, выжатые из озерных и болотных крепей намерзающей утрами коркой льда, которую днем ломало ветром и солнцем. Начищенное до белизны лоскутьем летних туманов, солнце полорото пялилось с высоты на тундру, объятую краткой и дивной красой. Ясное, не опутанное липкими мокрыми сетями, как озерный круглый карась, солнце еще пригревало в полдень, пусть исходным теплом, да все же грело, но там, где солнцу надо замкнуть дневной круг, легкая дрема примаривала светило, и день ото дня оно провязало глубже в тину дальних болот. Кем-то растеребленный птичий пух все плотней окутывал его, и в мякоти пуха оно долго нежилось утрами и возникало почти над головой, заспанное, ленивое.
Выбросив крестовину и выметав сеть, рыбаки рассаживались по местам: мать на корму, Аким за греби. С вечера можно еще плавать в рубахе и пиджаке, ночью – в телогрейке, к утру плащ приходилось надевать. Легонько пошевеливая веслами, Аким удерживал линию наплавков сети вкось по слабому течению и представлял, как там, в глуби воды, чуть помутневшей от морока первых ночей, вышли и пасутся на песках, словно птицы на ягодных полянах, косяки муксуна, чира, пеляди, омуля. Гладкими заостренными мордами рыбы тычутся в песок, выбирая мормыша, личинок поденка, жучка-плавунца, осыпавшихся на дно комаров, тлю, мохнатых ягодных бабочек и всякую козявку, сбитую на воду ветром и холодом. Жирует рыба перед зимней полусонной жизнью. Если блошка, козявка, червячок какой не захочет, чтоб его съели, зароется в песок, в жидкий слой наносного ила, рыбы тревожат дно кто крылом, кто хвостом, кто поддевает песок нижней губой, будто лопатой: муть, супесь пропускают через жабры обратно в реку, козявке же иль червяку через гармошку жабер не проскочить. Прямой ей путь в ненасытную, чуткую рыбью пасть. Еще козявка лапки не сложила, не смирилась с судьбой, еще брыкается в тесноте рыбьего чрева, а уж пошла работа на перевар, выделился сок, который мигом размягчает и рассасывает не только мягкопузую козявку, но и кость – ракушку, мелкий камешек, словом, варит рыбье брюхо, что боганидинский артельный котел. Касьяшки-варначье с досады раскололи его камнями.
Эх-ха-ха! Ни котла, ни бригады, осень надвигается, за ней зима подкатит, она тут резвая, не временит в пути, навалится – держись! Сроку ей половина года, когда и больше, а там весна, совсем не красна, зато голодная.
Не давая ходу тяжелым мыслям, Аким насильственно заставлял себя думать дальше, о том, что происходит не в миру, не на свету, а в воде, под лодкой. Там, внизу, следом за большой рыбой, вспахивающей дно реки, будто пашню – Аким видел пашню в кино, – теснятся косяки тугунка, ельцов, селедок и этого рванья, шпаны-то водяной – ерша, про которого опять же бригадир так славно и складно сказал: «Ухи из ерша съешь на копейку, хлеба расплюешь на рупь!» Подбирает мелкота все, что плывет следом за плотными косяками строгой, жирующей рыбы, и, обнаглев, иной ершишко затешется меж чиров иль муксунов, выхватит из губатого рта рыбины вьюнка или козявку, та покосится на нахала, гляди, дескать, я терплю, терплю да и ахну хвостом! И бывает, рассердится вальяжная, косячная рыбина, мотнет мордой, шарахнет хвостом – тучи мелкоты тогда, взрябив водяное поле, метнутся кто куда, высыплются на отмель, забрыкаются по опечкам, а их чайки цап-царап, цап-царап! У этой пташки не зазеваешься, она настороже днем и ночью и век голодная, нутро у нее, как решето, – всякий корм насквозь просеивается без задержки. Только вот влетела белым метлячком живая мулявка в визгливое горло и сей же миг выпала из-под хвоста известковой кляксой. «Ваших нет!» – говорили картежники в боганидинском бараке. Чайка ярким клювом перья чистит, холит себя, дородную. Сварливая птица, неспокойная, жадная, а улетит – пусто без нее на реке, будто в нынешней Боганиде. Вот перестала чиститься чайка, приподнялась на розовых лапках, толкнулась, взлетела, хвать рыбину с воды, больную, поврежденную ли, поверху полоскалась рыбина; чайка – санитар, чайка реку чистит, рыбий род крепит, выедая слабую и заразную тварь, мальков на отмелях пежит, физкультуру им делает, осторожности учит.
Катятся мысли Акима, катится сеть по чистому песчаному дну. Дрогнули ряды поплавков в серединном урезе сети, засуетились поплавки, запоныривали и огрузли – большая рыбина втяпалась, может, осетр, может, таймень, может, и нельмища. Пришла нельма, пришел осетрина или таймень-бандюга на отмель, затесался в толпу косячных рыб, толкается, корм из-под носу выгребает да еще норовит схватить зеворотную рыбину, какая ему по глотке, а того не видит, что, пока шухер наводил, будто блатняга в клубе, по песчаному дну, вкрадчиво побрякивая костяными кибасьями, наползла сеть, и облачком колышущийся подбор коснулся паутиной ниток наглой морды. Не понимая, что это такое посмело мешать ему жрать и развлекаться, тряхнул мордой разбойник и почувствовал на крышках жабер петлю ячеи – сразу в панику. Хищник любит сам хапать, но чтоб его ловили – ему не по сердцу.
Тягу хотел задать, рванулся изо всей дурацкой силы. Верток, силен хищник, но на месте ему не развернуться, непременно его вперед бросит, значит, дальше в сеть. Рвать ее, пластать противную, удушливую возьмется, забушует, завозится и вдруг отяжелеет, повиснет в сети, увлекая тетиву и наплавки в глубину.
Косячная рыба спокойна, нетороплива, пятится перед сетью, не переставая кормиться, – не хочется ей покидать кормные отмели, шевелиться лень – ожирела. Сеть подсекает нижней тетивой косяк, сгребает его, будто овощ в мешок.
«Так-то вот! Не зевай! Кто-нибудь кого-нибудь все время имат и ест!..» Боганидинская тоня четыре версты. Чего только не передумаешь, пока проплывешь ее с сетями по тихому, едва заметному течению. И нет на этой тоне лодок, словом перемолвиться не с кем. Осталась в Боганиде Афимья Мозглякова – караулит имущество: матрацы, койки, одеяла, невод да всякий разный инвентарь. Еще Киряга-деревяга остался. Слух есть, скоро и они уплывут в поселок Чуш. Тамошний рыбкооп примет по акту инвентарь и определит Афимью с Кирюшкой на работу. Что будут делать касьяшки на Боганиде – ума нет! Мать думать так и не научилась. Болтает вон ногой за бортом, дымит цигаркой, щурится блаженно и поет все одно и то же, про малину да про калину.
В начале сентября накоротке, но буйно вспыхнет тундра и сделается сплошь облитой раскаленным металлом – это разгорится мелкий, черствый листок на карликовой березке, на голубичниках, тальниках. Скромным ситчиком зарябят болота, на которых багульники будут держать окорелый продолговатый лист до больших холодов, а потом потемнеет, отмякнет тундра, и сразу же сделается голым-голо, всюду проплешины выявятся, выступят серые камни, сухие кусты, хламье мхов, паутина сопревшей травы, лишь ярче, пламенней загорится от брусники беломошье и угаснет уже под снегом.
В предчувствии недалекой зимы справит скромная северная земля свой последний в году праздник, обмерев от собственной красоты на неделю-полторы. А потом как бы пробно шевельнет ее легким ветром, выдует искру из громадного костра, покружит ее и загасит. Ветер станет набирать силу, загустеет искровал, заполощется яркий, короткий листобой по широкой земле, и в полете, в круженье угаснет северный листок; на земле, не догорая, он сразу остужается, прилипает к моху, и становится тундра похожа на неглубоко вспаханную бурую пашню. Но земля еще дышит, пусть невнятно, а все же дышит прогретым за лето недром, и несколько дней кружат над тундрой, надо всем неоглядным раздольем запахи увядающего лета, бродит пьяная прель гонобобели и водянки, струят горечь обнажившиеся тальники, и трава, редкая, северная трава, не знающая росы, шелестит обескровленным, на корню изжившим себя стебельком.
Вдали, где берега Енисея зависают над бездной, все гуще порошатся сумерки. Оттуда, с севера, с полуночных мест наплывает, полнясь в пути чугунной тяжестью, долгая ночь. Глядя в не сомкнувшийся пока, но уже заметно сблизившийся створ берегов, все лето двумя длинными, зелеными отводками враставших в светозарное небо, Аким ощущал, как всасывает его, мать, лодку, сеть с крестовиной и все, что есть вокруг них, та, пока еще далекая, но ниже и ниже нависающая, тяжелая наволочь. Стонали чайки, плакали гагары, сбивало в кучу птиц, катало их с места на место. То рассыпая широко, то сжимая вдохом вроде бы. Беспокойством охваченные птицы ввергали в беспокойство и все вокруг. Скоро-скоро начнет отжимать холодами табуны на юг, дальше и дальше от родных гнездовий. А пока возле табунов стояли на песках, высоко подняв головы, сторожевые гуси; хлопали мягкими лопатками клювов лебеди, прощупывая донный ил, выбирая из него еду; по приплескам на долгих ногах за кем-то гонялись не ведающие горя, всегда хлопотливые и вроде бы хмельные кулики; растревоженно клохтал в кустах куропан, ему никуда улетать не надо, однако все равно неспокойно. Водой кружило все гуще сыплющихся мошек, мотыльков. Пена кружилась в курьях, уловах, по заплесьям. Тесто пены протыкали, теребили из-под низу рыбы – начался ход туруханской селедки и редкого уже на Енисее омуля. Гуще, стайней сбился на кормных отмелях муксун, ближе к ямам покатились чир и сиг. В такую пору можно и нужно плавать круглые сутки. Но не на службе, не в конторе, не у заводского станка Аким с матерью, эка беда, лишнюю тоню не сделают, три-четыре центнера рыбы не поднимут – ее ловить не переловить!
Переглянутся меж собой сын с матерью, да сразу и поймут друг дружку. Мать табанила веслом, поворачивала лодку, Акимка подгребался лопашнями к бережку. «Ах, Самара-короток! Ниспакойная я, нис-па-ко-ойна-я й-я-а-а, ус-па-ккой-ой ты мин-ня-а-а…» – выбирая на уху рыбу, напевала мать, и хорошо у нее получалось.
После ушки и чая рыбаки отдыхали, нежились на песке, возле огонька, всхрапывая безмятежно и вкусно. Ни комара тебе, ни мошки, ни слепня, и солнышко еще нет-нет да и порадует теплом. Аким просыпался раньше матери, выплескивал воду из лодки, стараясь не стучать веслом, подскребал шахтару совком, крестовину в лодку заносил, крюк и все, что нужно на тоне. Пора бы и сеть набирать, да жалко будить человека. Спит у костерка мать, улыбается чему-то. Снова и снова дивуется парнишка тому, что эта вот женщина или девчонка в мокрых бродешках, в заправленных за голенища мужицких брюках, поверх которых платьишко, увоженное чешуей и рыбьими потрохами, взяла вот и произвела его на свет, дурня такого! Подарила ему братьев и сестер, тундру и реку, тихо уходящую в беспредельность полуночного края, чистое небо, солнце, ласкающее лицо прощальным теплом, цветок, протыкающий землю веснами, звуки ветра, белизну снега, табуны птиц, рыбу, ягоды, кусты, Боганиду и все, что есть вокруг, все-все подарила она! Удивительно до потрясения! Надо любить мать, жалеть ее и, когда она сделается старенькая, не бросать, отблагодарить добром за так вот просто подаренную жизнь…
Но матери не суждено было стать старенькой. Весной она ездила в Плахино, за Акимом и Касьянкой, получала деньги в колхозе, пировала в клубе после собранья, пряталась на берегу с мужиками. Летней порой она тайком выпила из консервной банки черный порох, смешанный с паяльной кислотой, – так научили ее многоопытные плахинские женщины: «Семеро по лавкам! Хватит! Без артельного стола дай Бог этих голодом не уморить, и кто будет возиться с восьмым?» И мать соглашалась с женщинами: «Конесно, конесно, Касьянке и Акиму школу хоть бросай. Без грамоты они на реке вечно будут колеть. С грамотой же Касьянка в воспитательницы детского сада выйдет или портнихой научится. Акимка заменит Кирюшку, рыбным начальником поступит».
Перед тем как пить изгонное зелье, мать зарыла в землю гнилую ногу павшего оленя, положила под порог нитку с иголкой, а приняв питье, полежала на топчане, шепотом повторяя: «Помяни, Господи, сыны эдемские во дни Иерусалимовы глаголящие: и стощайте до основания его», – этим словам ее тоже плахинские женщины научили, но она их не смогла все запомнить, и грамотная Касьянка записала говорку на бумагу и, где мать забывала, помогала ей по записке.
Ребенок, по счету восьмой, из матери ушел. Какой он был, куда и как ушел – никто не видел. Мать пожила смирно сколько-то дней, потом, как бы отшибая от себя горе, тряхнула головой: «Нисё-о-о-о!» – и первое время, как и прежде, шуточки шутила, ребятишек просмеивала, табачок покуривала, но все как бы вслушивалась в себя, и тень вечной, северной печали меркла во тьме глубоко запрятанного страха, и все чаще мать хваталась за поясницу и, обмерев, спрашивала: «Ой, сё зэ это тако со мною?..»
За лето мать одряхлела, согнулась, окосолапела, как старая медведица, румянец давно погас на ее щеках, глаза подернулись рыбьей слизью, на ветру из глаз текло, и белая изморозь насыхала, крошилась из беспрестанно дрожащих уголков подглазниц. «Нисё-о-о, пройдет!» – уверяла она себя и ребят, но уже не улыбалась при этом, и голос ее был тускл, и взгляд отгорелый. Забросила она курить табачок, перестала петь, после и разговаривать, ела через силу, слабея на глазах. Набирая сеть, она вдруг закусывала губу до крови, роняла тетиву, наваливалась на остро затесанную кокору носа лодки животом и что-то выдавливала из него. Лицо ее черное, глаза ее, ввалившиеся не в глазницы, а словно в искуренные трубки, подавались наружу и из черненьких, смородиново поблескивающих, становились, как у русских баб, светлые и большие. «И-и-и-ий!» – визжала мать. Ребятишки, глядя на нее, кричали со слезами: «Мамоська, не надо! Мамоська, не надо!»
Преодолев что-то в себе, сломавшись в пояснице, мать ползла на корму лодки, брала весло и, пока сплывали к тоне, выла одиноко и страшно: «О-о-о-ой! О-о-о-о-ой!..» Но страшней воя было, когда мать пыталась вспоминать наговоры, шевелила изгрызенными до мяса губами: «Утверди и укрепи… как на той сыро-матерной земле, нет ни которой болезни, ни ломоты, ни опухоли… О-о-ой! – сотвори, отвори… укрепи жилы, кости, бело тело… О-о-ой! Не могу, Якимка! Не могу больсе! Сто зэ ты смотрис, сыносек? Помоги своей мамоське, ради поха!»
Изморная погода дождями, снеговой мокретью отделила двух рыбаков от всей остальной земли и людей, зови – не дозовешься, кричи – не докричишься! Затерянные в безбрежье подросток и больная, изувечившая себя женщина привидениями лепились в лодке – один в лопашнях, другая на корме. Аким везде за мужика, он и под кибасья, под нижнюю, тяжелую тетиву становился, сети на вешала таскал, он и рыбу выгружал, он и лодку на бечеве с тони к избушке поднимал, до того изработался, измок, простыл, что все в нем резиново пошамкивало, хрустело. Изнуренно, неподатливо выбирал двустенную, крупноячейную, сажен на сто, сеть, рыба в которую путалась уловисто, но не было уже от этого радости, только боль в руках, сведенных холодом и треснутых от мокра, да тупая тревога на сердце: «Что будет дальше? Что?»
И тревогу, и всякую боль старались оглушать спиртом. Поначалу питье вышибало слезы из глаз, прожигало от горла до кишок, рвало в клочья живот, но куда денешься, надо греться, чтобы работать. Втянулся, привык к спирту Аким, а у матери питье вдруг начало выливаться обратно, она потрясенно вытирала подбородок, глядела на руку, на парящий, побелевший от спирта дождевик и побито, недоуменно таращилась на сына, о чем-то спрашивая его взглядом.
Аким сердито, как ему казалось, на самом деле в ужасе отвернувшись, промаргивался на ветер. Ничем он не мог помочь матери. Надо было работать, рыбачить, план они не добрали. Что получат после путины? Сколько? Чем кормить семью? Во что одевать? Неужто пропасть им всем в одичавшем поселке Боганида, на пустом, бездорожном берегу? Раздражение и жалость, отчаяние и тревога терзали парня, хотелось порой изматериться по-мужицки: «Ну што? – сказать матери. – Гулять, плясать да ребенков делать хорошо было? Чего теперь вот нам делать?!»
Больной человек, обостренно все чувствующий, из подростка в старушку перешедшая мать старалась искупить вину терпеньем и стараньем в работе. Держась за борт лодки, она перебиралась к подтоварнику, стояла над сетью в дождевике, в мокрых верхонках, закусивши в губах плач и вой, механически перебирала тетиву. Но хватало ее уже ненадолго, она часто роняла подбор иль останавливала движенье рук, словно бы заснув над сетью, и тогда «старсый» всаживал в нее яростный взгляд, и не взгляд, прямо сказать, острогу. Она подхватывала сеть, суетливо перебирала руками, но рыбу вынимать из мокрых ячей уже не могла, не гнулись пальцы и поясница не гнулась, как наклонится – голова ее передолит, и она ткнется носом в мокрый, шевелящийся от рыбы, ворох сети, притаилась вроде бы, играет, но глаза под лоб закатываются, и все шепчут, отмаливают беду изорванные в клочья губы: «На ретивом сердце, на костях ни которой болезни, ни крови, ни раны… как больно-то мне. О-ой-е-е-о-оой!.. Един архангельский ключ меня… твоя… сохрани, коспоть, сохрани и помилуй, хоросынький ты мо-ой!..»
– Се молотис языком, неверующая дак! – сердился Аким и тут же укрощал себя. – Господь, он русский, а у тебя мать долганка!
– Пох один, сыносек, сказывали зэнсыны, – смиренно ответствовала мать, опустив страданием испеченные глаза. И хоть не до конца, хоть отдаленно, до паренька доходило: чтобы матери выжить, надо ей во что-то верить, надеяться на помощь. Она привыкла ко всегдашней помощи от людей, но люди разъехались из Боганиды, и некуда было деваться, надо тревожить Бога, да шибко, видать, провинилась перед Ним мать, много нагрешила, и Бог не поворачивался к ней милосердным ликом.
Пришел день, когда мать не смогла выйти на тоню, свалилась окончательно. И тогда, страшно матерясь и дрожа от гнева, старший загнал в лодку двух братьев-парнишек – жрать рыбу могут, значит, и ловить ее годятся.
За хозяйку и сиделку в доме оставалась Касьянка, исхудавшая до того, что вроде насквозь светилась под кожей каждая в ней косточка. От недосыпов, от непосильной работы у нее кружилась голова, шла носом кровь и, как у взрослых изработанных женщин, ломило руки. Аким знал, что и неугомонная Касьянка вот-вот занеможет и тогда всем пропадать.
Встречь уже отлетающим табунам птиц пришел с верховьев катер, на нем приплыла за инвентарем – имуществом Афимья Мозглячиха, попроведала касьяшек, оглядела мать, в бреду шепчущую: «никакой болезни… ключ един… ни раны, ни ломоты…» – и покачала головой:
– Отгулялась, дева. Смертные в тебе ключи открылись. В больницу край надо, – и увезла мать на катере обратным ходом, сказавши, что за остальными касьяшками приедут из колхоза.
Уж по шуге обстановочный пароход «Бедовый» сбирал с реки бакены, выключал перевалки и привычно подвалил к Боганиде – за рыбой, думали касьяшки. Но по крутому, скользкому трапу, держась за деревянные ребра, задом вперед спускался человек с такой знакомой, засаленной до черноты деревяшкой, и, когда оказался на берегу, загреб, сколько его рук хватало, ребятишек и, тычась голым, мокрым лицом в жестковолосые головы, повторял, давясь слезами: «Сиротоськи вы, сиротоськи!» – с горя, с вина, от простуды ли голос Киряги-деревяги засадился, и слышалось только: сы-сы-сы – так что ребятишки и не разобрали, чего он говорил и почему плакал.
Быстро скидали касьяшек на «Бедовый». Радостно им было куда-то плыть из запустелой Боганиды, носились по палубе, играли, смеялись. Аким с Касьянкой хотя и унимали ребят, стараясь проникнуться горем, но у них тоже ничего не получалось – привыкли жить без горя и загляда вперед, да и слово «смерть» не вязалось с их матерью, невозможно было поверить, что вот была она, их мать, и почему-то, как-то ее не стало? Такой человек, как ихняя мать, может видеться только живой.
Киряга-деревяга увез Касьянку в ремесленное – учиться дома мазать, белить и красить. Всех остальных касьяшек сельсовет из Плахино отослал самолетом в енисейский детдом. Лишь Аким задержался, затаив мечту пристроиться на славный пароход «Бедовый».
Зиму он проколотился в городском интернате, на казенном довольствии, учился так-сяк, больше времени проводил не в школе, а в затоне, добровольно и бескорыстно помогая вымораживать и ремонтировать «Бедового», занимательную историю которого, а также его нрав и все на вид суровое и невзрачное судно досконально изучил. За трудолюбие, за преданность речному делу команда полюбила подростка, и он без «Бедового», с ранней весны и до осени выполняющего главную на реке задачу, уже не мыслил своей жизни. Прямо вслед за ледоходом мятое, кореженое, битое, тертое суденышко бесстрашно перло по реке на север, засвечивая сигнальные щиты по берегам, соря по воде красными и белыми бакенами, и пока «Бедовый» не произведет эту работу, никакого, по разумению Акима, пути по реке не было и быть не могло. Оттираемый льдом, последним покидал реку «Бедовый», собирая уже истрепанные, штормами побитые бакены с облупившейся за лето краской, и, случалось, не успевал улизнуть в затон, вмерзал где-нибудь в нежилом месте в лед, однако пароходные люди не покидали родное судно, выкапывали в берегу землянки, стерегли «Бедового», вымораживали изо льда, наводили на нем марафет, какой возможно, подновляли название и рубку краской, драили рупор, машину, руль, помещения, поднимали пароход на деревянные катки и с помощью пароходных же лебедок, будто быка на аркане, затаскивали его в отбойное место иль в залив, в неходовую ли протоку, словом, туда, где не раздавит судно ледоходом.
Самым большим начальником по путевой обстановке на «Бедовом» был Парамон Парамонович Олсуфьев, человек совершенно неприступной значимости и такой внешности, что посылать его работать на другие суда, особенно на пассажирские, было невозможно – он бы всех пассажиров распугал своим видом и особо голосом. К нему-то и ткнула команда подростка, заранее, впрочем, решив его судьбу, но чтобы Парамон Парамонович подверг новичка «экзаменту», какому каждого из них он когда-то непременно подвергал.
– Что ты можешь, человек? – выкатив глаза из-под бровей, словно дули из рукавиц-лохмашек, проскрежетал грозный начальник.
– Сё могу! – пискнул Акимка, невольно повторив хвастовство Киряги-деревяги и еще больше оробев от этого.
Кривя налимью губу, Парамон Парамонович выдохнул воздух, что пароходный котел.
– Ха! – и ткнул пальцем в поленницей лежащие на берегу газовые баллоны. Аким догадался: изделие это ему следует нести на «Бедовый». Нести так нести. Он подставил правое плечо. Пароходные люди, пряча смех, опустили баллон в шестьдесят пять кило на паренька и прекратили всякую работу, ожидая потехи.
Аким шел по трапу, с удивлением, затем с ужасом чувствуя, что баллон с каждым шагом становится тяжелей, давит его сильнее, и отчего-то краснеет небо, река, солнце, пароход «Бедовый», люди красными кузнечиками подскакивают, сыплются в красную реку…
На середине трапа Акима начало кренить в красно зияющую бездну, и только сознание ответственности, боязнь за несомую штуковину, крашеную, с блестящим вентилем, с картинкой, изображающей пожар, – дорогая поди-ко! – удерживали его на ногах, падать, так вместе, нельзя потоплять такую красивую, дорогую вещь – за нее с начальника, Парамона Парамоновича, взыщут… Где-то, уже в полете, в воздухе Аким был подхвачен, поставлен на ноги.
И когда рассеялось красное облако, увидел хохочущий народ и себя, стоящего в обнимку с баллоном.
– Запомни: все может один только Господь Бог! – поучительно подняв палец, рокотал довольнехонький начальник. – А что, погибая, баллон не упустил – свидетельство в твою пользу.
По снисходительным словам и по тону Парамона Парамоновича Аким заключил, что дела его вроде бы складываются благоприятно, надежда, чуть теплившаяся в нем, крепла, а когда супруга начальника, такая же большая, дородная, только волосом светлая, покормила паренька рыбным пирогом и, слушая про его жизнь, жалостно ширкала носом, совсем непохожим на мужнин «руль»: «Тихая ужасть! Это тихая ужасть!» – Аким окончательно поверил: экзамен он выдержал и на «Бедовом» закрепился.
Не учеником, не салагой – полноправным рабочим был взят Аким в обстановочную команду и зарплату получал со всеми наравне. Чтоб не одиноко ему было среди взрослых и не хватался бы он за надсадную работу, чего Аким все время норовил делать, по ранешной жизни в Боганиде ведая: хлеб надо отрабатывать хребтом, Парамон Парамонович принял еще одного подростка, и нигде, ни в чем, ни в колпите, ни в премиях, ни в каком другом довольствии, их не ущемлял, кроме выпивки.
Сам Парамон Парамонович крепко пивал и после запоя искупал застарелую вину перед человечеством поучительной беседой о своем «пагубном» примере, обличал себя, казнил: «Я б счас, юноши-товаришши, при моем-то уме и опыте где был? – Парамон Парамонович надолго погружался в молчание, выразительно глядел ввысь и, скатываясь оттуда, поникал. – Глотка моя хищная всю мою карьеру сглотила!..» Пытаясь воздействовать на подростков, отвлечь их от дурных привычек, начальник не жалел денег на культуру, постоянно обновлял судовую библиотеку, при первой возможности отпускал их с борта на танцы и в кино.
В низовьях Енисея и летом бывают затяжные, дикие шторма, что уж говорить об осени? Сечет снегом, хлещет водой через борт, согрев же, как и на боганидинской тоне, один – спиртяга. Да и на берегу не знали парни, куда девать время и деньги. Питание почти бесплатное, рыбы, дичи, ягод на борту всегда навалом, а уж дружбы, согласья в работе и отдыхе – хоть отбавляй. На всю катушку раскрутят душу истосковавшиеся по суше речники. Девчонки откуда-то возьмутся. В шестнадцать лет оскоромился Акимка, а оскоромившись, вспомнил, как мать ему грозила пальцем, щуря смоляные глазки: «Весь в меня посол!..»
Боганида, Боганида! Не отболела она, помнилась хорошо, худое все забылось, да и было ли оно, худое-то – сравнивать не с чем. Однажды проходили Боганиду днем. На пустынном, зализанном волнами берегу ни следочка. Тощими кустами, шерстью травки и моха волосца сросся с тундрой родной берег. Ушли в землю избушки поселка, дурная, могильная трава на них занялась, чернобыльником зовется. Откуда-то занесло пух кипрея и цепкое семя крапивы, никогда здесь не росших, сено, наверное, на барже возили, вот и остались семена, лежали, пока не дождались запустения. Крайняя избушка, в которой Аким вырос, жили его братья, сестренки и мать, исчезла – весной ее своротило ледоходом, заволокло песком яму, прелые гнилушки растащило по тальникам. Артельный барак проломился в спине, хрустнул скелетом, опал, выдавив окна, ощетинившись обломками теса; за выпавшей стеной барака, закрещенная балками, белела русская печь. В будке Мозглячихи пестрая штукатурка обнажила под собой ромбиками набитую лучину. Не от хлопающей серой толи, не от двух столбов турника, не от хлама и травяной мглы, а от упрямой белизны печки, все еще не сдающейся, хотя и покинутой, сжалось сердце в Акиме. И еще при виде будки – незаметная, стыдливо упрятанная прежде, выперла она на глаза, главным сделалась сооружением, и на нее, издали видную, правились суда. Над развалинами барака стойко торчал пароходный свисток, изображавший антенну, волосьями спутались, хлестались на ветру огрузки проводов; в песке видны два пенька от артельного стола, и на них, поджав лапки, стояли молчаливо две чайки. Чуть выше в кудри седой травки под названием редодед лемехом впахался ржавый обломок чугунного котла.
Все эти мелочи Аким отмечал мимоходно. Он не отрывал, не мог оторвать глаз от белым экраном мерцающей в глуби пустого барака печки и видел картинки недавнего детства. Здесь, на этом берегу, от весны до зимы гоношился артельный народ, полковником гремел Киряга-деревяга, училась жизни и песням беловолосая Касьянка, варилась уха в бригадном котле, за длинным дощатым столом изо дня в день, из года в год властвовало артельное дело и слово, и за спинами взрослых, рабочих людей, точно в заветрии теплого барака, вырастали самодельные касьяшки и все другие дети. На белой печке, используемой вместо экрана, худой человек подкрадывался убивать собаку Белый Клык, и мать не выдержала: «Вы се зэ, музыки, смотрите?!» – закричала и бросилась отбивать собаку. Но мать, известное дело, дитем всегда была. Гулыпой – ненец, взрослый мужик, охотник, приехал на оленях из-под Сопочной карги в гости, на печку-экран с ножом бросился, увидев медведя. А праздник – начало путины! Разве забудешь мать в морошковом платье, с голубой косынкой на плечах? Закрой глаза, и слышно, как, гремя половицами, сорванными с гвоздей, откаблучивает она, прикрывая рот косыночкой, а на косыночке порхают голуби, и то исчезает, то появляется слово «мир», и не надо ломать голову, что оно означает; мир – это артель, бригада, мир – это мать, которая, даже веселясь, не забывает о детях, блестящими глазами отыщет их, навалом лежавших на русской печке, подмигнет им, и хоть они малые, им тоже хочется скатиться с печи, затопать, запрыгать, забрякать половицами, кого-нибудь обнять, стиснуть, подбросить в небо – мир и труд – вечный праздник жизни!
Аким не хоронил мать в землю и не мог похоронить ее в душе. Он потихоньку верил, что однажды пристанет к берегу колхозного поселка, а там, на камне, мать в морошковом платье, с больничным узелком в руке, – его дожидается. «Якимка ты, Якимка! – скажет. – Сё же ты так долго плаваш? Я уж прямо вся изождалась!» – и потому в ответ на предложение Парамона Парамоновича пристать в устье речки Боганиды, навестить станок – какая ни на есть родина, на кладбище, может, кого попроведать, задрожал губами и тонко, с провизгом закричал:
– Никто здесь не жил! Никто не похоронен! – и, звякая, сбежал по железным ступеням в машинное отделение, где он всегда хоронился, если смутно становилось на душе.
Больше Парамон Парамонович не предлагал останавливаться возле Боганиды. Приложив бинокль к глазам, подолгу глядел он туда, где был и стерся с земли поселок Боганида, развалился, уполз с подмытого берега и барак, бревна, тес растащило половодье по опечкам и островам, место, где дымил трубами станок, заглушило бурьяном, раззявленной пастью вниз упала желтая будка, мерзлотой вытолкнуло последние кресты на кладбище, бугорки могил стащило в кучу, сровняло кореньями кустов, и исчезли оба столбика от артельного стола, только острый клин чугунного котла торчал из супеси, но и за ним насыпало ветрами землю, по бугорку взбиралась травка, заслоняя собою и этот предмет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?






































