Текст книги "Родительский день"
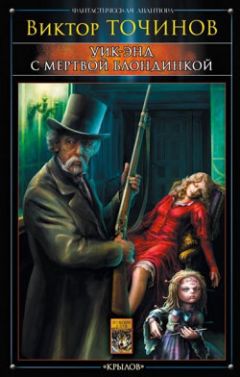
Автор книги: Виктор Точинов
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Триада двадцатая
Чужой среди своих
1
Кирилл бежал по главной и единственной улице Загривья. Он опять оторвался, хоть и с б<О>льшим трудом, – шум погони не слышен...
Но самое главное – он разгадал загадку, он сумел...
Решил простую такую задачу: как остаться живым? Как остановить кошмар?
Нашел ответ на ходу, на бегу, – в буквальном смысле на бегу, после того, как мерзкие твари согнали его с лежки в колючих кустах возле кладбища...
Почему, кстати, согнали? Выследить не могли, оставил их далеко позади, сил тогда хватало, еще хватало, это сейчас нога все хуже слушается, все чаще спотыкается и подламывается...
Выследить не могли. Значит – почуяли, значит, они издалека чуют свежую кровь, свежее мясо... Возможно, за километры... И вариант с ночным марафоном к Гдовскому шоссе – не проходит. Даже если случится чудо, даже если его у самого поворота на Загривье поджидает, как рояль в кустах, попутка, – не проходит. Не добежит, ослабеет от кровопотери, без сил рухнет на обочину, – и услышит приближающийся мерный топот... И всё для него закончится.
Чем все закончится для Марины, что сейчас происходит в доме Викентия, – он не брал в голову. Если и задумывался мимолетно, то ответ был один. Короткая емкая формула, пришедшая в голову на бетонке, ведущей к свиноферме: хер-то с ней!
Ее проблемы – это ее проблемы. Проклятая сука по своей воле влезла в здешний кошмар, да еще и втянула его, Кирилла, – пусть выпутывается, как знает. Давай, давай, выпутывайся! Когда в окно полезет зомбяк, вцепись-ка ему в член коготками! Вмажь-ка ему в морду, как вмазала бедной Калише! Слаб<О>, сучка?!
Он знает, как спастись, – но в лодке место для одного, балласт за борт... За борт, любимая, за борт, в болотную жижу, – попробуй-ка подышать ею, у некоторых получается... В Сучьем Мху испокон топили сук, не живут сычи на болотах...
Ответ к этой задачке прост... Не хочешь тонуть – схватись за спасательный круг. Если он есть под рукой, понятное дело, если тебе его бросили.
А ему бросили. Ему – не ей, не «расфуфыреной кикиморе», – бросили! Бросила личность, сидевшая на бревнах у магазина. Дьявол в засаленном ватнике с обрезанными рукавами.
Стань своим, сказал дьявол. Стань своим, и все будет хорошо, и не придется, как загнанной дичи, метаться во тьме, истекая кровью, – сиди спокойно за крепко запертыми ставнями, слушай отпугивающую мертвецов музыку, она не очень благозвучная, но ничего, привыкнешь.
Иди домой и думай, сказал дьявол, – Кирилл пошел, и много думал, и понял, что готов стать своим, он всегда хотел стать своим, да всё не складывалось, все мешало что-то...
Он спешил к магазину в дикой, иррациональной надежде: дьявол еще там, сидит на бревнах. И Кирилл станет своим, хотя бы на эту ночь, хотя бы до рассвета.
Никто там, естественно, не сидел.
И где искать дьявола, Кирилл не представлял. Ваше решение задачки, молодой человек, остроумное и даже правильное, – но увы, время экзамена истекло. Незачет. Двойка.
Он рухнул на бревна – ноги не держали. Застонал от обиды, от горького разочарования. Делать нечего, будет сидеть здесь, и пытаться восстановить силы... А потом опять побежит...
И тут же вскочил. Рябцев! Тот явно им сочувствовал, и пытался предупредить, уберечь от беды, пусть и не раскрывая карты... Но самое-то главное: он знает, где Рябцев живет! Сам сказал: тут, рядом, за два дома...
Наверняка неспроста сказал – еще один спасательный круг, который он, дурак и слепец, умудрился не заметить и про который едва не забыл.
Он торопливо поковылял в ночь... За два дома... По левой или правой стороне? Неважно, сделает две попытки...
И тут с ним произошла странная вещь... Кирилл уже почти привык к странным вещам, происходившим сегодня, но все же удивился... Он ощутил сильный голод. Самый что ни на есть прозаический голод. Вот и рассказывайте басни про стрессы, не дающие разгуляться аппетиту... Конечно, с обеда времени прошло изрядно, но чтоб так проголодаться... Казалось, он не ел сорок дней, сорок лет, сорок жизней... Загадочная штука наш организм.
Две попытки делать не пришлось, первая же оказалась удачной. Торопливый громкий стук – и вместо привычного мертвого молчания, вместо привычной скребущей музыки – голос где-то в глубине дома.
Кирилл кричал что-то, захлебываясь, сбиваясь с мысли, сам понимая, что из его невнятных криков трудно уразуметь, зачем ему нужен Рябцев.
– Глу-пый, – прозвучал знакомый голос рядом, за дверью. – Электрик он, пон<Я>л, нет? На работе сейчас, туда и шагай.
Ну вот... Кто ищет дьявола, тот всегда находит.
Он уже не кричал, говорил – но так же сбивчиво, так же невнятно, говорил долго, а потом замолчал, потому что сказать было больше нечего.
– Глу-пый... – сказал дьявол скучающе, равнодушно. – А кто глупый – тот, почитай, мертвый.
Кирилл понял: ему не отопрут. Наивно было мечтать... Дьявол может посулить что угодно. Но лишь глупец поверит посулам.
– Мертвый... Глупый... – медленно повторил Кирилл, словно пробуя слова на вкус. А потом у него мелькнула странная догадка, но не более странная, чем все происходящее.
– Вы нас убили... Мы мертвы... Вы нас отравили сразу по приезду, или задушили в первую ночь... Зная, что мы тут же воскреснем... Умно... И мне не войти в эту дверь, через ваши проклятые свастики, даже если б был лом или топор...
– Дурак...
Дверь распахнулась. Кирилл оказался в прямоугольнике яркого света, зажмурился. Что-то мелькнуло и упало под ноги. Он глянул сквозь щелочку сомкнутых век: топорик. Плотницкий топорик с обмотанной изолентой рукоятью – не абы как, с выемками под пальцы. Только лента черная.
– Вот тебе топор... Ну и?
Дьявол стоял, широко расставив ноги, демонстративно перекрывая дверной проем. А на пороге – знакомая кудлатая собачонка, шерсть вздыблена, рычит негромко, угрожающе. Впускать его не собирались.
Он наклонился, опасливо коснулся рукояти плотницкого топорика...
Зачем... Зачем ему это дали... Швырнули вот так, небрежно, – как будто отец кинул свой рабочий инструмент сыну: поиграйся, только не плачь?! Зачем? Чтобы рубанул хозяина, ворвался в дом, заперся? Как же... Ляжет на пороге с простреленной головой, только и всего...
– Но вы же... сами... – промямлил Кирилл. – Ну, что... своим...
– Просрал ты все, что смог, – жестко ответил дьявол. – Бабу не уберег, и вторая там щас одна помирает... Иди. Туда, к ней. И ду-у-у-май...
– А-а-а... о чем...
– Утомил... Про жисть думай, про смерть тоже... Потом приходи, глянем, что надумал.
– И вы меня... правда...
Дьявол перебил:
– Кабы я знал, парень, что есть правда... Иди!
Дверь захлопнулась – резко. Прямоугольник света исчез, Кирилл оказался во тьме.
Стоял неподвижно несколько секунд. Потом услышал приближающийся неторопливый топот... Повернулся, спустился с невысокого крыльца и побежал – очень медленно, сильно хромая.
...Человек, оставшийся по ту сторону двери, опустил взгляд – кудлатая собачонка по-прежнему стояла в напряженной позе, вздыбив шерсть на затылке.
– Эх ты, вояка... – вздохнул человек. – А грозы-то забоялась, спряталась, будто и нету...
Он повернулся, пошел в глубь дома – шаркающей походкой, приволакивая ногу. Вернее, не ногу, – заменяющий ее ниже бедра протез.
У стола постоял, словно забыл, зачем сюда шел. Поднял руку к виску, лицо страдальчески кривилось... Задумчиво взял бутылку с портвейном, наклонил, багровая струя полилась в стакан. Затем пальцы разжались, бутылка выскользнула, полетела к полу – и расплескалась красной, как бы кровавой лужей, и разлетелась осколками стекла.
Собачка отпрянула. Человек, казалось, и не заметил: стоял, смотрел куда-то в видимую только ему даль... Потом присел на табурет – неловко, в три приема, осторожно и далеко вытянув то, что заменяло потерянную ногу... Собачонка тут же подошла, привычно устроилась рядом, положила голову на протез. Человек взял стакан, пил долгими глотками, не чувствуя вкуса.
Он ненавидел этот проклятый день проклятого месяца июня.
Ненавидел...
2
Свечи догорали, и гасли одна за одной, и становилось все темнее... Марина временами слышала какие-то звуки, какое-то непонятное движение, не то на улице, не то за стеной, и каждый раз звала: Кирюша, милый, это ты? – но он не отзывался, и она понимала, что опять ошиблась... Затем послышался звон бьющегося стекла, затем (через несколько секунд, или через целую вечность) заскрипела дверь – громко, явственно – дверь в сени, она сама не заперла ее, не заперла после того, как собралась было за сковородкой, и это хорошо, потому что встать и отпереть Кирюше она уже не сможет, сил нет, вытекли вместе с кровью, но он пришел, он жив, и это главное, и все у него будет хорошо; она вновь позвала его и вновь не услышала ответа, и поняла – снова не он, и даже поняла – кто; но опять ошиблась, в дверь проскользнула не Маришка Кузнецова – высокая, темная фигура; Калиша?! – изумилась и обрадовалась Марина, – как хорошо, что ты пришла, Калишка, спасибо...
Калиша неслышно шагнула к ней – темный силуэт в темной комнате.
...прости, Калишка, шептала она беззвучно, прости, я, я... я дура, я ничего не понимала, а думала, что понимаю, думала, что ему хорошо со мной, и с другими хорошо быть не может, я люблю его, пойми, люблю очень-очень, а теперь все кончено, навсегда кончено, и он никогда меня не простит, никогда-никогда, и я сама во всем виновата, что уродилась такой ни к чему не пригодной, никчемной и ненужной, не способной сделать главное, что должна сделать в жизни женщина, я виновата, и он не простит, и будет прав, так прости хоть ты, Калишка... что ты, милая, ласково сказала Калиша, наклоняясь и прикоснувшись к ее руке, я давно тебя простила, я простила всех, кто живет, кто жил и будет жить, простила один раз и навсегда; нет плохих людей и всем случается ошибаться, а сейчас пойдем отсюда, нам пора, нас ждет Маришка Кузнецова, она ведь не умерла, ты не знала? она не умерла, она выросла и стала очень красивой, почти как ты, и ждет нас, вам надо многое рассказать друг другу, разговор будет долгий, всю ночь, до рассвета, пойдем, милая, не бойся, бери меня за руку и пойдем; и она взяла Калишу за руку, и они пошли, пошли по залитой лунным светом дороге, ведущей через ночь, и Марина знала, что идти по ней долго, но они дойдут, и держала за руку Калишу, та вела свои обычные странные речи, но сегодня Марина понимала в них каждое слово, странные нимала в них каждое слово, я ойдут, и держала Калишу,и Марина отвечалао многое раасказать ь не может, я люблю его, любл чем-то спорила и с чем-то соглашалась, и дорога уводила все дальше, и Марине было хорошо...
3
– Так что... Тридцать две штуки, значит, – сказал Трофим Лихоедов. – Да городской за собой пару-тройку притащит... Тридцать пять тогда... Всяк поменьше, чем тем годом... Хоть чуток, да поменьше. А двадцать-то лет тому, как вспомнишь, оханьки... Знать, к концу дело идет полегоньку... Не дет<Я>м, так внучатам пожить по-людски сложится.
– Тридцать шесть, Троша, – поправил Рябцев. И внимательно посмотрел на Лихоедова.
Тот с невинным видом пожал плечами:
– Так что, сам еще одного завалил? Дело доброе... – замолчал, прислушался к ночным звукам. – Во, никак и гостёк наш поспешает... Умаялся зайцем петлять, со штанами-то полными...
...Кирилл и в самом деле умаялся. Выбился из сил. Потому что дурак... В играх с дьяволом можно сделать лишь одну ошибку – сесть играть... Глу-пый, сказал ему дьявол, и был прав. Кто глуп, тот мертв. А кто мертв, тот не глуп, так и есть, понимайте как хотите... Заторможен, но не глуп. Глупость – свойство живых. Которым недолго оставаться живыми... Ему, Кириллу, – недолго.
А ведь тут не всё так просто... Приезжие – не просто корм, оставленный для прожорливой нежити, чтобы не трогала своих. Слишком сложно – заманивать чужаков именно в этот день. Куда проще оставить для ночных пришельцев с болота ведро крови да пару свиных туш... Не-е-е-т, тут ритуал... Или жертвоприношение, или испытанние, или то и другое разом... И если не понять свою роль в том ритуале – ты труп. Труп, сожранный трупами.
Он думал, что понял всё. Им нужна жертва... Им нужен вступительный взнос... Какой, на хрен, свой? – если утром побежит в милицию, и завопит, брызгая слюной: А-а-а! здесь такое... такое... Менты, понятно, не поверят, на освидетельствование – и в психушку, но кто ж захочет рисковать... Им нужна жертва. Убитая им. Чтоб свой, так уж свой, – навсегда. Им нужна голова Марины, поставленная на крыльцо у двери дьявола, в прямоугольнике яркого света... Принес – ты свой. Заходи, присаживайся... Клава? Забудь... Есть у нас и другие, бюст не хуже... И послушай наконец, что лежит на болоте...
Но она ведь мертва... Она наверняка мертва – окна без ставень, двери без свастик... Мертва... Точно мертва... Его просто проверяют – сможет? Не страшно ли, не брезгливо ли – тюк-тюк плотницким топориком по шее, была одна куча мертвой органики, стало две... А брезгливых нам не надо... Куда уж на болото за деньгой, брезгливым-то...
Нога не сгибалась. И никак не ощущалась – бесчувственный протез, что-то мертвое, не свое, чужое... Может, тут так и умирают – не вдруг, по частям, постепенно...
Сил нет... Он уже не опережал мертвых – расстояние постепенно сокращалось... Мертвые не глупы... Они знают, что даже самый медлительный преследователь догонит жертву, если не устает и никогда не останавливается...
Сил нет... В догонялки больше не поиграешь, значит, придется... Но за что, за что ему эта чаша?..
Ладно, дьявол... Ты выиграл... Ты получишь свое, и душу, и голову... Только расплатись честно, отдай, что обещал...
Дом Викентия появился из мглы неожиданно, – хотя холм с этой стороны лысый, хозяин здесь то ли специально не сажал, то ли после вырубил плодовые деревья и кусты... Лоб, разодранный колючками дикой малины, саднило. Топорик в руке казался неимоверно тяжелым.
Он распахнул калитку. За окнами без ставень – отблески слабого света... Свечи... Жива, подлюга?!.. Значит... значит... Да нет, мертва, мертва, мертва, ты получишь свой выигрыш, дьявол...
А потом он увидел людей. Живых. Настоящих. Люди стояли на холме, вокруг дома – Трофим, рыжий Генаха, Толян Форносов, еще какие-то, незнакомые... А это... ну точно, очкарик со свинофермы... Люди стояли молча. Никак не реагировали на появление Кирилла... Но лишь поначалу... А потом шагнули к нему, деловито и опять-таки молча. Чужая, мертвая нога снова подломилась, Кирилл упал на колени. И не поднялся... Хотел крикнуть: я свой, свой... почти... пустите меня к дому, что вам стоит, и я стану своим... Так ничего и не крикнул. Люди шагали к нему с равнодушными лицами. У каждого что-то в руках, что-то одно из трех: или вилы с насечками на длинных зубцах, или массивный колун, или маленький плотницкий топорик, такой же, как у Кирилла...
Все ясно... Дьяволу не нужен выигрыш, он и так берет своё, все, что только захочет...
Ни звука, ни слова – кадры из немого кино. Люди с серыми лицами посреди серой ночи...
Кирилл медленно опустился лицом на траву. И подумал: будет ли ему слишком больно?
Больно не было. На него никто не обратил внимания, прошли мимо, убыстряя шаг. Наконец появились какие-то звуки: топот, и невнятный мат, и хриплое дыхание, и удары по чему-то мягкому, и удары по чему-то твердому… И еще звуки, негромкие, но страшные: крик тех, кто не может кричать. Чьи легкие полны болотной мерзкой грязью. Кирилл впервые слышал крик мертвецов...
Вставать не хотелось, но он встал, медленно, с трудом – сначала на колени, потом на ноги. Вернее, на одну ногу. Успел увидеть расправу с третьим, последним, запоздавшим трупом: Трофим, утробно хекнув, чуть присел, и принял на вилы прущую вперед – казалось, неудержимо и неостановимо – тушу; тут же вторые вилы, и третьи, – с боков, кто-то сзади рубанул по поджилкам – и вот уже мертвец на земле, и уже почти не виден из-за сгрудившихся спин, и те же звуки – деловитые, уверенные. И тот же страшный, булькающий крик мертвеца... Лихо... Одного – лихо. Двух уже труднее, сам только что слышал, – с хрипом-матом, но можно... А если много?
Он смотрел, но пятился к крыльцу. Ковылял. Потом повернулся, но не шагнул даже на нижнюю ступеньку. Потому что встретился взглядом с Рябцевым. Тот стоял наверху. Опущенный стволами вниз обрез двустволки тускло отливал вороненой сталью.
– Вот, значит, как, – сказал Рябцев неприятным голосом.
И перевел взгляд с Кирилла на орудие, стиснутое в его руке. На плотницкий топорик, на игрушку, брошенную отцом сыну. Скривил губы, как будто хотел сказать: отдай, не твое... Но не сказал. Медленно, словно смертельно уставший, заскрипел ступенями вниз. Кивнул на дверь:
– Ты не ходи туда. Незачем. Нет ее уже... И смотреть уже не на что. И прощаться не с кем.
Там, внутри, лишь мертвецы, понял Кирилл. Почти все, восставшие сегодня из болота. Затихшие, неопасные, утолившие голод. Он знал, кем утолившие. Не знал лишь, как теперь ему...
– Н-но... я... – начал было он и осекся. Так что, все отменяется? Кто здесь главнее – дьявол или Рябцев?
Тут же сзади подскочил Лихоедов, потянул из стиснутых пальцев топорик, приговаривая:
– Так это... давай сюда, пошто он теперь-то, свои, чай, все кругом... А так пускай сходит, Петьша, пускай, большой уж парняха, привыкать пора...
Кирилл не сопротивлялся, обмотанная черной лентой рукоять выскользнула из потной ладони. Значит, он свой... Не испугался, выдержал испытание, и теперь – свой... Он доживет до рассвета, и он узнает всё... И, наверное, поймет, что здешняя жизнь – правильная, не в деньге дело, просто правильная и настоящая, раз выбирают ее такие люди, как дьявол и Рябцев...
– Извини, парень, – сказал Рябцев, спустившись. Сказал с легким, но вполне искренним сожалением. – Я тебе зла не желал, да и теперь не желаю. Но так уж карта легла, что всем лучше будет...
Рябцев еще продолжал говорить прежним ровным тоном, а обрез уже взметнулся вверх, уставившись на Кирилла бездонными зрачками стволов, тот вскинул руку ладонью вперед, инстинктивным защитным жестом, и хотел завопить «Не нада-а-а-а!!! За что???!!!», но из глотки вырвалось невнятное: «ни... за...», и в черной глубине дула расцвела ослепительная вспышка, и выплеснулась наружу перемешанным со свинцом огненным смерчем, и этот смерч подхватил Кирилла и унес далеко-далеко, к самому краю земли, к бездонной черной яме, и Кирилл падал в нее очень долго...
– Так что ж теперь... – Трофим Лихоедов разочарованно всплеснул руками над рухнувшим телом. – Так ведь сговорено всё ж был<О>, Петьша! Как, сталбыть, в избу зайдет, так окна-двери подпираем, – да и петуха! Куда ж я теперь его, без полголовы-то? А так бы в машину обоих пихнули – дескать, вмазались в столб на дороге, али в дерево, да и погорели, выбраться не успевши... Ну помучился б малёха, помираючи, – зато б всему обществу польза…
Он в сердцах пнул собственноручно изготовленную конструкцию – приколоченный к бревну щит из толстых неструганных досок.
– А я вот думаю: может, часом, и ты мертвец, Троша? – медленно сказал Рябцев. – С болота вылез, жижу смыл, рассвет перемучился как-то... Так и ходишь с тех пор, а живых вместо себя в землю норовишь...
Он задумчиво посмотрел на обрез, потом на Трофима, потом снова на обрез.
Лихоедов попятился. Знал: не тронет. Своего, какой ни есть, не тронет – а все одно не по себе стало... Шебутной мужик Петьша Рябцев, вечно жисть по-новому переделать норовит, да и другим кой-кому мозг<И> замутил... То вот, значит, музыкой болото окружать надумал, чтоб орала на всю округу, мертвяков обратно гнала... А деньга на ту музыку откудова? Болото, оно ж хоть и глыбкое, а без ума черпать – поздно-рано дно покажет... Али деды глупей нас были? Не-е-е, Петьша, умней были они, пусть и жили, институтов не кончаючи... Как раскумекали, что к чему, чем за деньгу платить надобно – так и сели тихо, не куролесили, мошной по городам не трясли, к чужим не совались и чужих не пускали... А нонче ему, Петьше, значит, «свежую кровь» подмешать засвербело, вы-рож-да-ем-ся, дескать, – а самого-то, небось, папашка со своей единокровной сестрой заделал, а как еще, коли с полуторадесяти семейств Загривье нонешнее, послевоенное начиналось, – да тока три мужика с войны на все те семейства и уцелели; не полнородная сеструха, да и ладно, – и ничё, не выродился Петьша, институтов накончал... Вот она ж, свежая кровушка твоя, – тута вот, на травке лежит, с мозгами наружу, и дерьма штаны полные. Не нужн<О> нам таких свежих кровей, нам как дедам бы, в родительский день до рассвету дожить, – да и ладно…
Рябцев ничего больше не сказал, сунул за пояс обрез, медленно пошагал к калитке. Без него закончат, не маленькие. Справятся...
– Так что, мужички? – обратился Трофим к остальным. – Давайте-ка, с богом... А то задует ветерок по утряни, искров на деревню нанесет... Стащите этого в избу, да и запалим...
...Рябцев шел по Загривью: плечи расправлены, походка пружинистая – но чувствовал себя старым, разбитым, ни на что не пригодным... И думал, что нынешний родительский день для него последний. Всё, укатали сивку здешние горки...
Он лишь не знал, КАК все произойдет.
Наберется ли он духу, перетаскает ли на болото все центнеры тротила, что скопил за два десятка лет, и вывезет ли на плотике на середину круглого озерца, – притягивающего, как магнитом, молнии июньских гроз...
Или все же не решится, просто зайдет в один вечер в сарай, клацнет зубами по дулу обреза – точь-в-точь как отец тридцать лет назад, когда сплошал, и двух семей не стало... Ба-бах! – живите сами, как знаете...
Возле серо-кирпичного здания магазина Рябцев вдруг понял, что не перезарядил обрез. Да уж, укатали, укатали... Расслабился, стареет, видать... Не мешкая, вставил патроны.
И то ли от мысли, что мог вполне сейчас – считай, безоружный – на последыша напороться, то ли просто от того, что у самых дверей лавки остановился, вспомнил: Матвей Левашов, первый электрик послевоенный, вообще лишь с хлебным ножом на работу ходил – с длинным, острым... Так и отработал-то всего-ничего: ножик, он только против живых хорош, а обрез для всякого сгодится.
Зарево, вставшее над домом Викентия Стружникова, было видно даже отсюда, с противоположного конца деревни. И к нему присоединилось другое, набухавшее над дальним лесом…
Но там ничего не горело – к Загривью приближался рассвет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































