Текст книги "Аквариум как способ ухода за теннисным кортом"
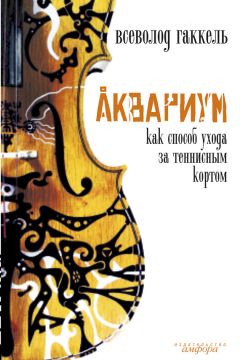
Автор книги: Всеволод Гаккель
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Глава вторая
После похорон Курехина я не знал, что буду делать дальше. У моей племянницы Ольги родился сын Всеволод, и я поехал их навестить. Когда я держал на руках внучатого племянника, на меня нахлынула волна чувств. Я прожил долгую жизнь, много повидал и испытал, но у меня никогда не было семьи. Я зашел к Лене, которая жила прямо напротив. Неожиданно для себя и для нее я сделал ей предложение, и так же неожиданно для нее и для меня она согласилась. Мы обнялись и залились слезами. Моя жизнь начиналась сначала.
Я давно мечтал, когда у меня образуется свободное время, попробовать взяться за дачу. Я купил кое-какой инструмент и доски и затеял обновление пола. Еще в период работы клуба я познакомился с Денисом Можаевым, который был хорошим столяром, и еще тогда он предлагал мне помощь. Я позвонил ему, он приехал к нам на дачу и научил меня основным вещам. Мы с ним сделали пол на первом этаже, и за второй этаж я уже смог взяться самостоятельно. Это была гигантская работа, но именно это мне и нужно было в этот момент. Так я провел почти все лето.
Мы с Леной обосновались в квартире нашего дружка Миши Мончадского, который давно живет в Канаде, и в начале октября обвенчались в церкви Покрова Божией Матери. Оказалось, что в то время, когда Лена ушла из клуба, она поступила в акушерский колледж и уже два года там училась. Еще в детстве ее бабушка, которая работала в Снегиревке, брала ее с собой на дежурство, и вот пришло время, когда и Лена решила посвятить себя этому благородному делу.
Мы заняли одну комнату в квартире на Орбели, чего нам было вполне достаточно, но я пока не мог забрать туда свою мать. Каждое утро я ехал на велосипеде на Восстания. Покормив мать завтраком, я готовил какую-нибудь еду на день. Готовить большее количество было нельзя, потому что брат по-прежнему все съедал, иногда отнимая у матери последнее. Когда мне удавалось, я заезжал ближе к вечеру покормить ее второй раз. Постепенно я вошел в ритм этих перемещений, и мама была спокойна за меня: по крайней мере, пока я не находился под одной крышей с Алексеем, вероятность конфликта уменьшалась. Хотя брат доставал матушку ужасно, совершенно лишив ее покоя. У него, как обычно, кто-то жил, а он так и спал на полу в ее комнате. В один прекрасный момент он занес ей вшей. Я разогнал всю его компанию и выкинул все тряпки, которые они понатащили с помойки, и несколько дней подряд мыл ей голову. Вшей удалось вывести, но люди скоро завелись снова, и с этим уже ничего нельзя было поделать.
Все это время я искал место, подходящее для репетиций Химеры. Один наш знакомый Олег Подберезный, который очень сильно запал на Химеру, сговорился в заводском клубе на Малой Охте, что группа сможет там репетировать и раз в месяц играть отчетные концерты. Это очень напоминало времена моей юности. На этой точке сидел Олег Байдак, брат небезызвестного Юры. Они там пили и на ближайший концерт обещали нам выкатить аппарат. Все казалось очень симпатичным. Но в день концерта мне пришлось самому носить неподъемный аппарат на четвертый этаж. У них не оказалось даже мониторов и «косы». В итоге они паяли эту «косу» до самого начала концерта, который по давней традиции задержали. Я давно уже отвык от подобной самодеятельности. Концерт был хорошим, пришло человек сто пятьдесят – для нового места это было неплохо. Вся тусовка была знакомая, и очень странно было видеть всех этих людей вне стен «TaMtAma». По традиции, у кого-то украли рюкзак, и мое настроение было испорчено. Химера почему-то не стала репетировать на этой точке, и как-то Саша Розанов предложил сходить в Институт киноаппаратуры на улице Бакунина, где, по слухам, было можно арендовать помещение. Мы с Эдиком пошли посмотреть, и ему там очень понравилось. Мы выбрали самую дальнюю комнату на верхнем этаже, на котором кроме нас никого не было, и перевезли аппаратуру с Малой Охты. Это было странное здание бывшего института, откуда давно все съехали, и оно пустовало. Работали лишь несколько цехов на втором этаже. Там не было отопления, но пока было тепло. Начальник обещал, что к зиме они отопление наладят, и с наступлением холодов нам дали промышленный обогреватель, который быстро нагревал все помещение. Все было очень симпатично, только мне нужно было платить за это кругленькую сумму денег, взять же их было неоткуда.
Через месяц в этом же квартале, в помещении Театра на Перекупном, открылся клуб «Молоко». Я симпатизировал основателю «Молока» Юре Угрюмову и обещал ему посодействовать. У них было плохо с аппаратом, и мы договорились, что каждую субботу, в день концерта, можно будет брать комбики и барабаны на Бакунина и после концерта их туда относить. Это было не очень удобно, особенно если учесть, что назад все это надо было таранить на пятый этаж. Но другого выхода у них не было, и, стало быть, его не было и у меня. Клуб «Молоко» открылся концертом Химеры. Недели две-три все шло хорошо.
Надо было что-то придумывать с изданием альбома. Я надеялся на «FeeLee», они даже включили песню Химеры в сборник фестиваля «Учитесь плавать». Но о группе они судили по выступлению на фестивале, которое не произвело на них должного впечатления. Я решил самостоятельно выпустить альбом на кассете, и мне показалось важным зафиксировать этот факт под лейблом «TaMtAm». Но на это снова требовались средства. Затевая самостоятельный выпуск альбома, я должен был изучить весь процесс, начиная с макета обложки и заканчивая изготовлением собственно кассеты. Я решил сначала придумать макет. Я обратился к Ие Тамаровой, которая делала плакат к концерту Питера Хэммилла, и спросил Эдика, как он мыслит обложку альбома. Сначала он нарисовал что-то карандашом, но цвета были плохие, и получилось неинтересно. Тогда он дал мне младенческую фотографию Тоси и заявил, что вот это идеальное оформление альбома. Наверное, так оно и было. Я отнес снимок Ие, которая сказала, что это всегда можно оставить, но можно придумать что-нибудь поинтереснее. Я принес ей кучу фотографий Химеры и кое-что из картинок Эдика, и она начала фантазировать со словом «Zudwa». Когда через несколько дней я к ней зашел, то увидел фантастическое решение обложки. Взяв фрагмент одной фотографии, который давал удивительно точное ощущение пластики Эдика, она выделила его изогнутый силуэт. Но я не хотел самостоятельно принимать решение и позвал Эдика. Эдик не выказал особого восторга, но и не отказался категорически, и меня немного понесло. У меня возникла идея сделать анонимный плакат с силуэтом Эдика, как я увидел его в первый раз на мониторе компьютера, с загадочным словом «Zudwa». Еще в «TaMtAme» у Эдика появилась подруга, с которой они как-то сфотографировались вместе, а потом на ксероксе сделали несколько вариантов этих фотографий, на которых они либо стояли вдвоем, либо была видна одна нога Эдика, либо это были просто абстрактные картинки, и на каждой из них было написано «Zudwa». Эти картинки с надписью «Zudwa» время от времени появлялись на стенах клуба. Я не понимал, что это такое, но каждый раз, когда я натыкался на это слово, оно меня интриговало. Когда же на очередном концерте Химеры я услышал песню под этим названием, я был сражен наповал. И тут я решил использовать такой прием: напечатать две тысячи плакатов и заклеить ими весь город, чтобы люди натыкались на них везде: в метро, во дворах и на заборах. Это не было рекламным трюком, хотя и могло сработать как реклама. Если бы я в течение месяца натыкался бы на это слово, а потом, зайдя в магазин, увидел альбом с такой картинкой и таким названием, то я обязательно из любопытства его купил бы. Но тут моя схема начала давать сбой. Сначала половина тиража плакатов ушла в брак. Повторный тираж застрял и не хотел печататься. Наступила глубокая осень, и пошли дожди. Я рассчитывал на своих друзей из клуба и надеялся, что смогу увлечь их этой идеей и они быстро расклеят эти плакаты по всему городу. Но кому-то оказалось влом, кому-то было лень, и акция провалилась. Все-таки какое-то количество удалось расклеить, и плакаты стали хаотично появляться в разных местах города. Конечно же, я всегда их замечал, но они не выбивались из общей массы расклеенных афиш и листовок.
Такая же участь постигла саму кассету. Сначала Ия застряла с дизайном обложки. Что-то постоянно шло не так: то не выводились цветоделительные пленки, то резчик в типографии неправильно разрезал обложки, и казалось, этому не будет конца. Альбом категорически не хотел выходить. Вероятно, я совершил ту же ошибку, что и Леша Ершов, – я слишком много взял на себя. Наконец в конце января кассета все-таки появилась на свет. К этому времени начались чехарда с репетиционной точкой и сбои с аппаратом, потому что никто после концерта в «Молоке» не хотел тащить его обратно. Иногда аппарат оставляли на всю неделю в клубе. Химера же репетировала раз в неделю, а иногда и реже. Но, судя по всему, беспокоился один я, поскольку мне за это приходилось платить. Я стал думать о том, что хорошо бы эту точку делить с какой-нибудь группой и тем самым сократить расходы. Сначала вписались Маркшейдера, но, порепетировав пару раз, отказались. Отопление так и не включили, а обогреватель у нас забрали. Хоть мы и притащили какие-то бытовые нагреватели, все равно там было холодно. Когда же у Эдика начинались проблемы с Тосей, он оставался там ночевать. Он нигде не работал, и я старался ему как-нибудь помогать, но содержать его семью я был не в состоянии. В итоге Эдик просто поселился на точке и перетащил туда свои пожитки, и незаметно там собралась целая компания.
Глава третья
Незадолго до этого проявился Сережа Щураков, который неожиданно предложил мне присоединиться к его оркестру. Еще год назад он пригласил меня на запись альбома Anabasis. Я сыграл в двух пьесах, и это оказалось неплохо. Сережа долго не мог придумать название оркестру. Музыкальный стиль он определил как необарокко, и мне показалось, что было бы неплохо назвать его в итальянском стиле с некоторым элементом абсурда, и я придумал Vermicelli Orchestra. Я давно не занимался на инструменте, и мне уже в который раз пришлось начинать с самого начала. О концертах речь пока не заходила, и мы репетировали на точке у Олега Шавкунова на Пушкинской, 10. Там тоже не было отопления и воды. И когда электричество отключили совсем, я предложил перебраться на Бакунина, коль скоро точка была оплачена, и там все равно никто не репетировал. Но там оказалось неуютно, холодно и мрачновато. Сереже из-за зрения было трудно самостоятельно пробираться в это помещение по темной лестнице и коридорам, поэтому мы отказались от этой идеи и по привычке перебрались репетировать ко мне домой. У нас с Леной дома много места, и репетиции вошли в привычное русло гостеприимного чаепития. Правда, Сереже и сюда было добираться далеко, но зато у нас было тепло, и мы могли собираться в любое время. Состав оркестра значительно изменился, помимо меня вводились новые музыканты, но до концертов было еще далеко. Пока нужно было репетировать по группам инструментов, и Сережа отдельно занимался со мной, подтягивая уровень игры до необходимого. Я вспомнил забытую практику игры по нотам и был рад, что наконец смогу применить свой навык игры в оркестре. Предстояла большая работа.
Той же осенью проявился наш старый дружок Боря Райскин, с которым мы вместе составляли струнную группу Поп-механики. К этому времени он уже восемь лет жил в Америке, и ему в голову пришла шальная идея организации в Нью-Йорке фестиваля имени Курехина. Он обладал фантастической энергией и трудоспособностью и очень быстро перешел к осуществлению этой идеи и наметил на середину января десятидневный фестиваль. К этому времени Настя Курехина только начала приходить в себя после горя, постигшего ее семью. Поначалу она скептически отнеслась к этой идее, поскольку у нее было собственное представление о том, что следует делать в память о Сергее. Она привлекала меня к этой деятельности, хотя это было не совсем то, чем мне хотелось бы заниматься. Но Настя нуждалась в помощи, и ей невозможно было в этом отказать. Однако к этому времени мы еще ничего не успели сделать, а только зарегистрировали Фонд Курехина, президентом которого стала Настя, а меня назначили председателем совета директоров. Я всегда сторонился всякого рода советов и никогда нигде не заседал, а потому без особенного восторга воспринял подобное назначение. Хотя речь шла всего лишь о том, чтобы совместными усилиями друзей сделать что-нибудь стоящее, чтобы о Курехине не забыли уже через полгода. Алик Кан уже год работал в Лондоне на Би-би-си, так что, судя по всему, организация в основном ложилась на меня. В результате нам с Настей и Лизой предстояла поездка в Нью-Йорк на фестиваль, который Боря Райскин назвал «Sergey Kuryokhin International Interdisciplinary Festival» (SKIIF).
Это был очень рискованный шаг с его стороны, поскольку он пригласил кучу людей со всего света и надеялся на то, что фестиваль сможет себя окупить. Я уже имел горький опыт, когда взялся за дело, которое мне было не по плечу, но Боря, вероятно, знал, на что идет. Только из России поехало человек двадцать пять, правда, к сожалению, Бориному отцу не дали визу. Фестиваль вызвал живой интерес у русскоязычной Америки, и в Нью-Йорк слетелись тусовщики даже из других городов. На открытии в клубе «Knitting Factory» была тьма народу, но в последующие дни, хотя концерты были не менее интересными, публики было не так много. На одном концерте в Washington Square Church играл мой старый знакомец Тёрстон Мур с барабанщиком Томом Сёргалом, и их выступление было примерно таким, каким я слышал его года три назад. Мур очень эрудированный человек и очень внимательно следил за творчеством Курехина, у него имелись все его пластинки, к этому времени изданные. При мне он купил все пластинки Вапирова, которого тоже очень ценил. Для меня концерты были очень интересными, хоть я и устал за десять дней. Но это был Нью-Йорк, где концертами такого рода никого не удивишь, а русским, живущим там, музыка вообще не нужна, им нужно только потусоваться. Я же за это время не успевал всюду поспеть и еще рассчитывал попасть на концерт Sebadoh, но, к сожалению, когда я собрался сходить, все билеты были проданы. Мы почти не виделись с Борей в ходе фестиваля, он был очень занят, и мы откладывали нашу встречу на потом. Помимо собственно организации фестиваля он выступал в двух или трех проектах, еще успевая репетировать. Из Монреаля приехал Славка Егоров, которого Боря пригласил звукорежиссером на запись выступлений, и подтянулся Ливерпулец. Таким образом, у нас собралась старая компания. Но Славка, как обычно, в какой-то момент без предупреждения уехал домой, и через день за ним последовал Алексис, что меня крайне удивило – мы не так часто виделись. С Борей мне удалось увидеться только после окончания фестиваля, накануне отъезда. Уже было понятно, что фестиваль не окупился и Боря понес значительные убытки, пригласив всех гостей из России за собственный счет. Он осуществил задуманное, но был подавлен, хотя и радовался, что все уже позади. Но он был готов к этому, хотя и надеялся на больший финансовый успех. Мы расстались на том, что теперь наша очередь делать фестиваль в России, где Боря будет желанным гостем.
В первых числах февраля состоялся очередной концерт Химеры в «Молоке». Мы не устраивали никакой презентации вышедшего альбома. Концерт получился очень мощный, с грязным сырым звуком. В группе появился некто Антон, который, не умея играть на трубе, вдруг стал претендовать на роль фронтмена. К музыке группы он ничего не добавлял, скорее наоборот. Эдик сам пользовался своим коронным приемом одновременной игры на гитаре и трубе, и это было восхитительно. Антон же просто оттягивал внимание на себя, что только мешало. У меня это вызывало недоумение. Не знаю, репетировали ли они вообще. После концерта я подошел к Эдику и предложил отказаться от точки: у меня больше не было денег, чтобы платить за нее. Но Эдик уверил меня, что точку непременно нужно сохранить.
В конце февраля я очень неудачно упал, поскользнувшись на горке в парке Лесотехнической академии, да так, что не мог встать. Меня подобрали добрые люди и довели до дому. Оказалось, что у меня сильный ушиб бедра с защемлением седалищного нерва. Несколько дней я лежал дома и даже не мог вставать, чтобы открыть дверь. Лена ездила кормить маму и с трудом переносила свинство, которое там устроил мой брат. В это время позвонила Тося, разыскивая Эдика, потом стали звонить и другие знакомые. Я ничем не мог помочь, поскольку не имел ни малейшего представления о его перемещениях. Так продолжалось несколько дней.
Неожиданно приехал Боря Райскин, чтобы навестить родителей. Как оказалось, до отъезда в Америку он жил в соседнем квартале, поэтому зашел навестить меня и рассказать об итогах нью-йоркского фестиваля. Мы долго говорили о том, что получилось не так и как этого можно избежать в дальнейшем. Я посетовал, что не знаю, с какой стороны подступиться к организации фестиваля здесь и что было бы неплохо довести дело до той стадии, когда фестивали станут традиционными по обе стороны океана. Наш дружок Курехин стоил того, чтобы о нем помнили. Перед отъездом Боря собирался навестить меня еще раз.
Меня же не покидало нехорошее предчувствие, что с Эдиком могло что-то произойти. Мне продолжали звонить его друзья. Прошло уже десять дней, как его не видели. Я долго отгонял от себя дурные мысли, но едва я смог перемещаться с палочкой, за мной на машине заехала Наташа Воробьева, и мы отправились на Бакунина. Мы решили прочесать заброшенное здание, и, к ужасу всех собравшихся, наши худшие предчувствия оправдались: Эдик был найден на чердаке. Мне пришлось заниматься похоронными хлопотами и, самое страшное, регулировать отношения Тоси с родственниками Эдика. Добиться соглашения мне не удалось, и в итоге, вопреки желанию Тоси, Эдика похоронили под Выборгом, рядом с отцом. Это была ужасная ситуация, которая вымотала всех нас. Я даже не смог встретиться с Борей Райскиным, чтобы попрощаться с ним. Через несколько дней из Нью-Йорка пришло печальное известие о его кончине. Никто не мог найти никакого разумного объяснения происшедшего. Тем более его не мог найти я. Вокруг все рушилось. Меня это настолько ошеломило, что хотелось спрятаться и больше не высовываться. Я стал тупо заниматься на виолончели, просто наматывая часы.
Будучи в Америке, я возобновил знакомство с Женей Зубковым, с которым мы как-то пересекались у Дюши. Женя был занят прекрасным делом спасения русских алкоголиков. Многие наши друзья прошли курс лечения от этого недуга в Америке. Мне хотелось помочь брату Алексею, но я прекрасно осознавал, что отправить его лечиться в Америку по этой программе нереально. Однако Женя порекомендовал мне обратиться к отцу Маркелу, настоятелю Федоровского собора в Пушкине. Неожиданно оказалось, что мы с ним учились в одной школе, он был на год старше меня. Отец Маркел согласился принять Алексея в приют, который они организовали в поселке Поги за Павловском. На мое удивление, брат согласился, и в этот же день мы вместе с моим двоюродным братом Павлом препроводили его в это заведение. Уклад этого приюта был очень простой, нечто среднее между монастырем и зоной. Все было преисполнено покоем и любовью к ближнему, однако контингент был сложный. Через неделю мы поехали навестить брата, и я был приятно удивлен тем, что он там прижился. Пока его не было, я несколько дней наводил порядок на Восстания. Я выкинул все барахло и вымыл всю квартиру. Мне не верилось, что излечение возможно, и через две недели брат действительно сбежал. Мы сговорились с Владом, мужем моей племянницы, и снова препроводили братца в Поги. Так продолжалось еще раза два. Нужно было постараться дотянуть до весны. В мае «Анонимные алкоголики» предполагали переехать в новый дом на горе под Красным Селом. И Алексей попал в число тех, кого отправили на эту гору ремонтировать дом к приезду остальных. К этому времени он свыкся с пребыванием в приюте, но, вернувшись в город помыться, он оторвался, пустился во все тяжкие и больше туда уже не возвращался. Чтобы снова попасть в приют, нужно было благословение отца Маркела, а уговорить брата еще раз поехать в Пушкин мне не удалось.
Лена заканчивала колледж и, еще в процессе обучения, искала возможность заниматься домашними родами. Насколько я мог об этом судить, ее не устраивала система деторождения, с которой она соприкоснулась в годы учебы и практики в роддомах. Изменить систему было нереально, но оказалось, что детей можно рожать дома. Она познакомилась с домашней акушеркой Леной Ермаковой и, продолжая учиться в колледже, стала постигать премудрости домашних родов. Лена и Леша Ермаковы уже несколько лет практиковали схему, которая готовит будущую мать к этому важнейшему моменту в ее жизни и позволяет родить здорового ребенка так, как это предусмотрела природа. Лена настолько глубоко погрузилась в этот процесс, что постепенно и я принял эту точку зрения и стал вникать в природу таинства деторождения.
Тем временем я продолжал репетировать с Вермишелью. Несколько лет назад, когда я уже давно распростился с игрой на виолончели, будучи в Самаре, я по случаю купил деревянный инструмент. Он требовал ремонта, но я столько раз уходил на пенсию, что не было резона приводить виолончель в порядок. И вот появился повод: я наконец играл в оркестре и мог попытаться добиться правильного виолончельного звука. В силу своего характера, когда я вовлечен в какой-то процесс, то уже не могу быть пассивным участником. Я привык действовать, и, естественно, я стал думать, что можно сделать в этой ситуации для развития оркестра. Таким образом, имея некоторый опыт в менеджменте, я стал выполнять элементарные административные функции. При этом я придерживался своих принципов, которые разделяли не все участники оркестра. К этому времени Сережа уже лет шесть играл в Аквариуме, куда он попал, когда этой группе уже не надо было никому ничего доказывать. Он постоянно концертировал, гастролировал и получал приличные гонорары за выступления, что для него было само собою разумеющимся. Он немного болезненно относился к тому, что Боб может прознать про его сольный проект, и боялся попасть в немилость. В этом был свой резон.
Мне же в свое время пришлось пройти длинный путь от полной безвестности к тому, что впоследствии и приобрело славу как группа с этим названием. Я имел опыт ожидания и знал, что, если делаешь правильное дело, рано или поздно события начнут разворачиваться. Сережа же нервничал и ждал быстрого признания Вермишели. Мы сыграли несколько концертов, но на них приходило по двадцать человек. Музыка оркестра была отнюдь не развлекательная, хотя безусловно имела огромный потенциал, может быть, даже коммерческий. Но в этой стране к такой музыке пока мало кто был готов. Все разговоры музыкантов почему-то сводились к тому, сколько нам могут заплатить за выступления. Я пускался в бессмысленные споры по поводу того, что в такой ситуации стоит делать, а чего категорически делать нельзя. Но суть противоречия лежала гораздо глубже, нежели я предполагал, и постепенно в наших отношениях с Сережей наметилась брешь, которая давала о себе знать в абсолютно разных ситуациях. Это мог быть саундчек перед выступлением, когда группа еще не успела настроиться, а Сережа вдруг начинал прогон каких-нибудь пьес при полном отсутствии звука на сцене. Когда же в паузах по неосторожности я убеждал его прерваться и продолжить настройку звука, это неизменно вызывало его гнев. Он мог обидеться абсолютно по любому поводу.
Весной стали поговаривать о том, что в июне предполагается празднование двадцатипятилетия Аквариума. Что под этим подразумевал Боб, я не знал. Мы с ним не виделись, и я так и не получил от него никакого приглашения. Ко мне пришли Леша Ипатовцев и Владик Бачуров на предмет интервью, и от них я узнал, что Боб предполагал собрать «классический» Аквариум. Я не знал, как к этому отнестись. Если бы юбилей пришелся на годы существования «TaMtAma», я твердо знаю, что отказался бы. Но клуба больше не было, а после смерти Эдика образовалась пустота. Я знал, что раз и навсегда покончил с независимой музыкой. Меня больше ничего не интересовало. Меня не интересовало, что станет с другими музыкантами группы Химера. Не интересовало, что станет с другими группами. Я чувствовал, что свою функцию на этом поприще я выполнил до конца. Я мог распоряжаться своим прошлым по своему усмотрению и в итоге мог согласиться принять участие в помпезных концертах. Еще за несколько месяцев до этого Боб обмолвился, что хотел бы записать несколько песен из далекого прошлого. Но потом, вероятно, передумал и сыграл их с другими людьми. Безусловно, группа, с которой он играл в это время, была прекрасной, и они мастерски сыграли и записали этот альбом, но в нем был только один лишний элемент. Боб не заметил, что еще раз лишил нас нашего прошлого. Сейчас, в процессе написания этих воспоминаний, я, пожалуй, впервые за много лет переслушиваю альбомы этой группы. И это один из немногих альбомов, который я могу слушать почти до конца. Я слышу усталый голос Боба, который поет песни нашей юности, и меня охватывает ностальгия, которая граничит с сожалением о том, что это прошлое нас свело. Парадоксально, что скоро и этих прекрасных музыкантов постигнет та же участь. Между нами нет никакой разницы. Наверное, это и послужило побудительным мотивом к тому, чтобы попытаться изложить историю на бумаге и таким образом освободиться от нее.
Репетиции к юбилею двадцатипятилетней творческой деятельности Боба начались в его студии на Пушкинской, 10, в которой я ни разу до этого не был. Мне было интересно наблюдать за Бобом. Казалось, он нисколько не включает эмоциональный уровень. Вчера были одни музыканты, сегодня другие, завтра снова будут те же или совершенно новые. Он поет свои песни. Эти песни больше не являются нашими песнями. Не имеет никакого значения, кто их играет. Может быть, даже не имеет значения, кто их поет? В процессе репетиций с Вермишелью я достаточно хорошо разыгрался и находился в рабочей форме. И после двух-трех репетиций на точке, где было понятно, что в принципе все всё помнят, было объявлено, что за неделю до концертов состоятся репетиции на аппарате. Я решил специально подготовиться к этим концертам и заказал Леше Михееву сделать татуировочку на моем многострадальном гринчелло. Мне хотелось, чтобы мой инструмент носил признаки того, с чем было связано мое недавнее прошлое, и Леша покрыл его причудливым узором в стиле «TaMtAm».
На этот концерт собрался странный состав, в котором группа никогда не существовала. Из музыкантов той эпохи не было Рюши и Титовича, который был невыездным. Логично было бы на бас-гитару позвать Файнштейна, но речь об этом даже не зашла, и на басу играл Володя Кудрявцев из последнего состава. Приехал Женя Губерман из Голландии, и мы все встретились на сцене ДК железнодорожников. За те годы, что мы не играли вместе, каждый из нас приобрел разный опыт. Я тоже экспериментировал со звуком и представлял себе, какого именно звука виолончели хочу добиться на этих концертах. Я сообщил директору Боба Стасу Гагаринову, что мне нужен персональный усилитель. Группа уже давно вышла на такой уровень, когда составляется технический райдер и компания, организующая концерт, обеспечивает группу аппаратурой согласно его требованиям. Но почему-то на репетиции этого усилителя для меня не оказалось. Мне пришлось включиться в линию и слушать себя через мониторы, для чего надо было найти подходящую точку, где было бы себя слышно и не было фидбэка. Я тщетно настаивал на том, что имею право требовать выполнения условий. Звукорежиссер Олег Гончаров ходил и слушал, как все звучит на сцене. Он подходил и спрашивал: «Как, в кайф?» В конечном счете я кое-как приспособился. Я думал, что и ему небезразлично, как я себя слышу, и по наивности решил, что и он хочет меня услышать, коль скоро ему предстоит рулить концерт. Но на практике оказалось совсем по-другому.
В день отъезда в Москву, где должен был состояться первый концерт, я поехал на Восстания покормить мать. Когда я приехал, то застал ее лежащей на полу с разбитой головой. На кухне пьянствовала компания друзей Алексея, сам он спал. Не знаю, упала ли она сама, или ее ударил человек, которого я почему-то еще называл своим братом. Я собрал в узел основные пожитки матери и отвез ее на Орбели. Тот человек этого даже не заметил. Слава богу, рана оказалась просто ссадиной. Лена осталась ухаживать за мамой, и я спокойно отправился в Москву.
Когда мы приехали на саундчек в Лужники, то я, к вящему неудовольствию, обнаружил, что пресловутый усилитель мне заказан не был. Я тщетно пытался выяснить это у Стаса. Он не дал мне никакого вразумительного ответа, поскольку такого якобы просто не могло быть. Апеллировать к Бобу было бессмысленно, ему по-прежнему было все равно. Мое место находилось прямо пред Сашей Ляпиным, за спиной которого стоял стоваттный «Marshall» с двумя кабинетами. Саша расчищал перед собой пространство, чтобы ему было удобно двигаться. Как ни крути, я оказывался у него под ногами. И где бы я ни сидел, я насквозь простреливался его комбиком. Мне же пришлось довольствоваться одним монитором, через который я почти себя не слышал. На репетицию заглянули Маркшейдера, которые уже долго обитали в Москве. Они пришли днем, потому что вечером у них самих был концерт в каком-то клубе. После саундчека они подошли ко мне и сказали, что виолончель в зале отсутствует как класс. Я пытался добиться от Олега комментариев, он обещал, что все будет нормально. То же самое произошло и с микрофонами. Мы с Дюшей, по давней привычке, должны были подпевать Бобу. Но этого почему-то не было слышно. Вероятно, это можно списать на то, что у меня слабый голос. Но когда в песне про Двух трактористов я подходил к Бориному микрофону и пел один, а второй запев мы пели вдвоем в один микрофон, мой голос звучал в два раза громче его. Это была какая-то глупость. Вероятно, за годы обслуживания группы звукорежиссер привык к лакейской роли и считал необходимым в первую очередь ублажать звезду. После концерта ко мне подошли Ильховский с Нехорошевым и сказали, что, дескать, приятно было посмотреть на нас в старом составе, но вот виолончели почему-то так и не было слышно.
Перед выступлением всплыла еще одна неприятная подробность: хотя оговаривалось, что билеты будут стоить какой-то минимум (я уже не помню, сколько это в тех деньгах), но оказалось, что они стоят раза в три дороже. Это меняло характер всей акции. Но Стас Гагаринов делал вид, что он ни при чем: это, дескать, Дворец спорта сам определил цену на билеты. Хотелось на все плюнуть и просто уйти. Боб расположился в отдельной гримерной, в то время как нам семерым предоставили комнату раз в пять меньшую. Я не к тому, что нам не хватило места. Мне просто было любопытно посмотреть, какого запредельного «профессионального» уровня отношений достигла та группа, которая теперь называлась Аквариумом. Зал был заполнен на одну треть. Праздник удался. Также мне было «приятно» отметить, что, кроме Сашки Липницкого, который, наверное, не пропустил ни одного концерта Аквариума в Москве, да Ильховского с Нехорошевым, не было никого из наших старых московских друзей. После концерта мы все поехали в мастерскую к скульптору Александру Рукавишникову, другу Сашки Липницкого, где хозяин устроил нам роскошный импровизированный банкет. Менеджментом группы банкет запланирован не был. В поезде нам заплатили невероятного размера гонорар. Получалось, что обижаться вроде не на что. Предстоял концерт в родном городе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































