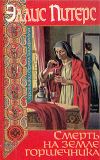Текст книги "Смерть Петра"
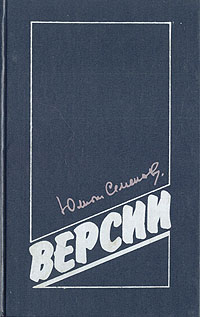
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
«Я пытал их, – похохатывая, рассказывал глава тайной канцелярии, – кто подговаривал такое говорить темным мужикам, они же ответствовали в слезах и стонах, что это кровь говорит и преданность предкам, и никто подговорить к оному не в силах, да и нужды нет, – весь народ так же думает».
Петр вспомнил, как Нарышкина (семейство, он знал, его кляло, лишь двое молодых защищали, считая, что сам государь – русский человек, не антихрист, только «немцы им, бедолагою, крутят») распускала слух по столице, будто во время молитвы снизошел к ней, к Нарышкиной, старец Тимофей Архипыч и отдал ей свою бороду: «Покуда хранить ее будешь, счастье с тобою останется». Нарышкина, сказывают, упала в беспамятстве, а когда откачали ее, принялась баба-дура всем рассказывать, что-де в молитве своей она сетовала всевышнему на то, как Петр, продавши душу иноверцам, позорит русских женщин, заставляя их открывать лицо на обозрение всем и терема покидать, а мужчин лишил главного русского украшения – бороды, стали словно бабы, как голомордым из дому выйти всем на позор?! Мужицкая морда без бороды на задницу похожа! И нет ведь на антихриста управы, – сетовала Нарышкина, – а все оттого, что в слове «император» сокрыты числа и буквы антихристовы: кто бы стал слово русское «царь» менять на римское «император», как не сатана?!
«Знамение всему этому давно было, когда Петр еще младенцем был, – причитала Нарышкина. („Мужик у ей хлипкий, оттого и кликушествует“, – хихикнул было Ромодановский, слушая рассказ государя, но, заметивши, как враз посинели зрачки и дернулась щека, оборвал себя, поняв, что сдуру не туда попал.) – Мать его грешница, оттого и он ирод!»
…Петр до сих пор отчетливо, до ужаса, помнил, как побелело лицо матушки, когда он, младенцем еще, во время приема послов, разбаловавшись (надоело стоять букою, пока бородатые дядьки бились лбами об пол), побежал вдруг по залу, стукнул ладошками в дверь, половинки ее распахнулись, и послы увидели женщину, стоявшую на коленях.
Мать-царица наблюдала за младшим сыном, глядя в замочную скважину, опасаясь, как бы Софьины бояре именно здесь, во время приема, когда пятилетний мальчик был без материнского ежеминутного попечения, не дали бы ему какую чарку – «так, мол, при делах посольских полагается», – а в ней зелье, что изводит младенца: всякие зелья умеют делать при государевых дворах, как же без этого, – зелье да плаха, лишь это открывает одному путь вверх, а другого сводит в беспамятное бесславие.
Главное – извести, покойник свою правоту не докажет, за покойника говорят враги, а те знают, что сказать…
…Тогда, сорок семь лет назад, иностранцы впервые увидели лицо русской царицы открытым, и случилось это потому лишь, что того пожелал – волею ль, невольно – пятилетний всея Руси государь Петр Алексеевич.
«А ведь кликуша-то Нарышкина, – горестно подумал Петр, – какая-никакая, а чуть что не родня, чего ж тогда от других ждать?! Не может мне до сей поры простить, как несмышленышем ладошками двери открыл и лицо матери чужие увидали!»
– Мастер Ен, скажи-ка на милость, сколько людей ты почитаешь своей родней? – неожиданно спросил Петр, принимаясь за крыло гуся, словно бы замерзшее, – так оно было пупыристо, покрыто поджаристой кожицей.
– Жена и дети, repp Питер, – ответил Ен, не задумавшись (впервые за те минуты, что встретил императора), – вопрос, видимо, показался ему прямым, без подвоха: какой тут подвох, коли про родных?!
– Ну а отец с матерью? – поинтересовался Петр.
– Женившись, уходят от них… Своя семья, свой дом; ведь если два хозяина, тогда война.
– А двоюродная тетка по матери тебе кто?
– Не знаю. Я просто не знаю ее, герр Питер.
– А если б знал?
– Я б, конечно, здоровался с ней при встрече, – ответил мастер Ен, – и на рождество дарил бы ей розовую ленточку.
– Ясно? – устало спросил Петр Толстого; тот сразу же прочел в глазах государя желание и задержал взгляд на денщике, стоявшем у дверей, что вели во внутренние покои и кабинет.
Тот подошел к мастеру Ену и, склонив голову в поклоне, сказал:
– Я покажу мастеру Ену корабельную библиотеку, государь, коли разрешите.
– Чего ж не разрешить? – согласился Петр. – Покажи.
И, порывшись в карманах, достал серебряный рубль, только что отчеканенный на монетном дворе:
– Держи, мастер Ен, от меня за добрую службу.
…Когда дверь за шкипером затворилась, Петр сумрачно хмыкнул:
– Экому политесу своих людей обучил, а?! «Корабельная библиотека»! – передразнил он денщика. – Забыл небось, как в ногах у меня валялся, когдя я тебя – в прошлом веке еще – за границу в путешествие гнал, уму-разуму учиться?
– Помню, – ответил Толстой с достоинством. – Потому я верен тебе как пес.
– Ты мне как человек будь верен.
– Собака верней.
– Эк стал горазд свое гнуть! Не иначе как у вольнодумных западных басурман научился вступать в спор, истину отыскивая?! Хоть с господом богом спорь, молодец, потому как истина всего дороже, и государеву делу от нее навар гуще, чем от нашего рабьего согласия! – вздохнул Петр и передразнил того прежнего, еще молодого Толстого: – «Не позволь, государь ты мой батюшка, в злые неверные страны-грязи мне ехати, не разреши заразы западныя прикасаться, гноем ихним обмазаться, неверием черным захворать!»
Петр помнил, как ему после каждой приходившей из-за рубежа почты доносили о перемене настроения Толстого: тот выехал, проклявши заранее то, что ему надлежало увидеть в поганой, чужой, грязной Европе. Однако после первых двух писем из Польши (в коих Петр Андреевич сокрушался по том, что он видит в Вене) настроение его переменилось, а в Венеции просто понравилось ему – порядок и красота, и люди не водку пьют, а чокелат, и одеты удобно для движения, а в Риме все друг дружке улыбаются куда как более, чем бранятся, и легко вступают в разговоры, и свободно входят во дворцы, где заседают коллегии юстиции и коммерции, и никто им путь не преграждает, и дамы отменно хороши оттого, что света в них много, солнечно.
Потом Толстой писать перестал, нанял себе учителей – а ему уж тогда пятьдесят стало – и принялся за изучение италианского и французского языков; выучил легко, отказался от толмача; в Италии вельможи потрясались достоинством, юмором и умом доверенного петровского посланника…
…Покончив с гусем, Петр выпил еще одну рюмку, но тяжелый блеск его глаз был по-прежнему тревожен, хотя государь казался спокойным, и лишь тот, кто знал его много лет, мог заметить, что каждый мускул сильного лица, хоть и несколько одутловатого сегодня, с тяжелыми брыльями, собран воедино огромным напряжением воли. Отпусти себя Петр, позволь на миг взыграть чему-то тому, что изнутри тяготило его, щеку враз перекосит, глаз поползет вбок, лицо сделается испуганным, как у младенца, – зови дохтуров, приступ!
Раньше, до середины ноября, Екатерина была лучше любого лекаря; положит прыгающее лицо мужа на грудь себе, начнет гладить лоб и щеку мягкой большой рукою; поцелует вихрастый (хоть и с наметившейся проплешиной) затылок, и Петр затихнет, страданий и судорог не будет боле – уснет.
Теперь, однако, после того, как Толстой и Остерман с трудом отговорили Петра от того, чтобы казнить августейшую супругу, – на следующий день после того, как был обезглавлен ее камергер, кавалер Виллим Монс, – император избегал бывать во дворце: Екатерина приглашалась лишь на официальные выезды, и Петр до того с нею был учтив и рассеян, что ясно было каждому: дни государыни сочтены.
Впрочем, что поражало самых близких Петру людей, чухонка держалась достойно, ни в чем перемены своего положения никому замечать не позволяла, – беззаботная улыбка не сходила с мягкого лица; участливость ее ко всем была прежней; оставалось только диву даваться: откуда столь высокий государственный ум в этой бабенке, подобранной светлейшим князем на улице в часы дымного упоения победой над грозным северным соседом.
«Только бы удержать ее; никого б не казнили, страх не нагоняло б ежечасный, – подумал вдруг Толстой, наблюдая, как Петр нетерпеливо, а оттого грубо резал окорок. – И нас как-никак пока слушает, не одного лишь Меншикова, и ум у ей скорый, а лицом и глазами так и вовсе словно б урожденная императрица».
Толстой не уследил за собою, дал волю фантазии, ужаснулся своей этой мысли, а оттого, словно бы от удара, откинулся на спинку высокого стула с витыми, голландской работы львино-мордастыми ножками.
– Ты что? – спросил Петр, будто бы угадав ужасную мысль Толстого. – А?
– Размышления всяческие сами по себе в голове шелобродят, – неожиданно для самого себя ответил Толстой полуправдою. – Дьявол в каждом сокрыт, и не всегда бог над нами сильней.
– А ты молись чаще, – посоветовал Петр, и странная улыбка на какое-то мгновение смягчила его лицо. – Молись, мин фрейнд!
…Граф Пушкин намедни рассказывал Толстому, что, когда Петр – по доносу мил друга генерал-прокурора Ягужинского – нежданно-негаданно вернулся из Шлиссельбурга во дворец, сказавши перед этим, что будет лишь через два дня, и застал в уединенном месте августейшую супругу в обществе своего любимца, кавалера и камергера Виллима Монса, а сестрица его, генеральша Балхша, сидела возле дверей, при карауле, да не укараулила, стерьва, Петр, хрястко взявши за уши жену – вроде бы ласкал, – приблизил к ней свое белое, враз ставшее старческим лицо и сказал:
– Ну, молись, мин фрейнд!
На что государыня спокойно, но только шепотом ответила:
– По принуждению можно делать все, что угодно, только не молитву, тем более что, по-моему, ухо вами наполовину оторвано.
Петр разжал пальцы, отошел к камину, опустился на маленький стульчик, где только что сидел кавалер Виллим Монс, и словно окаменел.
Так продолжалось долго; Екатерина не смела шелохнуться; шершавили минуты аглицкие часы, медленно отзванивали свое, отскрипывали, и снова ужасающая тишина давила залу, давила все, что было в ней, даже столик, казалось, делался шатким, вот-вот ножки хрястнут, посыплются, не удержат саксонскую, голубого фарфора статуэтку, – счастливый супруг с супругою, а вокруг херувимчики с детишками играются.
Облегченное освобождение от этой тяжести наступило, лишь когда Петр, словно бы сорвавшись, вскочил со стульчика, подбежал к окну, забранному тончайшим венецианским стеклом с сине-красно-желтым рисунком, и с размаху шлепнул ладонью по этой диковинной, чужеземной, сработанной италианским мастером красоте. Стекло обсыпалось на пол белою искристой пылью, ни красного, ни желтого, ни синего цвета не было уже, одно слово – осколки; ладонь государя окровавилась; он переметнулся ко второму окну что выходило в залу, где собирались придворные, и, не в силах удержать начавшейся пляски лица, крикнул, как выдохнул:
– И это в пыль превращу!..
Не поднимаясь с кресла, бледная до синевы, Екатерина ответила обычным мягким своим голосом:
– Стоит ли красоту превращать в пыль, государь? Куда как нравственнее пыль обратить красотою. Именно это угодно просвещенному гению.
…С тех пор государь не был в покоях Екатерины ни разу – полтора этих долгих месяца…
– Скажи-ка, мин фрейнд, – откушав окороку, обратился Петр к Толстому, – ежели со стороны смотреть, гораздо ли старше своих лет я ноне выгляжу?
– Моложе.
– Зачем лжешь?!
– А почему не веришь? – в тон Петру гневно возразил Толстой. – Если бы ты бородат был, патлат, в халате до пола, рукава до колен, тогда одно дело – дед, а коли ты словно молодой одет, брит, неряшлив, как истинный голландский шкипер, то не гляди, что плешив в малости и щеки будто у аглицкого пса пообвисли, – все одно моложе своих лет!
– Эк мед льет, хитрый фукс, – усмехнулся Петр. – В Венеции, что ль, при Дворце дожей, хитрости и лести Борджиевой выучился?
Толстой помнил, как его поразила Венеция; письма его оттуда были полны восторга.
Петр сразу же отличал, когда хвалили чужеземное, абы похвалить, чтоб ему сделать приятное и таким образом выслужиться, от того, когда говорили искренне. Ему было приятно, если бранили заграничное, – но по делу, не от тупого отрицания чужого, а оттого, что разобрались в существе дела и поняли, как у себя можно лучше и надежней сообразить.
Людей, которые считали, что он преклоняется перед западными мастерами оттого лишь, что они западные, Петр почитал дурнями.
То, как Толстой понял Италию, свидетельствовало о его недюжинном уме и широте взгляда.
А ему надобно было делом доказать свою нужность новому государю, ибо за границу он уехал вскоре после подавления стрелецкого бунта, и он знал, что Петру известно о его близости к повергнутой Софье. Лишь одно могло убедить государя в необходимости сохранить ему жизнь, ежели не свободу, – знание. И Толстой доказал свое умение постигать сокровенное, заставив итальянцев восхищаться его талантом политика и филолога.
Потом Толстой не раз доказывал Петру свою нужность: и в Порте, понудив Константинополь к миру, и в критические дни после бегства царевича, когда он выманил его в Россию и чуть ли не самолично провел дознание, и в делах с послами, аккредитованными в столице, и в переговорах со шведами. Доказал, а оттого сделался постылым любимцем.
…К удивлению Толстого, государь налил себе еще одну рюмку (вообще-то день его был – это восхищало Толстого – расписан по минутам, столь же тщательно было расписано и меню), выпил и, крякнувши, спросил:
– Посланник Виктор де Лю знаком тебе?
– Недавно еще прибыл, приглядываюсь.
– Хорошо ли приглядываешься?
– По мере сил.
– Ну-ну, – отозвался Петр. – Это отменно, коли по мере сил. Они у тебя немалые, а уж про ум и говорить нечего. Скажи, чтоб послали за де Лю, и перо с бумагою принеси, а я пока трубку набью и возле твоего очага погреюсь, коли разрешишь: надобно рукопись прочесть, до сих пор не поломал я нашу страсть вместо одного слова писать двадцать, и все всуе, абы форму соблюсти. Сие не просто гневит меня, а ставит в тупик. Как быть дальше – не знаю… Кстати, верно ли мне донесли, что ты в коллегию отписал рескрипт, дабы бить кнутом тех молодцов, кои, будучи отправлены на учебу в Лондон, Рим, Амстердам и Тулон, сыскали там, отдыха ради, по бабенке?
– Поди разберись, отдыху ли ради, – ответил Толстой. – А коли завертит нашего молодца чужая баба?
– Ни одна иноземная баба русского не перекрутит! Это уж мне поверь! Прежде он ее в доску загонит и своим кутенком сделает. Баба, коли ее мужик проймет, словно воск, и не наш балбес – как вы все тайно страшитесь – католичество примет, а, наоборот, тамошний бабец попросится в православие. Горько мне видеть, что ты начал боярской давлёжке поддаваться, кровным смешением себя пугать и тем, что, мол, духовная зараза у басурман сильна до крайности. Коли дома – здорово и дело каждому есть, духовная зараза к русскому человеку не пристанет. А поскольку мы все паки о чести своей радеем, то помни: коли нашим недорослям пока и есть чем за границею гордость свою выказывать, так вот этим! – Петр сделал рукой столь выразительный жест, что Толстой, расхохотавшись, вынул платочек, отер глаза, пообещал:
– Отзову свой рескрипт, пущай себе господа студенты обращают по ночам чужеземок в подруг православия, а значит, и державы Российской. Но днем наши сукины дети обязаны постигать науки: коли неучами вернутся – буду бить кнутом.
– С этим согласен. А то обидно: ты небось понял, как мастер Ен нам с тобою аршин загнал, отметивши, что у них каждый и в мелочи волен по-своему жить, – до гуся ли ему водку пить али позже, – какая разница! А у нас словес разводят по пустому поводу столько, что голову ломит! О чем радеем? Что отвергаем?! С чем согласны? Понять нас, когда все вместе мыслим, нельзя, а поодиночке – до сей поры страшимся, все скопом норовим… Ну, ступай, мин фрейнд, один хочу побыть.
Толстой вышел неслышно, а Петр, усевшись в низкое кресло, бросил в камин поленце, которое сразу же запузырилось бело-синим пламенем (угли держали в очаге постоянно, подкладывая сухой березняк, ибо знали любовь царя к теплу и яростную нетерпеливость, – пока разведут огонь, изойдет весь, страх как не может человек ждать; захотел – вмиг подавай, и все тут!). Тепло сделалось близким, а посему – ласковым, своим, бабьим. Петр достал из кармана типографскую верстку, разложил на коленках: «Юности честное зерцало»; умным нравилось, особенно в той части, где Петр требовал от родителей учить детей улыбчивости и предупредительности: «Как словно волки живем, на всякого скалимся, доброго слова не скажем, рявкаем да „нельзякаем“, а ведь нет народа добрее и покладистей, чем наш, зачем же себя позорим в глазах иноземцев, которые во внешней воспитанности поднаторели?!»
…Посланник де Лю оказался человеком молодым еще, крепкого кроя, низкорослым; пальцы его были коротки и ухватисты – легко и, видимо, быстро собирались в кулак; шея коротка; голова словно у боксера, даже нос перешиблен (готовясь к встрече с посланником загодя, Петр затребовал у иностранной коллегии все данные, собранные на этого человека; значилось, что в юные годы работал толмачом в Лондоне при своем посольстве; значит, как и юные русские, отправленные туда на учебу, не мог не увлечься боксированием).
Посланник сделал поклон с растанцовкой, грациозно, но при этом казалось, то ли он норовит уйти от удара незримого противника, то ли, наоборот, готовится нанесть свой; галантности мало, боксерского бойцовства – чересчур; английский штиль, ничего не поделаешь.
Петр, не поднявшись с кресла, шаркнул левой ботфортой, что означало ответное приветствие, и кивком пригласил посланника сесть рядом.
Тот, поняв, ответствовал обязательным в таких случаях отказом:
– Не смею, ваше величество… В вашем присутствии…
Петр зевнул:
– Мин зюсе, садись, коли приглашаю.
Виктор де Лю снова потанцевал на толстовском узорном паркете, выражая этим высшую степень благодарности, а затем не то что присел, а как-то акробатически прислонился краешком задницы к атласному креслу, что было по правую руку от любимого государева кресла.
– Ну, как живется-можется в нашей северной столице? – сонно поинтересовался Петр.
– Я восхищен той огромной работой, которая поразительна и восхищает всякого…
– Восхищает? А чем? – спросил Петр и чуть заметным взмахом руки повелел графу Толстому и денщику Василию Суворову выйти из зала.
– Город, поднимающийся на глазах, уже сейчас обретает черты столицы, равной по мощи разве что одному лишь Лондону. Одна широта пришпектов и величие набережных делают Петербург совершенно особым, не виданным ранее в Европе, местом.
– Ишь, – усмехнулся Петр, – поднаторел ты, мин либер, в точности посольских словечек; послушать тебя, так у нас и прорех никаких нет, и мужик счастлив, и жулье вывелось – одно благоденствие.
– Все невзгоды, кои не могут не сопутствовать такому великому периоду, тревожат сердце просвещенного монарха, а посему будут преодолены в кратчайший срок.
– Не будут, – отрезал Петр. – В кратчайший срок не будут. Зачем лжешь? Протокол протоколом, а коли метишь в министры – а ты обязан в оного метить, де Лю, – не ври в глаза, не выдавай за действительное то, чего каждый монарх желает своей державе. Мелюзгой тебя станут твои же вельможи считать, а похуже того – трусом…
Виктор де Лю погасил в себе остро вспыхнувшее чувство обиды, потому что русский варвар при всей его грубости сказал вещи верные: и в министры посланник метил, полагая свою работу в Петербурге единственно надежной дорогой в правительственный кабинет, и клял себя (особенно утром, перед началом работы) за трусость и малость, до боли завидуя тому, как полномочные послы Кампредон и Ле Форт разговаривали на вечерних ассамблеях с министрами Петра: чуть ли не на равных, открыто высказывая критические мнения, а прусский чрезвычайный посол Мардефельд позволял себе (до ноября, пока Меншиков не был отстранен от дел и уволен в жесточайшую опалу) бесстрашно спорить со светлейшим едва ли не по всем аспектам внутриполитического положения империи.
Наблюдая себя со стороны, де Лю пришел к выводу, что трусость есть качество врожденное. Смелость, считал он, а особенно смелость слова, нарабатывается не годом и не жизнью, а поколениями, родословной, говоря точней…
Отец с трудом выбился в люди, сына учил осторожности, не подталкивал к великому, а, наоборот, советовал делать ставку на то, чтобы удержать накопленное, пусть даже малое.
…Петр задумчиво достал из одного из своих бесчисленных засаленных карманов пакет, увидев который де Лю побелел лицом.
– Мин либер, прочти-ка мне свое послание вслух, а?
Де Лю взял протянутые ему государем бумаги, откашлялся и, ужасаясь себе самому (но в самой глубине души восхищаясь), отчеканил:
– Ваше императорское величество, тайна переписки посланника со своим государем охраняется международным правом, и я не могу не протестовать противу того, что мое донесение стало известно третьему лицу.
– Я не лицо, де Лю! Я – государь всея Руси! Читай!
– Не стану!
– Ноздри вырву – станешь! – Лицо Петра перекосило яростью.
Де Лю закрыл глаза и обреченно покачал головой:
– Не буду.
– Ну, это хорошо, первый экзамен ты выдержал, – удовлетворенно заметил Петр. – А теперь смотри выгоду свою не пропусти, главную выгоду. И не вздумай листки в камин бросить, – я не посмотрю, что император, выгребу с угольев, – хоть копия с твоего поганого донесения у меня уж хранится в архиве. А что касаемо тайны переписки, то я охраняю ее, мин либер, охраняю сугубо требовательно. Только вот на несчастье суда нету: разбойники позавчера напали на почту, перебивши охрану; искали денег. Сегодня поутру мои солдаты настигли супостатов; прислали ко мне гонца, тот, огорченный происшедшим, тотчас передал мне письмо, вскрытое разбойниками. Так что не подумай дурного: случай, он и есть случай, куда ни крути. Читай, – миролюбиво заключил Петр, – дело поправимое, только читай, мне твой голос хочется послушать – я в нем для себя намерен главное выяснить, к твоей же, повторяю, пользе.
Де Лю долго откашливался, думая отказать государю, а затем – неожиданно для самого себя – начал читать:
– Сир! События в Петербурге заслуживают того, чтобы быть описанными самым подробным образом. Мое ноябрьское донесение вашему величеству не включало – и не могло еще включать – сообщение о том, что потрясло северную столицу. Свершилось падение двух фаворитов Петра. Светлейший князь Меншиков был отправлен в опалу, якобы за хищения, и казнен камергер императрицы, кавалер Виллим Монс. Судьба этого человека – брата первой фаворитки государя Анны Монс – поразительна, как, впрочем, и все происходящее при здешнем дворе. Во время битвы под Полтавой Виллим Монс был адъютантом Боура и за отвагу, проявленную на поле брани, удостоился чести стать адъютантом государя. Через пять лет он бы переведен камер-юнкером ко двору императрицы и с тех пор сделался персоною, весьма близкою к августейшей семье. Петр высоко ценил блестящий ум кавалера, его отвагу, красоту и знания. Однако же государыня, как оказалось, ценила в Монсе не только поименованные качества, но и другие, для нее, видимо, главные. Об этом – как выяснилось теперь – шептались при дворе, однако государь был глух к такого рода слухам, целиком доверяясь своей августейшей половине. Гром грянул в ночь на девятое ноября. Говорят, что гнев Петра был столь ужасен, что, когда он явился лично выспрашивать Монса, тот не смог ничего ответить, лишившись чувств от страха. В карманах камзола Монса были обнаружены два чудных портрета государыни в бриллиантовой осыпи и стихи, написанные рукою несчастного кавалера: «Любовь – моя погибель; в сердце моем страсть, и она станет причиной моего конца, ибо я дерзнул полюбить ту, которую мог только уважать!..»
– Строчка пропущена, – заметил Петр. – В русском переводе ты строку упустил: «Даст махт их либен воллен». Сам небось перевод делал? Или от моих господ вельмож готовый получил?
– Я сделал перевод сам, государь.
– Плохо врешь, – убежденно сказал Петр. – Ну да бог с тобой, читай дальше.
– Увольте, ваше императорское величество.
– Я кому сказал, мин либер?! – не открывая глаз, сказал Петр.
– «Сказывают, – медленно, как бы преодолевая себя, продолжал де Лю, – что после того, как Монсу был вынесен смертный вердикт, его императорское величество поехал в острог и, по обычаю своему, взявши смертника за уши, приблизил его лицо к себе и сказал на родном языке кавалера: „Мне жаль тебя лишиться, но иначе быть не может“.
– Неверно тебе донесли. Я сказал господину кавалеру Монсу, что и пес хозяйскую руку не кусает, понеже не годится такое человеку вытворять. Дальше!
– «После того как Монс спустя неделю был казнен, – продолжал свое мучительное чтение посланник, – и голову его воткнули на кол посреди площади, Петр, посадивши августейшую свою половину в коляску, повез ее мимо окровавленного трупа, близко заглядывая при этом в глаза государыни…
Через неделю Петр повелел заспиртовать голову Монса и, сказывают, установил ее в опочивальне венценосной половины, запретив выносить оттуда до особого на то распоряжения.
Вскорости после этого государь провел тайные советы со своими ближайшими помощниками; уволил в опалу Меншикова и, сказывают, начал готовить ряд перемещений в кабинете, дабы привести к управлению не столько представителей ныне уже знаменитых семей, сколько простолюдинов, обученных и проверенных им в ратных и строительных делах. Симпатии государя к этого рода работникам, никому ранее неведомым, делаются очевидными чем дальше, тем больше.
В случае такого рода поворота следует ждать новых Реформ, дающих еще больше свобод внутри державы, особенно тем, кто имеет страсть к делу, будь то флотостроение, торговля, металлургия или же создание аптек и клиник, коих пока еще мало в России…
Можно было б ждать новостей уже в начале генваря этого, нового, 1725 года, однако ж государь, сказывают, Усугубил свою осеннюю хворобу, простудившись шестого числа на церемонии водосвятия во время праздника Крещения…»
– Мин либер, – прервал посланника Петр, – сегодня у нас девятое, а я и не думал студиться, – как видишь, в полном здравии. Кто тебе об этом донес?
– Кричали на папертях, ваше императорское величество, – ведь я в русские церкви тоже хожу вместе с моим помощником Фридрихом Файном.
– Юродивые ныли?
– Нет, говорили в толпе: мастеровые, капитаны, торговцы.
– Таким образом, ты хочешь упредить мой следующий вопрос про то, что к тебе поздним вечером на подворье с новостью о моей простуде никто из посланцев от господ вельмож тайно не приходил?
– Готов поклясться.
– Иди к столу… Перо там тебе приуготовлено, бумага тоже, устраивайся и пиши новый рапорт своему великому князю, – я самолично стану диктовать. Пиши, пиши! Я ж не зря говорю – к выгоде твоей случилось разбойное дело. А то, что я продиктую, разнесешь коллегам – парижскому Кампредону сообщишь доверительно, и саксонцу Ле Форту, – пущай спорят и строят догадки, смеются – мое тебе будет за это благорасположение. Итак, пиши: «Сир! Во дворцовых кругах говорят, а граф Толстой с Ягужинским подтвердили мне, что Петр намерен провести ряд реформ в торговле и промышленности, дабы покончить со взятками и казнокрадством не буквою, но духом будущей российской жизни, в которой выгоднее и надежней быть честным в тяжкой работе, но богатым зато, чем вором – в хитрованстве супротив законов, да в лености. Для сего дела, сказывают, Петр готов на все. И верно, в ночь на девятое ноября прошлого году был схвачен его и государыни любимец кавалер Виллим Монс, причем был барабанный бой, и солдаты клеили афиши, в коих сообщалось, что Монс с сестрою, генеральшею Балхшихою, за то заключены в каземат, что брали взятки. Через неделю с лишком был объявлен государев рескрипт: „Шестнадцатого числа сего ноября в десятом часу пополудни будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Виллиму Монсу да сестре его Балхше, подьячему Егору Столетову, камер-лакею Ивану Балкиреву – за их плутовство такое, что Монс и сестра его, будучи при дворе его императорского величества, вступили в дела, противные указам государя, и укрывали виновных плутов от облегчения их вин, и брали за это великие взятки“… Теперь тебе надобно дать подробности, мин либер, каковых никто из здешних твоих коллег не знает. Допиши, что Монс за услугу, которая заключалась в том, чтоб протолкнуть через государевых помощников ту или иную просьбу, от кого шестерку лошадей брал, от кого – коляску; очень ценил атлас и опахала из Бэйцзина… Допиши, что Петр смилостивился над Балхшихою, когда та на площади слезою молила о пощаде, и повелел ей дать вместо десяти кнутов только пять – перед отправлением в Тобольск на вечное житье…
Закончил?
– Да, ваше императорское величество.
– За спиною ты меня не величеством обзываешь, – усмехнулся Петр, – а бомбардиром… Я не в обиде… Только к бомбардиру не забывай слово «господин»
приставлять, а то неуважительно звучит, словно о какой собаке речь идет, особливо такие клички в ходу у капитанов голландских торговых фрегатов, – те любят так называть волосатых своих черных псов. Добавь для куражу, что Петр повелел детей Матрены Балхши – камергеров и пажей императрицы – отдать в солдаты… Припиши и еще: мол, сказывают, что государыня – чистая, доверчивая душа – так была потрясена коварством своего камергера, что соизволила произнесть фразу, разглядывая отсеченную голову Монса: «Как грустно, что у придворных так много еще низких испорченностей в натуре».
Петр замолчал надолго, словно забыв о посланнике, а потом закончил:
– А далее, де Лю, пиши то, что тебя в глазах великого князя подымет и откроет тебе путь вверх. Пиши так: «Коли получу от вас, сир, дозволение, то смогу – благодаря наладившимся связям с приближенными русского государя, а особливо денщиками его Суворовым и Поспеловым – обговорить заранее выгодные нам контракты на русское парусное полотно, которое ныне и лучше, и дешевле голландского стало, а с нашей стороны можно – с превеликой для нас пользою на будущее – отправить в Россию минералогов для поиска железных руд и углей, а этого добра в громадном изобилии хранят недры страны варваров…» Пиши, пиши, не вздрагивай, мин либер! Что ты, право, как девица – слова «варвар» пугаешься?! Какая тебе будет вера, коль мордою нас об стол не повозишь? Пиши: «…норов россиян таков, что коль идти к ним с добром и открыто объяснять свой резон и ожидаемую от оного выгоду, то они, переборов свой страх перед иноземцами, будут отменными партнерами в деле, не подведут; коли обманут – то в неразумной купеческой малости, – но в главном лучше себе сделают убытки, чем тому, с кем ударили по рукам, ибо чувство собственного достоинства в них сильно до чрезвычайного…»
Петр снова замолчал, потом потухшим голосом заключил:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.