Текст книги "Лютый остров"
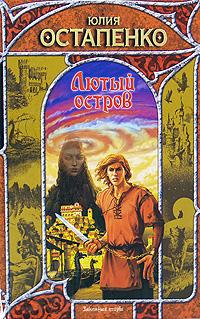
Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
– Если ты найдешь такое место, – сказал Рустам ему в спину, – ты сообщишь мне об этом?
Альтаир обернулся через плечо. Капюшон бросал тень на его глаза, но губы улыбались знакомо.
– Верь, шимран.
– Это будет вера Рустама, – серьезно кивнул тот.
А потом слушал, как удаляются по лестнице шаги – вверх, а не вниз, – и стучит раскрытая ставня, и чуть слышно скрипит черепица, и срывается с карниза потревоженный голубь; а потом – тишина.
22-25 июля 2007
Горький мед
1
– Эй, Орко! Там Умысловы девки в баню пошли. Быстрей, ну!
Веснушчатая рука впилась в его рукав и поволокла прочь, так что выбор у Орешника был невелик: то ли стряхнуть с себя эту руку, то ли покорно перебирать ногами. Стряхнуть Груздя он не мог, хотя и хотел, – рыжий, как ржа, пострел никакого стыда не знал, а осторожности в нем было не больше, чем ума. Ну кто еще стал бы вот так подбегать да орать на всю улицу – слушайте, мол, люди добрые, всем расскажем, куда собрались. Потому Орешник спорить не стал – ни к чему лишние взгляды притягивать. А еще потому, что Груздь ему нравился – смешной такой парень и бедовый в меру. С ним никогда не бывало скучно, даром что умом его Радо-матерь обделила. А может, потому и не бывало. Он и прежде, когда они с Орешником мельче были, измысливал вечно сумасшедшие выходки, за которые отец потом драл его в три ремня – а случалось, и Орешнику от собственного отца попадало, пособничал же... Всякий раз, поднимаясь со скамьи и потирая горящий от ивовой розги зад, Орешник давал зарок: что бы Груздь ни придумал теперь – ни ногой. И, конечно, всякий раз зарок нарушал.
Вот и сейчас – третьего дня еще Груздь прибежал к нему, чуть не повизгивая, будто пес, откопавший на заднем дворе сладкую косточку. В новой бане, сказал, – ну, той, которую у Золотого Брода весной выстроили, – в бревенчатом частоколе есть зазорина. И славная такая зазорина, большая, а прямо перед ней – кусты, понаползавшие к частоколу за лето. «Сечешь, к чему?» – спросил Груздь Орешника, задорно сверкая глазищами. Орешник сек – еще бы, баня-то бабья.
Он посмеялся над этим тогда, да и забыл. Не думал, по правде, что даже у Груздя наглости хватит. Золотой Брод совсем недалеко от кременского рынка, место людное, от зари до зари там снует народ с возами, телегами, да что там – сам Мох, Орешников батька, только этой дорогой и ездит через речку на рынок и назад. Да почитай полгорода за день проходит мимо этой треклятой бани! Нашли где выстроить. Речка, правда, совсем рядом, вода там хорошая, чистая. Говорили, кнеж нарочно повелел сделать перед банькой пруд: вырыть в земле длинную узкую яму, пустить по ней своенравную воду, чтоб не там текла, где вздумается, а там, где человек ей велит. Орешник слышал, как отец его обсуждал этот кнежий приказ со своими кумовьями, недовольно качая головой: где это видано, чтобы человек менял то, что богами положено? Ясное дело – все фарийцы проклятые, иноверы, замутили кнежу разум... Ну, замутили или нет, а пруд сделать научили, так что теперь и бабы могли, как мужики, выскочить из баньки – да прыг в славную холодную водичку, парок сбить. Прежде-то робели – не выйдешь ведь из банной избы в одной рубахе. А так, за частоколом, почему бы не выйти? В той бане даже истопницами – и то бабы. И почти всякий раз, проходя Золотым Бродом и слыша за частоколом плеск и смех, Орешник мимо воли сладко вздрагивал, воображая, что там сейчас, за бревнами, близко совсем...
И вот нате – вчера только воображал, а сейчас уже шел за Груздем, тащившим его по улице. И куда шел? Да вот туда и шел...
– С окраины обогнем, – жарко шептал Груздь, топоча рядом. – Там бузина разрослась, почти до самого мостика. Проползем, и не заметит никто.
«А если заметит?» – подумал Орешник и сглотнул. Задница под штанами мучительно зачесалась. Отец уже года три не порол его, но память о тяжкой батюшкиной руке была все равно свежа, и – Орешник не сомневался – найдись подходящий повод, Мох снова без колебаний наломает ивовых веток и велит сыну распоясаться. Думать про это было и страшно, и стыдно. Но Груздя оттолкнуть тоже было стыдно – засмеял бы. А еще – что таить – сладко было тоже, как вспоминался Орешнику тот плеск из-за бревенчатого забора.
Потому и пошел.
Груздь, видать, хорошенько все разузнал, прежде чем бежать за своим дружком, – так и вышло, как он сказал. Была середина дня, самый разгар торга на южном рынке, так что люд кременский хотя и ходил через брод, но и вполовину не так бойко, как на рассвете и в сумерках, в начале и конце торгового дня. Отец Орешника тоже был сейчас на рынке, сторговывался про хлопок и шерсть. А Орешнику надлежало сидеть дома и переписывать что-то умное и скучное из большой отцовской книги, тоже про хлопок и шерсть. Еще год назад Орешник гордился, что знает грамоту, впрочем не особо кичась этим перед Груздем, отец которого был горшечником и сына своего, покамест подмастерья, а в будущности своей тоже горшечника, грамоте не учил – к чему? И впрямь, к чему, думал теперь Орешник, размышляя, сильно ли влетит ему, если отец узнает, что он увильнул от науки и убежал с Груздем. Ох, да куда убежал...
– Тише, да тише ты, – шикал Груздь, когда они, бухнувшись носами в высокую траву, поползли меж кустов к темневшему впереди частоколу. Орешник старался сопеть потише и двигаться поосторожнее, с часто бьющимся сердцем вслушиваясь в шаги и говор кременцев, шагающих по дороге в каком-то десятке локтей от них. Груздь полз впереди, от души работая локтями и коленками. «Да уж, ему что, ему-то мамка уши не обдерет за измазанные землей и травой штаны», – подумал Орешник мрачно и через миг уперся теменем дружку в зад.
– Вставай, – донесся хриплый шепот Груздя. – Да чтоб тихонько! Оно вроде тут...
Кругом было зелено, впереди – темно от истекающего смолой бревенчатого заслона. Вот вымажутся они оба в этой смоле, ровно как убивцы в невинной кровушке, – как потом объясняться станут, где лазали, на что глазами бесстыжими зыркали?
– Осторожней там... смола... не перемажься, – еле слышно предостерег Орешник, но Груздь уже поднялся на колени и шарил ладонями по частоколу, тычась носом в самые бревна. Орешник лежал в шаге от него, скрючившись, угрюмо думая, не порвал ли штаны, и ждал.
– Чего там так тихо? Ты точно знаешь, что Умысловны...
– Х-ха! – прервал его радостный выдох Груздя, и конопатая рука яростно замахала, одновременно веля умолкнуть и подзывая ближе.
Орешник подполз ближе и привстал, разглядев наконец тот зазор, про который толковал Груздь.
И как глянул, и изгаженная одежда, и материна ругань, и даже батьков ремень – все вмиг забылось.
Зазор и впрямь был широким, а главное, длинным – Груздь и Орешник могли оба, не толкаясь, глядеть в него, озирая сквозь щель почти весь двор баньки. Благо он небольшой был, двор, – прудик оказался крохотный, едва ли больше пяти локтей в ширину, от края его к задней двери бани вела присыпанная песком тропинка. Тропинку эту прямо сейчас подметала баба-истопница, дюжая, будто кнежий дружинник. Из трубы на плоской крыше деревянного сруба вовсю валил дым, а из отдушины под самой стрехой – пар: упарились, видать, девицы, запросили пощады. Значит, вот-вот выйдут...
– А кто... – начал Орешник, и Груздь опять зашипел:
– Ш-ш! Слышишь?
Орешник прислушался. Из бани, изнутри, доносились звуки – приглушенный смех и девичьи голоса. Тонкие голоса, высокие, молодые... В паху у Орешника сладко заныло, он дернул было рукой, но тут же опомнился, стиснул пальцы в кулак.
Они сидели, не шевелясь, на корточках, под надежным покровом густой листвы, почти не дыша, во все глаза глядя то на бабку-истопницу, то на запертую дверь. А потом вдруг дверь распахнулась, и стайка хохочущих, раскрасневшихся девок в одних сорочках высыпала во дворик и с веселым щебетом кинулась к пруду.
– А ну, Аська, догони, догони! – кричала самая младшая из них – сероглазая Младка, которой только этим летом пятнадцатый год минул. А все равно уже ладной была девка, хоть и болтала и хохотала еще, ровно дитя: тонкая хлопковая сорочка почти не скрывала ее полного, уже не девчачьего, но женского тела. Подбежав к краю пруда, девчонка взмахнула руками и плюхнулась в воду, будто птичка подстреленная, так, что брызнуло во все стороны на траву, на песчаную тропинку, даже на частокол – Орешник невольно отпрянул, а Груздь, беззвучно хохотнув, отер с носа блестящие капли. Две другие Умысловы дочки, тоже смеясь, поспели за младшей, хотя и не так споро. Самая старшая, Улыба, сперва попробовала воду босой ножкой, брезгливо поджала пухлые губки.
– Холодно! – пожаловалась и завизжала, когда две другие, хохоча, стащили ее с края вниз. Истопница глядела на балующихся девок, покачивая головой и бормоча себе под нос: дескать, здоровые девки уже, все трое на выданье, а все – ровно детвора... Хотя Орешник, по правде, не слушал толком, да и не смотрел сейчас на истопницу – он глаз отвести не мог от юной, крепкой девичьей плоти, обтянутой враз намокшей тканью сорочек, так, что можно было взглядом обвести каждый изгиб, каждую сладкую складочку, и чудилось – руку только протяни, и ладонь заполнится...
– Аська-то как хороша, – прошептал Груздь у Орешника над ухом. – Ты глянь только, какие у нее...
– Медка! – пронзительно закричала вдруг вертлявая Младка, отмахнувшись от резвящихся сестер. – Медка, ну где ты там? Иди к нам!
– Не кричала бы ты так, девонька, чай не на лугу, – строго сказал истопница, но девчонка даже глаз в ее сторону не скосила – этой ли смердячке указы раздавать ей, любимой дочке кнежьего воеводы Умысла. Сердито стукнула кулачком по темному от воды песку и снова крикнула:
– Медка, ну! Рассержусь!
И тогда задняя дверь бани распахнулась снова.
Не так широко, как прежде, и совсем тихо. Девушка, вставшая на пороге, повременила немного, обводя взглядом огороженный двор – ровно волчица, тянущая носом воздух кругом своего логова. Потом ступила на желтый песок босая нога, медленно ступила, будто на тонкий лед, и так спокойно, словно умела ходить хоть по облаку, хоть по воде. Потом другая нога, и две они разом, вместе, маленькие эти белые ножки, будто выточенные из драгоценной кости невиданного прекрасного зверя, были краше изгибов всех трех Умысловых дочек, взятых разом, краше снов, которые будили Орешника по утрам в последние годы, краше всего, что он только видел за все свои семнадцать весен.
Девушка постояла, словно в раздумье, слегка поджимая крошечные, розоватые от пара пальчики. Потом пошла вперед, шелестя сорочкой, спадавшей едва до колен. Тогда только Орешник сумел вдохнуть – а потом и поднять взгляд, выше, выше...
Пока запоздалый вдох комом не встал в горле.
Она... она.
Ох, Черноголовый забери!
Оцепенение, охватившее Орешника, отпустило разом – так, будто все косточки повыдирали из тела. Он не знал, что хотел сделать – отпрянуть, вскочить, закрыть рукой глаза, а то ли врезать Груздю по уху за то, что не предупредил. Да только Груздь и сам не знал – это Орешник понял вдруг, услышав, как тот ахнул, вжимаясь лицом в зазор между бревнами еще крепче.
– Ох ты, молния разрази... Глянь, глянь, какая! – прошептал он хрипло, почти простонал, и Орешник невольно вновь посмотрел туда, куда и он... на нее.
– Медка, Медочка, ну иди к нам, водичка такая хорошая! – щебетала Младка, а ее сестры, даже смурная Улыба, хором ей вторили. Подруга глядела на них, стоя посреди тропинки от бани к пруду, но ближе не шла, только улыбалась им – так, как мать улыбалась бы, глядя на забавы любимых чад. Глянув на бабку-истопницу, улыбнулась снова, и та перестала ворчать даже, просияла в ответ – да и можно ли не просиять, когда на тебя глядит такая...
И едва Орешник успел об этом подумать, как она опять повернулась, словно бы к девушкам – и посмотрела ему прямо в глаза.
Орешник услышал треск и тогда только понял, что повалился назад, ломая кусты и раздирая штаны в клочья. Из-за частокола донесся испуганный визг, а потом – басовитая брань истопницы. Груздь взвыл от отчаяния и сгреб Орешника за шиворот.
– Ах, чтоб тебя! Бежим!
Орешник попробовал встать и снова упал, неловко, на левую руку – да так, что плечо проткнуло болью. Ладонь стала мокрой и заболела, когда Орешник оттолкнулся ею от земли, пытаясь снова встать – на этот раз, слава Радо-матери, получилось. Груздь уже вовсю улепетывал сквозь кусты, ветки трещали спереди и справа, визг позади не становился тише, но басовитая брань отдалилась – бабка побежала за ворота, ловить наглецов да волочь на расправу. Мысль о расправе вернула Орешнику власть над собственным телом. Подобравшись, он ломанулся вперед, будто медведь сквозь малинник, вылетел на дорогу, чуть было не сбив с ног какую-то женщину, отпрянул, отчаянно огляделся, увидел мелькнувшую впереди огненную макушку Груздя – и кинулся за ним... чтоб убить, на месте взять и убить – так он тогда думал.
Истопница, по счастью, не видела их – а не зная, за кем гонится, не стала преследовать, довольствовавшись тем, что отогнала наглецов от забора. Вскоре Груздь с Орешником стояли в рощице за речкой, упираясь ладонями в колени, тяжко дыша, и глядели друг на дружку с неподдельной ненавистью.
– Ты дурень! – рявкнул Груздь, когда обида и разочарование отпустили наконец горло. – Шарахнулся, будто бешеный, шуму наделал! А если в поймали?!
– Сам ты дурень! – накинулся на него Орешник: сгреб приятеля обеими руками за грудки да тряханул так, что тот заморгал. – Ты почему мне не сказал, что там Древляновна будет?
– Так я не знал! Я видел, как Умысловы девки в баню входили, а ее не видел... вот так повезло, а, как повезло-то?! Увидать саму Медовицу Древляновну в одном исподнем... а ты взял и напортил все!
Он говорил так обиженно, как лет этак восемь тому, когда Орешнику случалось по неосторожности разрушить домик из опилок и глиняных черепков, который они вместе строили. Для Груздя что домики из опилок мастерить, что за девками в бане подглядывать – все равно было забавой. А еще он не понимал... он, кажется, вправду не понимал, что они только что сделали. И от одной это мысли Орешнику стало так тошно, страшно и гадко на душе, что он отпустил Груздя и отступил на шаг.
– Дурак ты, – сказал он глухо. – Дурак.
– Чего это я дурак? А у тебя вон кровь... исцарапался. Глянь, сильно как течет.
Орешник тупо посмотрел на свои изодранные ладони. И на одежду... ох ты... нет уж, отец никак не поверит, что этак извозиться и изодраться можно было, переписывая числа из расходной книги. А уж мать...
Но об этом он думал теперь отстраненно и равнодушно, без тени давешнего беспокойства. Что мать – накричит, да и делов. Что отец – ну, выдерет... не впервой. Из ума Орешника не шло другое теперь: глаза. Глаза Медовицы, Древляновой дочери, темные, жаркие, будто пасти псов Черноголового. И совсем не злые, не испуганные, не устыдившиеся того, что поймали в зазоре бесстыжий взгляд... спокойные. Ласковые почти. И в самую душу, в самое нутро ему глядящие, и смеющиеся над тем, что они там увидели.
– Она на меня посмотрела, – сказал Орешник.
– А?
– Посмотрела. На меня.
– Да-а? Ну... Думаешь, узнала? – спросил Груздь, кажется, впервые по-настоящему испугавшись. Вообразил, небось, как завтра Древля встанет на пороге Мхова дома, требуя его дерзкого сына на кровавую расправу. Да только того не будет, Орешник знал.
Будет хуже.
* * *
Домой он возвращался окольным путем, переулками. Прошел через заднюю калитку, проскользнул двором, вжимаясь в стену, будто вор, – только бы не увидели, не окликнули. Повезло – отец еще не вернулся, мать тоже куда-то ушла. Орешник пробрался к колодцу и вымыл руки, потом, вдруг, сам не зная зачем, вылил себе целое ведро воды на голову, и почудилось ему, он слышит, как кожа шипит, выпуская распиравший его пар. В горле было твердо, словно что-то сглотнуть не давало, и... словом, не только в горле. От холодной воды малость полегчало – Орешник даже смог оглядеться и заметить, как глазеет на него соседская ребятня, стоящая за плетнем.
– Чего зыркаете? Прочь пошли! – прикрикнул он, и ребятня разбежалась. Орешник стащил мокрую, грязную рубаху и поплелся в дом. Из головы у него все не шли глаза Медовицы и ее ноги, загребавшие пальцами влажный темный песок. Он подумал вдруг: знала она, что они с Груздем на нее смотрели. Еще до того как вышла из бани – знала... может, потому сперва и не выходила.
Вот только зачем все-таки вышла?
Дома он переоделся в чистое, а грязное затолкал в короб, который мать держала для стирки – авось не заметит... Вернулся в светлицу, где отец его утром оставил постигать скучную и тяжелую науку торговли, сел на скамью у стола перед раскрытой книгой, попытался читать. Буквы, числа, страницы прыгали перед глазами, и мысли прыгали в голове, и сердце прыгало, будто он все еще бежал прочь от Золотобродской бани, без оглядки, так, что пятки сверкали... Не от бабки-истопницы, вопящей за спиной у него, бежал. А от кого – о том и думать не хотелось.
Орешник сам не знал, сколько просидел, пялясь невидящим взглядом то в книгу, то за окно. Мать вернулась, пожалела, что целый день сынок дома сидит, трудится, спросила, не голоден ли. Отец вернулся тоже, сперва кивнул, застав сына там же, где и оставил, а потом подошел, глянул через плечо, увидел пергаментную страницу перед книгой, почти совсем чистую, – нахмурился. Хотел будто бы сказать что-то, да только головой покачал.
За ужином Орешнику ломоть в горло не лез. Мать заметила, поглядывала тревожно, то одно предлагала съесть, то другое. Орешник вяло отмахивался, украдкой подмечая взгляды, которые бросал на него за трапезой Мох. И не нравились ему эти взгляды, ох не нравились...
Вдруг, оборвав материны уговоры и причитания, поднялся Мох со скамьи.
– Идем со мной, – велел сыну.
Орешник на миг подумал – уж не прознал ли батька про то, что утром было, и тут же решил: не прознал. Откуда? Да и знал бы, другой бы у них шел разговор... и давно бы шел. Так что поднялся молча, вышел за отцом следом.
Дом у Мха был большой. Слуг не держали, правда, – мать Орешника сама управлялась. Кроме единственного сына, не дали боги Мху со Мховихой больше детей, так что у них и заботы было – дом и хозяйство поднять, на широкую ногу поставить. Мох промышлял торговлей: ездил когда в ближние, а когда и в дальние села, привозил оттуда шерсть, хлопок, пряжу и продавал в Кремене по тройной цене. На то и сына готовил. А сын... что сын – отцу не перечил. Не то чтобы у него тяга была к торговому делу, но ни к какому другому делу тяги не было тоже. К тому же не так Мох воспитал сына своего, чтобы тот нос воротил да харчами перебирал – как отцом сказано, так тому и быть.
Потому шел теперь Орешник за отцом понуро и покорно, хотя и не знал, на суд ли его ведут или на совет. Как оказались они вдвоем в отцовой горнице, Мох дверь прикрыл и подошел к окну. Сцепил сильные руки за спиной, постоял немного, глядя перед собой.
– Ты где утром сегодня был?
Орешник дрогнул. Отец повернулся и посмотрел в глаза ему из-под сведенных бровей, прямо, внимательно, вовсе без гнева. Это его обнадежило: страшная мысль, что Мох прознал про случай у бани, совсем ушла.
– Где ты велел, отец, там и был... из книги писал...
– Весь день?
Трудно было изворачиваться и лгать под этим взглядом. Орешник вообще не умел этого – не было в нем скрытности и увертливости, по словам старших людей, надобной всякому удачливому торговцу. Порою он даже не знал, в радость батюшке его неумение хитрить, или, наоборот, в огорчение. Вот и сейчас – тоже не знал.
– Отвечай, когда спрашивает отец.
– Весь день, – прошептал Орешник и зажмурился, вмиг вспомнив о грязных штанах, которые запихнул в короб в сенях. Отцу в тот короб заглядывать было без надобности – не мужское дело за тряпьем следить, а все-таки...
– Орко, Орко, – сказал Мох тем же спокойным голосом. – Семнадцатый год тебе минул в это лето. Здоровый ты парень уже. Жил бы не в Кремене, а в глуши, в далекой деревне, где обычаи старые крепки – мужчиной был бы уже, добывал бы своими руками каждодневный хлеб. Все я тебе даю, что могу, кормлю, одеваю, учу уму-разуму, насколько даешься. Скажи мне, сын, или я несправедлив к тебе в чем-то? Или обиду какую таишь на меня?
Так ровно говорил он это, безо всякой злости, без упрека даже, что Орешник подумал – ну, все, сейчас добавит: «Снимай-ка штаны да ложись на пол в доски носом» – всегда так было. За всю его жизнь ни разу отец на него не кричал. Только лучше бы уж кричал.
– Нет, – прошептал Орешник, мотая головой, вглядываясь отчаянно в неподвижное отцово лицо. – Никакой обиды нет, батюшка, что ты...
– Знаешь ли, что все, что говорил и велел тебе, мыслил для твоего же добра? Знаешь, что все мое – твоим станет, и все мои мысли – только о том, чтобы жил ты в чести, радости и достатке?
– Знаю, отец, но...
– А раз так, – сказал Мох, – то слушай: я выбрал тебе жену.
Орешник с открытым ртом так и застыл, наполовину выдавив оправдание. Что?.. Послышалось? Или впрямь батька сказал – жену?! Да как же... только вот что распекал за то, что сын без спросу удрал из дому, невесть где прошлялся, когда был посажен за учение, только что корил, будто дитя малое, неразумное, как всегда корил... И называл – Орко, так, как с пеленок звал. Только что Орешник готовился принять наказание – а не для наказания его позвали.
Мох правду сказал: голова у сына его еще ребячья была, даром что ростом и статью он давно всех своих погодков обогнал. Но и этой-то головой Орешнику удалось родить мысль, которая, раз явившись, и превращает дитя в мужчину: там, где в детстве брань и наказание, во взрослой жизни приходит долг.
Странной была эта мысль, непохожей на все, что роилось в Орешниковой голове нынешним днем. И так она придавила его, такой тяжкой она была, что он ничего не сказал, не переспросил отца, о ком тот речь ведет. Мох принял это за сыновью покорность и бросил на Орешника первый за день почти одобрительный взгляд.
– Не спросишь, кого? – спросил с любопытством.
Орешник сглотнул.
– Как скажешь, отец... так сделаю. Злого не посоветуешь, – сказал он.
И тогда Мох откинул побитую сединой курчавую голову и рассмеялся. Редко смеялся Орешников отец, но когда случалось это, краше и радостней звука на свете было не сыскать. Орешник глядел на отца, очарованный, не до конца понимая причину Мховой радости. И сам невольно улыбнулся, смущенно и неуверенно, чувствуя, что, близко подойдя к границе отцовской немилости, благополучно ее обминул.
– Хорошо, – сказал Мох, отсмеявшись. – Ты, Орко, хороший сын, я всегда это знал, даже если, случалось, журил тебя за детские шалости. Все мы мальчишками одинаковы, – добавил он и взъерошил пятерней Орешниковы льняные кудри на макушке. – И за то, что ты такой хороший сын, я тебе выбрал такую жену, что весь Кремен обзавидуется. Медовица, дочка Древли – слыхал про нее?
Сказал, а сам глазами хитро поблескивает, в улыбке показывает крепкие белые зубы. Кто ж не слыхал про Медовицу, первую красавицу Кремен-града. Кто ж не заглядывался на нее, гуляющую по ярмарке, кому ж глаза не слепила алая лента в тяжелых каштановых волосах. Кто ж языка не лишался, когда она взгляд поднимала, у кого ж от улыбки ее медленной, тягучей ноги не врастали в землю. Кто ж не мечтал увидать ее ножки, босые пальчики, загребающие темный от воды песок...
Всякий. Да только не Орко Мхович.
Ладонь Мха соскользнула с темени сына, когда тот отступил на шаг. Орешник смотрел на отца и мотал головой, сам того не чуя, и ног не чуя, и земли под ногами – ничего не чуя, кроме ужаса, липкого, темного, будто мед, забивший ноздри и глотку так, что не вдохнуть.
– Нет... нет... Радо-матерью прошу... батюшка... только не ее!
Мох удивленно смотрел на сына. Без гнева, с недоумением и замешательством.
– Как – нет? Отчего же нет, сынок? Я про Медовицу Древляновну говорю, дочку Древли, головы Купеческого Дома. Ты же видел ее не раз, красивей и богаче ее ни одной невесты в Кремене нет. Или боишься, что девка порченная? Так Древля мне самолично божился, что чиста как слеза.
– Мне все равно, чиста или не чиста! – выкрикнул Орешник, совсем забывшись. – Ведьма она, вот что! Ведьма!
Вот тут Мох нахмурился. По-настоящему нахмурился, всерьез, и даже дрогнула рука, потянувшись к поясу. «Сейчас выпорет», – подумал Орешник. А ну и пусть. Пусть обратно, вниз головой – в босоногое детство, где за ослушание выдерут, в чулане запрут на денек, да и простят. Здесь, на шаткой ступеньке взросления, качаясь на потрескивающей, ненадежной жердинке, он чувствовал страх, панику, и сознавал, что не под силу ему подняться по этой лестнице, когда сверху глядят на него те медово-карие глаза.
– Что ты говоришь такое, сын?
– Ведьма, – твердил Орешник, – она ведьма! То все знают, даром что вслух не говорят. Ты и сам знаешь! Листовник рассказывал, что видел ее на кладбище за стеной, она там бродила и травы какие-то там рвала, прямо с могил и рвала. Ладоня сказывала, видела ее на перекрестке ночью во время полной луны, она на коленях стояла и бормотала что-то, а потом ямку вырыла и в землю что-то зарыла, и опять бормотала... А Пляска клялась, как служила у Древли, сама видела, как она голая с бесами скакала по горнице и вопила во все горло на ненашенском языке! А...
Он мог бы еще говорить, говорить и говорить, пересказывая все то, что слышал от тех да этих – много таких баек ходило по Кремену о Древляновой дочке. Рассказывая, Орешник сам распалялся, чужие россказни в красках заново оживали перед глазами – но захлебнулся собственным голосом, когда щеку огрела короткая хлесткая оплеуха. Мох редко бил его по лицу, всегда только в страшном гневе. Орешник дернулся, схватился за щеку, в оторопи уставился на отца.
– Не для того, – проговорил Мох, – я с малолетства учил своего сына грамоте, чтобы он повторял за глупыми людьми всякое мракобесие. То, что ты сказал сейчас, Орешник, никогда больше не должно слетать с твоего языка. Я не позволю, чтобы прошел слух, будто Мхов единственный сын, единственная надежда и опора – вздорный дурак.
– Но... все ведь... – залепетал Орешник, – все говорят...
– Все – это дворовые девки и безголовые твои дружки, с которыми я тебе по малолетству твоему позволял сношенье иметь. Вижу, зря позволял. Тому теперь край. Ты не мальчишка больше, Орко, тебе пора уже мужчиной стать и иметь свою голову на плечах. Древля – глава Купеческого Дома, вхожий к кнежу Стуже во двор. Породниться с ним – большее, чем я мог желать и для себя, и для тебя. Дела наши сразу в гору пойдут, а это сейчас нам нужно как никогда. Ты читал расходную книгу, как я велел тебе сегодня? Ну? Читал?
– Читал...
– Что увидел? Что понял? Отвечай.
Орешник снова сглотнул. Щека пылала так, будто к ней раскаленную сковороду приложили. И голова пылала тоже, мысли совсем перепутались. Он читал... но не помнил ни словечка из того, что вычитал.
– Так, – не дождавшись ответа, сказал Мох. – Добро, я сам тебе скажу, да попроще, чтобы ты уразумел. За последнее лето доходы с продажи шерсти упали втрое – оттого, что стали ходить теперь торговые суда из Северного Даланая. Тамошний люд коз разводит, хорошую делает пряжу. За неделю ее там выделывают столько, сколько наши загорбычевские поставщики выделают за шесть. А тут кнеж еще подать на перепродажу поднял вдвое, чтоб усмирить купцов-перекупщиков, таких, как я, – много нас развелось нынче, больно прибыльное это дело. И только те, кто состоит в Купеческом Доме, от этой новой подати избавлены. Понимаешь, сын, к чему веду?
Орешник с трудом кивнул. Он понимал. Он знал, что сыновнее послушание, забота о благополучии не только своем, но и отца с матерью, взгляд в день завтрашний – словом, все, что собралось в этом новом и неприятном понятии «долг», понуждает его кивать и соглашаться. Но нутро все равно жгло взглядом, пойманным сквозь зазорину в бревенчатом частоколе бани – взглядом глаза в глаза, будто знала она, что он там... хотя никак не могла знать.
– Ты же сам ее видел, отец. Разве же ты... не почувствовал?
Он не то говорил, что надо, совсем не то, и так муторно и тоскливо от этого было на душе. Орешник ждал еще одной оплеухи, но вместо этого Мох вдруг положил ему на плечо тяжелую руку. Устало положил.
– Послушай меня, сын. Других слушал, так и меня послушай теперь. В Даланайской земле уже сто лет как перевелись колдуны. И ведьмы, и чародеи, и знахари – из всех, как есть, сила ушла. Век назад это началось и почитай полвека как закончилось. Нету больше магии на нашей земле. Если бы даже было, как ты сказал, если бы вправду в Медке Древляновой была хоть крупица нечистой силы – не за тебя бы ее Древля сватал. Кнежьей чаровницей стала бы, как в былые века, а то и самой кнежинной... Так что все, что люди болтают, – вздор. Коли хочешь знать, что думаю я, – девка и впрямь с подвывертом, но твердый нрав и мягкая ласка вместе сделают из нее послушную и хорошую жену. Верь мне, сын, не обижай своего отца сомнением.
Орешник слушал, и боролись в нем привычное безоговорочное подчинение отцовской воле – и то, что видел своими глазами, что чуял собственным нутром... Но Мох глядел твердо, говорил ровно, да ведь и правду говорил – уже много лет как перевелись в Даланае колдуны, об этом каждый малец знал. И те, кто рассказывали про бродящую на кладбище и плясавшую с бесами Медовицу, – тоже знали.
Жердочка лестницы, на которой качался, шатаясь, Орешник, жалобно стонала и потрескивала под тяжестью страха и неуверенности. Но устояла.
Страх или нет, правда или нет – он должен.
– Сделаю как прикажешь, отец.
* * *
Неделя пройти не успела, как заслали сватов.
За три дня до того случилась беда. Не с Орешником, не во Мховом доме – с рыжим лопоухим Груздем, сыном горшечника. Полез он на Осетрову пасеку, что за рекой была, – медком вздумал полакомиться тайком от хозяина. Ох и горазд был Груздь пролезать куда не звали, где не ждали, никем не замеченный, ох и нравилось ему урывать запретное... Урвал. Когда Осетр на крики да вопли из дома выбежал, Груздь успел уже к самому краю пасеки отбежать – да не сам отбежал, пчелы его словно сами отнесли, подняв над землей злым могучим роем. Плясал Груздь по зеленой траве, пятки об землю отбивал, руками махал и вопил так, что народ со всего Нижнего Кремена бежал уже – думали, пожар. Иной хозяин так бы воришку и бросил помирать – поделом, наука будет. Осетр сжалился – кинулся в дом за одеялом, рой отогнал, Груздя под крышу увел. Так и спас, иначе бы насмерть заели. Отцу Груздеву, правда, опосля счет выставил за разлетевшихся пчел. А сам Груздь лежал нынче дома в подполе, где попрохладней, и стонал так, что слышно было на улице из-за плетня. Орешник проведал его. Лицо Груздя все заплыло, раздулось: рот, ноздри, глаза – что щелочки. И из щелочек этих там, где угадывались веки, горючие слезы текли, капая Орешнику на руки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































