Текст книги "Лютый остров"
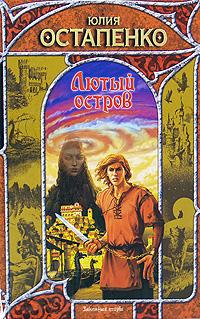
Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
– Я ж так... тихонечко... только с самого краешку собрать хотел, – всхлипывал бедолага. – А крышка возьми и свались. И чего ей вздумалось взять и свалиться... а я ослепну теперь, Орко, совсем ослепну!
И пока он так плакал, Орешник сидел с ним рядом, пряча взгляд, а в голове крутилось Груздево восхищенное: «Глянь, глянь, какая! Ух ты, повезло, саму Медовицу Древляновну увидали в исподнем... Глянь...»
Конечно, никто того знать не мог, и спросить не у кого, но не было ли в той толпе, что кинулась к пасеке Остера на Груздев вой, дочери головы Купеческого Дома? И не видал ли ее кто в ночь перед несчастьем, на коленях возле улья, роющей ямку под гудящим ящичком, беззвучно губами шевелящую, заклинающую: «Жаль, жаль, жаль»?
Думать о том недосуг было: все дни проходили в обсуждении сватовства. И вот настал срок. Мать вырядила Орешника в лучшую сорочку и штаны, подпоясала шелковым кушаком с серебряной тесьмою – фарийской выделки тряпица. Волосы его непослушные расчесала костяным гребешком – прядочка к прядке, сапоги красной свиной кожи до самого порога обмахивала, чтоб сверкали. Мох на все это глядел, прищурясь, жениной суете преград не чинил – единственный сын как-никак. Только раз Орешника спросил: «Шею-то вымыл?» Орешник кивнул, краснея, и Мох улыбнулся, окинув сына напоследок оценивающим взглядом.
– Как же ты хорош, сыночек мой. Дура будет девка, если в тебя не влюбится, – умиленно сказала мать уже на пороге, и у Орешника на душе стало еще гаже. Он и сам себя чувствовал ровно девка на смотринах, ровно это его вели оглядывать, сватать да продавать. А хотя так ведь оно и было...
Ворота в дом Древли были широко распахнуты, колосьями перевиты, крыльцо белым полотенцем выстлано – ждали сватов. Вошли: Орешник, Мох и Мховы кумовья, Ёрш и Молчан. Все четверо встали на пороге, поклон от Древли и жены его, Цветаны, приняли, поклоном ответили.
– Ваш товар, наш купец, – сказал Мох, и Древля, ухмыльнувшись в густые усы, ответил:
– Милости просим, сваты девке не позор.
Так и пошло – все как всегда идет, все как у людей.
За накрытым столом в богатой Древляновой избе Орешник сидел, будто на последней трапезе своей перед лютою казнью. Как во сне сидел: отец его говорил с Древлей о чем-то о своем, о делах торговых, пока прислужники обносили дорогих гостей парным молоком и холодной брагой. Ёрш с Молчаном ухмылялись, тыкали Орешника локтями под ребра, глазами делали знаки – и Орешник им улыбался через силу, хотя ему бы дай волю – перескочил бы через этот богатый стол да выпрыгнул в окошко. Время будто жилы из него тянуло, жгло каждым проходящим мгновением, словно на скамью раскаленных углей насыпали.
Но вот наконец распахнулась дверь горницы и вышла из нее Цветана, ведя под руку дочь свою единственную, Медовицу. И как вошли они – разом все смолкли. Даже говорливый Древля умолк, глаза тараща, будто никогда прежде не видал родной дочери.
А хоть бы и видал – Орешник поклясться мог: никогда еще не была Медовица так хороша. По обычаю сватовства обрядили ее в зеленое: изумрудной зелени платье облегало молодое тело, перехваченное под полной грудью белоснежным кушаком, единственным признаком того, что девка еще не просватана. Широкой лентой, платью в тон, перехвачены были надо лбом медные локоны, и солнце так в них гуляло и путалось, что больно было от этого блеска глазам. Глаза, как и положено девке на смотринах, Медовица держала опущенными долу, но как мать взяла ее за руку и повела к дорогим гостям, поднялись рыжеватые ресницы, будто бы невзначай, и ожгло из-под них Орешника таким огнем, что в горле пересохло разом. Он глядел на нее теперь, впервые не прячась, не таясь, – по закону, по праву своему глядел, и вдруг подумал, как будто в первый раз: «Это будет моя жена». И таким невыносимым восторгом его переполнило и захлестнуло от этой мысли, что он покачнулся и вцепился в скатерть руками, чтоб усидеть на месте ровно. Того, по счастью, никто не заметил – никто, кроме проклятой девки, которая села уже напротив Орешника и смотрела теперь, улыбаясь, темными своими глазами ему прямо в душу, и ни одна его мысль не могла от нее укрыться.
Сваты наконец очнулись, и Мховы кумовья принялись громогласно возносить хвалу красоте Древляновой дочки – так им велел обычай, и они ему следовали, ни капельки душою не покривив. Цветана сидела с дочерью рядом довольная – знала, что заслуженна похвала. А сама Медовица слушала восхваления сватов равнодушно, то и дело поглядывая на Орешника. Когда мать велела – а вернее, когда позволила, – встала и, обойдя кругом стола, спросила:
– Не желаешь ли чистой водицы, Орешник Мхович?
И голос ее лился медом, и вся она была как мед – сладкая, мягкая, да так и липла к рукам. Орешник ответа выдавить не мог, все смотрел на нее – никогда она еще так близко к нему не была. Кивнул только. Она налила ему в кубок воды и, наклонясь над столом, задела щеку Орешника рукавом.
Как она от стола отошла и снова на место села – Орешник не помнил.
Час, проведенный за столом, пролетел, будто подхваченное ураганом перышко. Орешник за все время и пяти слов не сказал, благо Ёрш с Молчаном и Древля говорили за шестерых. Мох тоже помалкивал, глядя то на скромно потупившуюся молодицу – одобрительно, то на своего сына – и тогда на лоб его наползало слабое облачко, тут же улетавшее прочь. Но вот вышел час, кончились смотрины. Теперь, вспомнил вдруг Орешник, жениху с невестой положено уединиться на четверть часа – поговорить по душам. Считали, что девка, если не люб ей жених, в эту четверть часа могла ему о том сказать как на духу, в ноги упасть, запросить пощады – а не запросила бы, так должна была довеку молчать, как бы ни рвалось сердечко на волю. А можно ли жениху пасть в ноги девице да просить, чтоб хоть душу взяла – только бы отказала, о том молва ничего не говорила. Да и не вспомнил о том Орешник, когда его и Медовицыны родичи, между собой переговариваясь, по одиночке бочком вышли из горницы – так, что он опомнился, лишь когда выходящий последним Древля тихо прикрыл за собою дверь.
Орешник остался сидеть на скамье за опустевшим столом, напротив своей невесты. И в тот же миг горница показалась ему громадной, гудящей пустотою палатой, а затем потолок вдруг рухнул на него сверху и придавил, так что ни вздохнуть, ни слова сказать.
Медовица подняла на него глаза. И поглядела – точно как тогда во дворе бани, когда стояла перед ним босоногая, в одной сорочке. Спокойно так. Лениво.
«Глядишь? Знаю, что глядишь».
– Хочешь, – сказала Медовица, – погадаю тебе?
Это в первый раз она его о чем-то спросила – не по обычаю, не по случайности, а по собственной воле. До сего дня Орешник никогда с нею не говорил. Он и видел ее вблизи только раз – на прошлогодней ярмарке, когда полез на столб за новенькими сапогами. Столб был густо вымазан жирным медвежьим салом, скользил, не давал уцепиться, стряхивал с себя смельчаков, ровно живой. А Орешник заупрямился – и влез, и уже почти на самом верху услышал снизу сквозь смех и возгласы высокий девичий голос... Он не расслышал тогда, что она сказала, но только так его проткнуло этим голосом, будто на кол насадило. Он руку вперед выбросил, вцепился в свисающие с вершины столба сапоги, да так с ними вниз и слетел, обтирая рубахой медвежье сало. А как поднял кружащуюся голову – увидел Медовицу в толпе, среди смеющихся, хлопающих в ладоши людей. Она улыбалась тогда, на него глядя. Вот как сейчас.
– Не хочу, – сказал Орешник, и тогда только понял, что говорит с нею – тоже впервые. И первые слова, которые его суженая от него услышала, были – «не хочу».
Ох, не к добру.
– Отчего нет? Я хорошо умею ворожить.
Он хотел ей снова сказать, что не надо, не хочет он ее ворожбы, но она уже встала и обошла край стола – левый, и Орешник дернул рукой под скатертью, сотворяя знак-оберег. К тому времени совсем стемнело на улице, в горнице горело несколько свечей, оплавлявшихся на медных подсвечниках. Медовица взяла самый маленький огарок, поставила его на стол перед Орешником, а сама села рядом – так близко, что почти касалась его ноги своей ножкой. Потом взяла Орешников кубок с родниковой водой, той, что сама ему наливала, и которой он едва отпил, хотя в рот ему будто песка набили. Наклонила свечу, не затушив, над кубком, закапала воском. Орешник завороженно следил, как вьется в прозрачной воде желтоватая змейка, завязываясь узелком, распутываясь, сплетаясь снова в клубок. И глядеть на эту пляску было так, как в Медовицыны глаза – лучше бы и вовсе не глядеть, а в то же время – глаз не оторвешь.
Он услышал ее дыхание – тяжелое, низкое, словно она дыму глотнула. И голос, когда заговорила, тоже был низким, чужим, и не девичьим, и не бабьим... и не людским даже будто.
– Вижу... Вижу будущность твою, того, кто воду эту испил. Вижу беду, тебе грозящую. Далеко еще беда, спит еще, глубоко в земле, сама о себе не знает. Но придет час – проснется, вижу, пасть она разевает, поглотить тебя хочет, съесть, языком шершавым черные губы свои облизать... так ей от крови твоей будет сладко, что еще захочет.
– Замолчи! – Орешник хотел крикнуть, но вышло лишь просипеть, хотел вскочить, перевернув стол вместе с кубком, но не смог двинуться с места. Воск вился и колыхался в темной, блестящей воде, пламя отсверкивало в изумрудной ленте, в белом шелке да медных волосах, лизало пальцы, державшие огарок – спокойно державшие, будто не чуяли они огня.
– И вижу еще, кто беду от тебя сможет отвесть. Кто пасть разверстую сомкнет и свяжет, зверя прочь прогонит, обратно в его нору, в черную зыбь... вижу...
– Кого? – невольно подаваясь ближе, спросил Орешник. – Кого видишь?!
– Дочку твою. Мной порожденную, – сказала Медовица и бросила огарок в воду.
Свеча, зашипев, погасла, огарок булькнул и ушел на дно. Вблизи сразу стало темней – другие свечи стояли по краям стола, далеко. В полумраке повернулось к Орешнику Медовицыно лицо. Полные вишневые губы приоткрылись, маленький язычок облизал их, дразнясь. А потом две белые руки в изумрудных рукавах взлетели, словно дивные птицы, да легли ему на шею, потянули ближе, ближе, пока не почувствовал он, как упирается в грудь ему теплое, мягкое девичье тело...
– Возьмешь меня в жены – спасешься. Живой будешь, – прошептала Медовица и поцеловала его, зарывшись длинными, цепкими пальчиками в его волосы, стягивая и ероша столь любовно расчесанные матушкой пряди.
Голова у Орешника пошла кругом. Не было уже ни скамьи, ни стола с болтающимся в кубке свечным огарком, избы не было, Мха и Древли за соседней дверью, города Кремена – ничего не было. Только руки ее у него на шее, и рот ее, вжимавшийся в него голодно и жадно, и тело ее, льнувшее к нему, пахнущее клевером. Совсем потеряв разум, Орешник схватил Медовицу в объятия, стиснул тонкий ее стан так, что другая охнула бы, зашарил ладонями по спине, по поясу. Она застонала, обняла его крепче – а ведь должна была оттолкнуть, по лицу ударить, руки наглые сбросить... Орешник вспомнил, как стояла она, полуголая, на песке перед ним, поджимая босые пальчики, – и отпрянул сам, будто из тенет дурмана вырвался. «Околдовала меня?.. – испуганной мошкой, угодившей в паутину, билась в голове мысль. – Опоила приворотным зельем, замутила разум наговорами...»
– Ты на Груздя Осетровых пчел натравила, – хрипло сказал Орешник. Он теперь это твердо знал, Радо-матерью поклялся бы, когда в спросили.
Медовица чуть отодвинулась от него, не снимая рук с его шеи. Склонила головку на бок, будто любопытная птичка, так, что волосы медовые тяжкой волной заструились по плечу. Улыбнулась лениво.
– Где мед, там и пчелки, то здоровым парням пора бы знать. А по бесстыжим глазам – хворостиной бы, – сказала – без гнева, без злорадства, так, будто ничего проще и понятней этого в свете было не сыскать.
– Отчего тогда не по моим? Ты же знаешь: я тоже там был. Ты меня видела, – горячась, сказал Орешник, желая и не в силах отбросить ее руки – только что такие жаркие, а теперь совсем ледяные, будто стылая вода в зимней проруби. И руки эти сомкнулись крепче, когда Медовица серебристо засмеялась, притянув его к себе ближе.
– А что ты смотрел, то ничего, – прошептала, ткнувшись лбом ему в плечо. – Я не против, чтоб ты смотрел... смотри.
Он не ответил – не знал, что сказать. Так и сидели они, обнявшись, посреди горницы, а свечной огарок болтался в недопитом кубке, возя по воде обугленный фитилек.
И было во всем этом что-то такое, чего Орешник никак не понимал. Ну совсем никак.
– Зачем я тебе? Зачем... ты... вон какая... почто я тебе сдался?
Он думал, Медовица опять засмеется, но она не стала. Убрала голову с его плеча, расцепила руки и поднялась, подобравшись вся, и стала как будто сразу далекой, едва видимой, совсем чужой.
– Я правду сказала, без меня и дочери моей тебе – лютая смерть, и никак не убежать. Ну, возьмешь меня?
Четверть часа, отведенная им, добегала до своего конца.
Когда в горницу вернулись невестины родичи и сваты, Орешник с Медовицей сидели так, как их оставили – по разные стороны стола. Стали Древляновы провожать гостей, благодарить за то, что почтили собою дом, а гости – за хлеб и соль. На самом пороге уже Цветана, по обычаю, поднесла Орешнику полный кубок меда – душистого, сладкого. Все примолкли, когда он кубок взял, и глядели, что сделает. Выпил бы не отрываясь – свадьбе быть. Вернул бы, едва пригубив, – оставаться Древляновой дочке в девках, Мху – на задворках торговых рядов, Орешнику – в одинокой горнице долгими ночами без сна, без губ этих жарких и рук ледяных, без жалящего рот верткого языка, без липкого пота и шепота возле губ: «Никак не убежать...»
Орешник выпил до дна.
2
Десять лет пролетели, будто сон.
Добрые года это были для славного Кремен-града. Кнежил в городе все еще Стужа – умный, сильный, удачливый воевода, открывший кременский речной порт для иноземных судов, что прежние кнежи остерегались делать. Запрудили улицы яркие бурнусы фарийцев, расписные кафтаны галладов, шитые шелком плащи бертанцев. Улицы и площади Кремена наполнились разноязыким говором, будто птичий хор песню выводил. Пройдя в базарный день по рынку за Золотым Бродом, едва десятую часть сказанного понять можно было – столько понаехало иноземцев. Да не с пустыми карманами понаехало, а с тучными возами, тяжелыми от грузов кораблями, с туго набитыми кошельками, чтобы опустошить их на Даланайской земле. Рынок стал теперь любимым зрелищем кременской ребятни – то и дело бегали поглазеть на драгоценные вазы со стенками не толще березового листика, выставленные в ряд на прилавке альбигейского купца, на диковинные андразийские фрукты, с виду как будто яблоки, но размером с добрую тыкву, на низкорослых галладских лошадок, смешных и лохматых, но тянувших такие возы, что под ними и вол бы рухнул замертво... Что и говорить, весело было ребятне да простому люду, увидавшему разом все чудеса, какие только найдутся за пределами Даланая. А вот кременским купцам – так не весело вовсе. Как тут продашь даланайскую пряжу, выделанную грубыми кмелтскими руками, когда за соседним прилавком стоит фариец, не иначе как нечистой магией выткавший из той же козьей шерсти покрывальце такое тонкое, что целиком оно вмещается в ореховую скорлупу? А хотя мудрые люди говорили – магия тут ни при чем. Не было в Фарии магов, богиня их, которую они звали Аваррат, чародейство судила строго – к разуму человеческому взывала, не к темной силе, но к светлой. Фарийцы завет чтили: мудрецы тамошние писали умные книги, на небо глядели, высчитывая, как звезды по нему ходят, да как свет их на землю отбивается, и что из этого простым людям может выйти. Случалось, глядели и в землю – знали, где пастбище для овец устроить, а где фруктовые сады разбить, а где виноградники, и где от чего выйдет больше проку – так что выгоду получали втрое. А уж про лекарей фарийских и вовсе слава шла по всему миру – не было, казалось, хворей, которых они лечить не умели. Кнежа Стужу пришлый фариец излечил от «рыбьего глаза», а ведь уж примирился Стужа, что довеку будет ходить с бельмом. Кнеж так обрадовался, что оставил фарийца при себе, а за ним стал выписывать из далеких земель и иных мудрецов, что носили плащи с капюшонами из белой шерсти, и головы, все как одна чернявые, оборачивали длинными полосками ткани. А про своих, простоволосых да кушаками подпоясанных, – казалось, вовсе Стужа забыл. И вот так выходило, что казна кнежья в Кремене полнилась, а купец кременский между делом беднел. Тем, кто в Купеческий Дом не входил, совсем тяжко со временем стало.
Орешнику Мховичу те заботы и не снились. Как умер тесть его, Древля, главой Купеческого Дома стал сам Мох. Так что был у Мховых на Золотобродском рынке и свой торговый ряд, и свои склады, собственный корабль, ходивший вдоль всего Даланайского берега, и даже место свое для этого корабля в кременском порту. Потом помер и Мох, оставив единственному сыну все нажитое за последние годы богатство и, что важнее того, – почет и уважение к роду Мховичей и Древлей в Купеческом Доме. Не жил Орешник – катался, будто сыр в масле. К тому времени, как не стало его отца, была уже у них с Медовицей своя изба, большая, просторная, полная прислужников да работников. Орешник не ходил уже сам на рынок, как отец его в былые времена, не нахваливал добро прогуливающимся покупателям, не ездил за тридевять земель выкупать товар – для всего этого были у него свои люди. Сам он только и знал, что раздавать указы и зорко следить, чтоб не крали, не ротозейничали и да чтоб не приключилось еще какой беды – этому его отец, по счастью, успел хорошо научить. Вхож был Орешник и в кнежий двор, и там, на больших пирах, которые закатывал время от времени Стужа для богатейших людей Кремена, всегда улучал случай перемолвиться то с одним знающим человеком, то с другим, и раньше прочих прознавал то про новую подать, то про новый торговый путь и всегда успевал извлечь из этого выгоду.
Так говорили люди, и никого не удивляло, что процветает Орешников дом и дело его. Когда в кто его спросил – он бы, может, и рассказал, как все на самом деле... а может быть, и не рассказал.
Как стала Медовица Древляновна Орешнику женой, так на вторую же ночь подняла его затемно и велела: «Иди за мной». Он встал, хотя сердце в горле стучало, пошел за нею босой. Она его отвела в погреб, туда, где ни лучика лунного было не видать, где темнота хватала за пятки, за горло, за сердце. Велела Орешнику раздеться донага и стоять ровно, поставила кругом него шесть горящих свечей, взяла горшочек с резко пахнущей маслянистой водою, стала ходить вокруг мужа и брызгать на него, приговаривая:
– Золото, золото, сыпься ко мне, как горох в закроме, как зерна ячменя на гумне, как рожь на току. Золото, золото, липни к рукам моим, что мушки к меду, что травка к солнцу, что бесстыжие очи к девичьей плоти. Будь в моем амбаре клад да лад, без угара да без прогара, для рынка и для базара, да во всем спорынья, без разоренья...
Орешник слушал, стоял молча и дрожал, тем сильней дрожал, чем быстрей и тише она бормотала. Кончив, Медовица ступила сама в круг трепещущих огоньков, окунула ладонь в резко пахнущую водицу и провела мокрой рукой Орешнику по лицу, по губам, по глазам, по взмокшему от испарины лбу.
– Слово мое крепко, – прошептала и поцеловала в губы. И мнилось Орешнику – со следующего же дня дела у Мха в гору пошли. На рынке покупателей к ним тянуло так, будто медом там было намазано, воз с товарами с севера раньше срока поспел, а после распорядитель из кнежего дома пожелал оглядеть Мхов товар и закупил сразу пятьдесят мер беленого полотна для кнежих простыней. Мох радовался, говорил – вот что значит войти в Купеческий Дом, но Орешник знал, что не в Купеческом Доме дело. Дело было в Древляновой дочке, знавшей, как звать – что удачу, что золото, а что больно жалящих пчел...
Так и повелось. Где нужно было удачу – накликивала Медовица удачу, где надо было защититься от невезенья – сотворяла оберег. Раз случился в море большой шторм, уничтоживший фарийские и андразийские суда, что везли к Даланаю богатый груз. Кмелтские корабли там были тоже, среди них – и кременские. Как весть дошла – вой поднялся по всему городу, люди выбегали из своих изб, падали наземь и плакали, а двое купцов, поняв, что разорились и по миру теперь пойдут, жизни себя лишили. И только один корабль вошел через неделю в кременский порт – обтрепанный, но целый, сберегший весь груз. Был это корабль торговца Орешника.
Орешник тогда получил за зерно и муку, которые везло его судно, вдесятеро против того, что рассчитывал. И с той поры стали люди на него коситься. Удача удачей, а всему на свете есть край – ну не может оно так вот всегда везти! Было бы дело лет сто назад – заподозрили бы в колдовстве. А ныне за само это слово на смех могли поднять. Фарийские мудрецы давно растолковали кнежу Стуже, что нет больше в Даланае никакого колдовства, да и то, что раньше было, на девять из десяти состояло из плутовства. И хотя стоял в горнице у Стужи глиняный человечище, который сто лет назад, сказывали, ходил как живой и трехсотпудовые камни одной рукой поднимал – так теперь был он мертвою глыбой, куклой, от которой проку было не больше, чем от деревянной вешалки.
Не было больше магии в Даланайской земле – вся ушла.
С годами Медовица расцвела и стала еще краше. Руки свои белые она берегла, не хотела тяжкой работой марать, потому полон дом был дворовых прислужников, обшивавших, обмывавших и кормивших Орешниковых домочадцев. А было их теперь уже шестеро, потому что, кроме Медовицыной матери Цветаны (Орешникова мать почти сразу после отца померла), появился один, потом другой, а потом и третий сын. На десятое лето с того дня, как обвенчали Орешника с Медовицей, качала она на руках четвертого, да только недолго он прожил, помер от родимчика. Медовица много и безутешно плакала, пока мать ее гладила по медноволосой, без следа проседи голове, а Орешник стоял в дверях, привалившись плечом к пройме, и глядел, и не знал, что сказать. Горе его придавило, но еще больше – страх. За все эти десять лет не проходило и дня, чтобы не вспоминал он слов, которые прошептала ему будущая жена в темной горнице, руки на его шее сцепив так, будто удушить хотела: «Смерть тебе грозит, а спасет тебя от нее наша с тобою дочь». И вот годы шли, а не было дочери – лишь сыновей приносила ему Медовица. Рослых, крепких, красивых сыновей. Он и сейчас слыхал, как они бегали по двору, смеясь, а няньки на них шикали – беда в доме, не до смеху! Но детворе-то что – они погибшего брата своего знали едва лишь три дня.
Наплакавшись, Медовица от матери отстранилась, посмотрела на Орешника, потом опять на Цветану. Та все поняла, встала и вышла молча, оставив дочь с мужем наедине. Орешник нерешительно подошел, сел рядом с женой. Медовица глядела не на него, а в угол, туда, где еще вчера люлька детская стояла.
– Я вот думаю, – сказала вдруг глухо, – что не то попросила. Сказала, что богатства хочу, достатка, почета, хочу, чтоб удача и золото сами мне в руки шли. А чтоб уметь любую хворь лечить, от болезни спасти – этого не попросила. Молодая была... дура.
И опять заплакала. Орешник неловко обнял ее, она припала к его плечу лицом, стискивая сорочку у него на груди. Жалко ему было ее в такие мгновения. И когда она плакала так, его обнимая, он почти совсем ее не боялся.
Слава Радо-матери, оставались у них еще трое сыночков – ими сердце материнское быстро утешилось. Не могла Медовица нарадоваться на своих мальчуганов. Больше всего любила Желана, старшенького, но и двое младших, Злат да Иголка, были ей милей света белого, милее себя самой. Все, как на подбор, – рослые, здоровенькие, все в матери души не чают – и немудрено, ведь так она была с ними добра и ласкова, что Орешник только диву давался – не иначе квочка над новорожденными цыплятами. Пока дети совсем малы еще были, он это считал за должное. Но подрастали мальчишки, а с ними и хлопоты подрастали. И вот настал однажды день, когда крепко осерчал Орешник на Желана: балуясь во дворе, стащил малец у зазевавшейся кухарки огниво и чуть весь дом не спалил, хотя много раз ему говорили и отец, и мать, что с огнем баловать негоже. Желану как раз десятый год пошел, а капризов в нем было ровно в пятилетнем – по целым дням мог ходить, уцепившись за материн подол, и клянчить то леденец, то сладкого яблочка, и ни за какую науку его засадить не получалось – тут же убегал. Дурно это было, да и на Злате дурно сказывалось – он от старшего брата ни в чем не отставал, во всем потакал ему, во всем подражал. И понял вдруг Орешник, что растут у него старшие сыновья – обалдуи и лодыри, а из меньшого еще неизвестно что выйдет – покамест он в люльке сидит да с деревянными лошадками забавляется, а пройдет еще год-другой, и сам у старших братьев научится бездельничать да к мамке ластиться, зная, что не накажет. Видел бы это Мох, сызмальства державший единственного сына в строгости, даром что никого родней у него не было...
Словом, понял Орешник – самое время пришло поговорить с сыном всерьез. Потянул с пояса ремень, велел Желану штаны снимать да на скамью ложиться. Тот глазенки выпучил, заморгал часто-часто – а как понял, что отец не шутит, в такой пустился рев, что Орешник вздрогнул и руку с ремнем опустил, растерявшись. Попытался успокоить, говорил строго, стыдил, что здоровый уже пацан ведет себя, будто дитя малое, как мог увещевал. Сказал даже, что прощает, не станет пороть – а ничего не помогало. Рухнул Желан на пол ничком и орал, колотил ручонками по полу, пока полдома не сбежалось на шум. Служанки, ахая, кинулись к мальчику, подхватили под руки, подняли, стали отряхивать да уговаривать – а парнишка знай себе орет. Орешник стоял в углу, красный от стыда, что с собственным пащенком управиться не смог, и не знал, что делать.
И тут вдруг распахнулась дверь и влетела в горницу Медовица. Широкие рукава ее платья были подвернуты до локтей и подвязаны узлом, чтоб не мешались, – Орешник увидал это и вздрогнул, потому что знал, что она так их подвязывает, когда зелья свои в погребе варит. Медовица не взглянула на него даже, кинулась сразу к сыну, а тот из рук служанок вырвался и с ревом кинулся матери в объятия, запричитал, ткнувшись лицом в разметавшиеся юбки. Медовица слушала, тесно прижимая мальчика к себе, кивала. Потом подняла голову и посмотрела на Орешника. А тот все еще с ремнем вынутым в руке стоял – так растерялся, что забыл заправить.
Она ничего ему не сказала. И смотрела даже недолго, и не так чтобы очень пристально, и ничего этим взглядом не обещала – да только у Орешника ноги в пол вросли. Годы, прожитые в мире, согласии и достатке, истаяли, словно пыль, сметенная со скамьи. И под пылью этой увидел вдруг Орешник лицо своего давнишнего приятеля, Груздя, – распухшее, посиневшее, еле шевелившее раздутыми губами. Уж много лет Орешник Груздя не видел и не слышал ничего о нем. После того, как покусали его пчелы, он окосел на левый глаз, и из подмастерьев его прогнали. Что с ним дальше сталось, Орешник не знал – стал он уже женатым к тому времени, не до детских забав ему было более...
И вдруг так ему стыдно за себя стало, что сквозь землю провалился бы, только в не стоять сейчас в этом доме под взглядом этой женщины, которой никогда он не любил и в которой всегда чуял врага.
Все это за одно мгновенье в нем пробурлилось и успокоилось, улеглось, будто и не бывало. Медовица встала с колен, передала Желана служанкам, наказала отвести на кухню и дать сладкого пирога, погладила напоследок мальца по голове и обещала скоро вернуться. Когда все вышли, Медовица подошла к Орешнику. Не так чтоб совсем близко, остановилась в двух шагах, окинула снова взглядом, тем самым – липким, в самую душу глядящим. Орешник невольно дернул рукой, еще державший ремень.
– Я не бил его, – сказал, оправдываясь. – Он и штанов-то снять не успел, я только...
– Если тронешь моих сыновей хоть пальцем, – не дослушав, сказала ему Медовица, – я сама тебя со свету сживу. Такой наговор наведу, что все до единой косточки у тебя заживо переломаются, от боли будешь неделю мучиться и не помирать. Сама убью, и ей ничего не достанется.
Никогда за все десять лет он не слышал и не видел в ней такой черной, звериной ярости. Казалось, скажи он еще хоть слово – и Медовица кинется на него, вцепится в глотку, голыми руками порвет. Оторопев, Орешник глядел на жену. Она же повернулась и ушла, хлопнув дверью, так, что гулом по горнице отозвалось.
И только тогда он понял, что она сказала – мимо воли сказала, в запале гнева, который редко на нее находил. «Сама убью, и ей ничего не достанется».
Кому – ей?..
Но то всего раз было. А так – жили мирно. Можно даже сказать, что и счастливо.
* * *
Прошел еще год. Орешник больше не пытался учить сыновей уму-разуму так, как его собственный батька учил. Смутно он понимал, что есть, наверное, еще какой-то способ, кроме строгости и ремня, а какой – он не знал, и оттого все дальше и дальше становились ему собственные его дети. Не нравилось Орешнику то, какими они росли самовольными, как деньгами отцовскими сорили, нимало не проявляя желания помогать, как задирали соседскую ребятню, как покрикивали, случалось, на дворовых, даром что сами еще были от горшка два вершка. Но что поделать – чуть Орешник им слово наперекор, они к матери бежали за защитой, зная, что против нее отец ничего не скажет: Медовица глядела на него своим взглядом долгим, пристальным – и он все слова разом сглатывал, морщась, будто были они горькими. И тогда-то понял Орешник, что превратился он в подневольного человека, в холопа собственной своей жены. А если говорить, как есть – в подкаблучника. Потому что всякий раз, как подмывало его, хрястнув кулаком по столу, встать и сказать: «Я хозяин!» – вспоминал он то раздутое окосевшее лицо Груздя, то взгляд – прямо в глаза сквозь прикрытую кустами зазорину, то свечной огарок с черным фитильком, болтавшийся в холодной воде, и низкий, нелюдской шепот, предсказавший ему темную и страшную будущность...
И молчал.
Время шло, дети росли, торговля спорилась. Все было будто бы хорошо. Но вот стал Орешник замечать, что Медовица день ото дня все сильнее тревожится. То, вздрогнув, голову поднимет от рукоделия и посмотрит за окно – будто видит там кого-то, кому в душу заглянуть силится. А то и вовсе все бросит, выбежит за ворота и долго стоит, вглядываясь в пыльную даль, в каждое лицо из тех, кто мимо будет идти. Однажды ушла за город – Орешник знал, что за травами своими, – и к ночи не вернулась. Он до утра метался по горнице; как рассвело – кинулся уже сам к воротам, думал искать – и увидел ее, бредущую со стороны рощи, в изодранном платье, с распущенными по плечам волосами. Медовица шла, шатаясь, глаза ее были неподвижны, а лицо белое, точно у утопленницы. Орешник подбежал к ней, подхватил, хотел придержать – а она в его руках так и осела, глаза закатив. Он подхватил ее на руки, отнес в дом, уложил на постель, боясь звать прислугу – чуял, не хотела бы Медовица, чтобы кто-нибудь видел ее такой. Раздел ее, обтер ей лоб влажной тряпицей – и тогда вдруг заметил, что в медовых ее волосах, на виске, появилась серебристая ниточка седины.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































