Текст книги "Лютый остров"
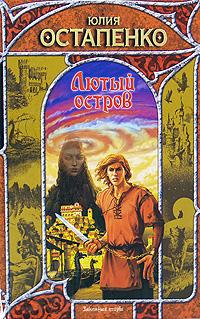
Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Едва он успел подумать об этом, она глаза открыла. Моргнула удивленно, будто не зная, где очутилась и кто перед ней. Орешник взял женину руку, вялую, безвольную, сжал в теплых ладонях, пытаясь согреть, и в который раз уже за годы их жизни вместе не зная, что ей сказать, и еще меньше зная, что у нее на уме. Она тоже говорить ничего не стала, только застонала тихо и отвернулась. «Где ты была, жена моя? – подумал Орешник с тоской. – Что делала? Плясала с бесами на поляне под лунным светом, а может, и с самим Черноголовым? Что будет с тобой? А со мной – что?..» И, сам не зная зачем, погладил ее по голове, там, где поблескивала серебряная прядка.
Она проспала весь день и всю ночь, а наутро встала почти совсем бодрая, только чуть бледнее обычного. Посеребрившийся висок прикрыла синей лентой и через час уж смеялась над чем-то вместе с Желаном во дворе, пока Орешник у себя наверху сверял счета в расходной книге. Будто и не было ничего, а все же Орешник знал – что-то было. Что-то происходит, или случится вот уже совсем скоро. Он гнал от себя эти мысли, и все ж заливистый смех Желана, доносящийся снизу, и низкий голос Медовицы раз за разом возвращали его к ним.
Счастье, пусть странное, с тяжелым стальным привкусом, но все ж таки счастье, которое было им отпущено – вечное ли?
И кое-что впрямь случилось на другой же день, да только вовсе не то, чего Орешник, сам не зная, ждал и страшился.
Утром Медовица ушла на рынок – поглядеть, как дела обстоят на Орешниковом ряду. Ушла одна – а вернулась, ведя за руку девочку лет семи. Грязную, оборванную, и такую маленькую, что без труда бы могла спрятаться в Медовицыном коробе для рукоделия. Девочка озиралась затравленно, испуганно, видно было, что страшно ей вот так идти незнамо куда вместе с чужою женщиной и что хочет малышка плакать – а не плакала почему-то. Медовица завела ее на двор и отдала слугам, велела выкупать, вычистить да одеть по-людски. Орешник видел все это через окно и вышел узнать, в чем дело. Девочка увидела его и вздрогнула, будто ей по спине хворостиной прошлись, губки ее изогнулись – ну точно, сейчас кинется в рев. А руки дворовых уже тянули ее прочь, на задний двор, уводя от ворот.
– Это что же за пташку ты привела? – спросил Орешник, и Медовица спокойно ответила:
– Ученицу себе нашла.
– Где?
– На рынке. Она в твоем ряду под лотками пряталась. Костко, негодник, ее там подкармливал – я давно тебе говорила его прогнать. А вот сегодня обнаглела и попыталась стянуть с прилавка меру сукна. Хорошо, что я рядом была, поймала ее.
– Так она воровка? Чему же ты учить ее станешь? Разве след...
– Я сама решу, что след мне и что не след, – сказала его жена и пошла на задний двор – поглядеть, как выполняют ее приказ.
Девочку вымыли, как Медовица велела, расчесали, накормили, дали в руки тряпичного скомороха Морковку, которым еще недавно меньшой сын, Иголка, забавлялся. Орешник зашел посмотреть ближе к вечеру – любопытство его разобрало, никогда он не замечал в своей жене сострадания и жалости к беднякам, а тут такое... Девочка сидела на скамье, сжимая куклу обеими ручонками с силой, будто в клочья ее порвать хотела, и вид у нее был такой, словно лютой погибели ждет в любой миг. Медовица сидела с нею рядом, обнимая ее за плечо, время от времени гладила по голове, поправляла черные прядки, выбивающиеся из-под лент. Девочка была чернявая, как фарийка, с черными-пречерными глазенками, блестевшими, словно бусинки. Орешник подумал, что похожа она на сороку, верней, сороченка – крохотного и взъерошенного, выпавшего из гнезда. А потом услыхал, как Медовица ее по имени называет – Иволга. Ну, почти угадал...
– Тебе у нас хорошо будет, девонька, – говорила Медовица голосом мягким, ласковым, ровнехонько тем самым, каким давным-давно обращалась к Орешнику на смотринах. – В тепле будешь, в достатке, всегда сыта, в платьях красивых станешь ходить – какие хочешь тебе сошью. Не дала мне Радо-матерь доченьки, только сыновей-оболтусов, так я тебя буду любить, как родная мать.
– Не надо, – прошептала девочка в ответ, стискивая болтавшегося в юбках ее Морковку так, что бедолага колпаком своим красным в пол ткнулся. – Пустите меня, госпожа... светлая госпожа... пустите, я пойду...
– Куда ж ты пойдешь? Сама сказала: ни дома, ни родителей у тебя нет. Побираешься да на базарах воруешь. Сегодня я тебя поймала, да повезло тебе, я добрая. А ну как завтра схватят тебя кнежьи дружинники – что тогда? Руки тебе отрубят да в темницу бросят, там и помрешь.
И так ласково, так нежно она это говорила, и гладила, гладила девочку по голове.
Иволга повернулась и посмотрела вдруг на Орешника, кажется, только теперь его заметив. И столько страха, столько мольбы и муки было в глазенках ее, что внутри у него все съежилось. Да на что сдалась его ведьме-жене эта несчастная девочка? Какое зло на сей раз задумала, тварь подлая?
Он подумал, что настал час наконец-то проявить хоть толику твердости; рот уж раскрыл, чтоб велеть жене не силовать дитя и не стращать, но тут Медовица подняла на него глаза. И – как всегда, будто отрезало, все мысли из головы тут же повылетали. Беспомощно Орешник смотрел, как Медовица выводит девочку из горницы, крепко держа ее за руку, и на самом пороге уже снова поймал Иволгин взгляд – пронзительный, взывающий к милосердию...
– Где девочка? – спросил Орешник Медовицу тем же вечером, когда вошла она в спальню и стала расплетать косы.
– В чулане, – отозвалась та, поглядывая на себя в зеркало, водя гребнем по роскошным своим волосам. – Упрямится, негодная. Сбежать хотела, так я ее заперла – денекдругой посидит, одумается.
– На что она тебе сдалась? Зачем ты ее силуешь? Медовица не ответила ничего. Вместо этого обернулась, встала, стянула сорочку через голову. И хотя не юной была она уже, у Орешника вновь от одного лишь вида тела ее перехватило дух – ровно как одиннадцать лет тому, когда подглядывал за нею в бане, не смея и помыслить, что белое это тело однажды само дастся ему в руки. Медовица постояла перед ним немного, положив руки на широкие бедра, покачиваясь на носках, потом повела ладонями выше – по животу, по-девичьи тонкой талии, будто и не рожала вовсе, подхватила руками большие, сочные груди, пальцами придавила вишневые соски... Орешник вскочил и кинулся к ней, схватил, сжал. А она засмеялась чуть слышно, откидывая голову в сторону, подставляя его губам лебяжью шею.
Как ни крути, а похоть Медовица Древляновна будила в Орешнике столь же легко и играючи, как и страх.
* * *
Девочка-приблудка так у них и осталась.
Уж неведомо, что там наговорила ей злая женщина, чем запугала, что посулила, – а осталась Иволга и сбежать не пыталась больше. Медовица отделила ей горницу рядом со своей, всем сказала, что девочка эта теперь – дочка ее. Соседи потолковали про это немного, да и угомонились – все знали, что после рождения быстро умершего четвертого сына Медовица больше забеременеть так и не смогла. Не всякая в на ее месте взяла приемную дочку; умилялись соседи Медовицыной доброте. И никакого удивления ни в ком не мелькнуло – а только того Медовице и надо было.
Вскоре Орешник понял, что к чему. То, что увидела его жена в роще, то, что высматривала день за днем вокруг и что, должно быть, показал ей вертлявый клубок воска в холодной воде, когда ворожила, – все это велело ей взять себе ученицу, которой сможет она передать свою нечистую силу. Каждый день теперь Медовица спускалась в погреб вместе с Иволгой и подолгу сидела там с нею – другим говорила, что обучает девочку хозяйству, показывает, что где лежит да как муку с соленьями правильно хранить. Днем, бывало, сидели рядом вместе в светлице, и учила Медовица девочку читать – когда кто-то видел, то сказки, былины и песни. А когда не видели, или они думали, что их не видят, то читала Иволга вслух заговоры и наветы, от одного только звука которых у Орешника дыбом волосы на затылке вставали.
– ...дай мне ключ дверь отпереть, где зверь лежит страшный, древний, звать его тоска. Отпущу его и пошлю на раба моего, пусть он по пятам за ним ходит, тяжкой тоской изводит... А дальше...
– Слово мое крепко, – говорила Медовица строго, и Иволга, краснея, шептала:
– Слово мое крепко...
А Орешник, стоявший у приоткрытой двери и глядевшей на них, чувствовал холодные кусачие мурашки на руках.
Не ему одному не нравилось то, что в доме их стало происходить. Цветана поворчала немного, но успокоилась – дочериным прихотям препон чинить не привыкла. А вот Желан со Златом встретили новоявленную сестрицу холодно, недобро. Сперва им, конечно, любопытно стало, ведь никогда у них не было сестры. А сестра, они себе так мыслили – это такая большая кукла, которую можно бить и толкать, а она станет кричать и плакать – ну, веселье какое! Первые дни ходили за нею по пятам, потом, осмелев, стали дразнить да пинать, за подол и за косы дергать. Особенно старался Желан, и Злат, во всем наследовавший старшему братцу, не отставал. Стоило Орешнику выглянуть за порог и увидеть Иволгу во дворе – непременно за нею волоклись то один, то другой, а то и двое разом. Сперва оно все вроде необидно было, не со зла. А потом Орешник как-то зашел за амбар – дворовой ему сказал, там сзади крыша прохудилась, он хотел посмотреть, – и увидел такое, что так и встал на месте.
Иволга лежала на земле, съежившись, обхватив коленки руками и туго натянув на них порванную юбку, и шипела, будто злая кошка, загнанная собаками на плетень. Черные глаза ее сверкали зло, но не такая это было злость, как в Медовицыных очах, когда она кого взглядом пригвоздить к стене надумывала. Это была такая злость, которая появляется от отчаяния, когда ничего другого не остается уже, кроме как шипеть и злиться. По оба бока от Иволги стояли Злат и Желан. У каждого в руке была длинная хворостина, и этими хворостинами они мерно, дружно, слаженно охаживали девочкины бока – Злат левый, Желан правый. Она, видать, пыталась вырываться и вертеться, потому что платье ее было все в грязи от подошв, заставлявших ее лежать смирно. Она и лежала теперь, вздрагивая, но не кричала, не плакала, только глядела так люто и с такою тоской, словно птица из тесной и грязной клетки.
Долго Орешник смотрел на это – уж всяко дольше, чем надо было. Сам не помнил, как потом сорвался с места, подскочил к сыновьям, повыхватывал у обоих хворостины – да с замахом огрел сложенными вдвое прутами по лицу сперва одного сына, потом другого. Те с воем поотскакивали, хотели бежать, но Орешник, изловчившись, схватил одного из них за шиворот – не глядя, какого. Попался Злат; Желан уже с криком бежал прочь. Орешник успел увидеть кровь на его щеке – рассекло прутиком.
– А-а-а, пусти, пусти, я мамке скажу! – крикнул Злат и зарыдал, когда Орешник встряхнул его, все еще крепко держа за шиворот.
– Вы что тут творили, нелюди? – спросил сквозь зубы. – Два здоровенных лба – против одной маленькой девочки. Вы что себе удумали, а? Совсем уже потеряли и срам, и разум?!
– Она ведьма! – выкрикнул Злат, кинув на притихшую Иволгу ненавидящий взгляд. – Ведьма, вот как! Матушку околдовала совсем, украла у нас! Она на нас теперь не глядит, не зовет поиграть – все только с ней, сучкой этой...
Орешник ударил его по губам. Несильно ударил, только когда грязное слово слетело с губ восьмилетнего мальчика. Тот заревел громче, размазывая по лицу слезы. И стало вдруг Орешнику противно, а больше того – стыдно за то, что это вот – его сын. Кто ж допустил, чтобы он вырос такой размазней и мразью? Сам ты, Орешник Мхович, и допустил...
– Иди, – сказал Орешник, пуская его, и тот тут же дал стрекача через двор, так что пятки засверкали. Орешник глядел ему вслед, хотя он уже скрылся, – и вдруг что-то снизу и сбоку налетело на него да так вцепилось и сжалось, что он вздрогнул и покачнулся, едва устояв на ногах.
То была Иволга, растрепанная, в порванном платье. Обхватила ручонками его за пояс и прижалась всем своим дрожащим тельцем к Орешниковой ноге, ткнулась личиком ему в бок. Орешник оторопело смотрел на нее, чувствуя, как она жмется и дрожит. Потом нерешительно опустил ладонь на чернявую макушку.
– Не бойся, милая, – сказал. – И прости... дурные они мальчишки, глупые. Они тебя больше не тронут.
Иволга вскинула голову. Личико ее, маленькое, худенькое, было таким серьезным, что в иной день это было бы смешно.
– Они говорят, я ее у них украла, – сказала девочка, вглядываясь в Орешника. – Но мне же ее не надо... не надо! Она сама меня заставляет воск лить, и книжки читать эти страшные, и травы ночью копать на погосте, спиной к луне... а я не хочу! Не хочу, пусть она меня отпустит, пусть они ее себе забирают назад!
Последние слова она прокричала – и, ткнувшись снова лицом Орешнику в бок, наконец расплакалась. Тут уж он не выдержал и взял ее на руки, и она тут же обхватила ручонками его шею. Орешник сел на скамью за амбаром, поглядывая на крышу – и впрямь прохудилась, – и сидел так, молча баюкая на руках дочку, которой у него не было и не будет никогда.
* * *
Он не знал, чего ждать от Медовицы после случая за амбаром – и удивился, когда она сделала вид, будто ничего не стряслось. Сыновей не наказала, конечно, но и к Орешнику не стала холодней – наоборот даже, ту ночь он долго еще помнил, при одной только мысли о ней в паху сладко замирало. С тех пор Злат и Желан Иволгу не задирали – то ли отца все-таки испугались, то ли мать им что-то об этом сказала, Орешник не знал. Делали теперь вид, будто вовсе ее нет, внимания уделяли ей не больше, чем любой из дворовых девок, хотя она с ними в одних горницах жила и ела. Наказать тем, видать, думали – а она их равнодушию только рада была. Еще больше времени стала проводить теперь за Медовицыной наукой, и все чаще видел Орешник ее, склонившую чернявую головку над книгой, старательно водящую тонким пальчиком по строкам, прилежно выговаривающую новые, все более сложные слова. Напоминала она Орешнику его самого, каким он был в ее годы, как старался постичь науку, которой учил отец, и не только оттого, что боялся ремня, а потому что любил Орешник отца и не хотел огорчить. И когда он подумал об этом, вдвое жальче стало ему эту девочку – для кого, бедная, трудится? Для чужой и жестокой бабы? С этой мыслью Орешник подошел как-то к Иволге, заглянул ей за плечо, погладил по голове, похвалил за учение. И так она вдруг расцвела – словно солнышко вышло из-за тучи, заволакивавшей лицо ее все эти месяцы. С той поры Орешник стал частенько заглядывать в горницу, когда Иволга там одна сидела. Заодно потихоньку вызнавал, чему ж там такому Медовица ее учит – любопытство его разбирало. А Иволга только и рада была – часами могла, сидя на скамье и болтая тонкими ножками, не доходящими еще до полу, щебетать и рассказывать Орешнику все, что узнала.
– А еще есть такая трава – называется колюка. Ее собирать надо на опушке меж тремя дубами и непременно в ущербную луну, а потом сушить на глиняной полочке, а потом меленько потолочь и хранить непременно в бычьем пузыре. Тогда еще через две луны надо обкурить этой травою стрелы, и ни одна птица тогда не уйдет от такой стрелы, и никакой злой наговор к такой стреле не прилипнет. А еще есть разрыв-трава...
И говорила, говорила – только сиди да слушай, и глаза ее блестели почти точно так, как глаза Медовицы, глянувшей на Орешника сквозь зазор в частоколе бани.
– Да ну! Вот оно как! Надо же! – дивился Орешник, лукаво поглядывая на девочку и видя, как ей радостно от его нарочитого удивления.
Однажды он ей сказал:
– А ты только знаешь это все или уже что-то делать умеешь?
Просто так спросил, безо всякой задней мысли. Они сидели тогда во дворе; было пополудни, Медовица куда-то ушла, младший их сын убежал играть на улицу, а старшие, объевшись лепешек с парным молоком, храпели у себя в горницах. Орешник же только что вернулся из Купеческого Дома, где с зари проверял привезенный давеча товар, и мог позволить себе минутку отдыха, прежде чем садиться за расходную книгу. А лучшим отдыхом для него в последнее время стало посидеть да поболтать с ученицей своей жены – столько жизни, тепла и радости было в этой девочке, когда она забывала о своих страхах...
В ответ на его вопрос Иволга крепко задумалась, нижнюю губу зубками прихватила. Потом вдруг села прямо, развела руки в стороны, вскинула личико к солнечному небу и быстро-быстро зашептала что-то, да не по-кмелтски, и не по-фарийски, и не по-андразийски даже. Эти языки Орешник знал, но те шипящие, скользящие, извивающиеся звуки, что слетали с Иволгиных губ, были непонятны ему, хотя и знакомы – не раз слышал он их от Медовицы. Он враз пожалел, что попросил Иволгу показать свое умение, хотел уже было остановить – и тут она вдруг свела руки вместе, хлопнула в ладоши, крикнула «Смотри!» и вскинула руку вверх, указывая куда-то. Орешник посмотрел – и дыхание задержал.
Невесть откуда, с неба, прямо к ним летели бабочки. Белые, желтые, голубые, огромные и совсем крохотные – не меньше дюжины их было, и расцветили они знойный полуденный воздух яркими и радостными красками. Одна их них, самая большая, с лиловыми глазками на крылышках, зацепила щеку Орешника, встрепенулась и села вдруг ему на ладонь. Иволга засмеялась, и бабочка, испуганно вспорхнув, снова взмыла ввысь. Сделала вместе со своими подружками еще кружок или два, будто не понимая, отчего вдруг какая-то сила подняла их с цветочных стебельков на лугу и повлекла сюда, к мужчине и девочке, сидящим на заднем дворе богатого дома. Покружили так, покружили, да и улетели обратно.
– Вот, – сказала, улыбаясь, Иволга. – Так умею.
И чуть только не замурлыкала от радости, когда ладонь Орешника коснулась ее темени.
– Какая же ты у меня умница, – сказал он так искренне, как мало что в жизни своей говорил.
Оно и правда. Умницей росла девочка, на зависть, на загляденье.
Вскоре после того из амбара во дворе Орешникова дома пропало пять мер дорогой галладской ткани. Шелк тончайший, ювелирной выделки, полдюжины пядей его шли за пятьдесят золотых. Досадная пропажа, немалый убыток, а хуже всего – взял кто-то из своих, из работников, служивших у Орешника. Да как вызнать, кто? Всего их уже была пара десятков, да с десяток имели свободный вход на Орешников двор, когда помогали грузить особенно ценный товар. Шелк пропал посреди ночи, амбар был заперт – ключ, который Орешник носил на поясе, тоже украли, он только наутро хватился пропажи. Ну, на кого подумаешь? А на кого-то думать было надо, потому что могло такое во всякий раз снова повториться.
И пока Орешник голову ломал, как бы без лишнего шуму дознание провести, Медовица вдруг повернулась к Иволге за ужином и сказала:
– А что, милая, как думаешь, не пора ли хлеб отрабатывать?
Грубо это прозвучало, несправедливо – ведь не просила Иволга Медовицу себе в наставницы. А все равно покраснела, услышав попрек, но тут же успокоилась и кивнула, не смутясь. Медовица кликнула служанку, велела принести с кухни тупой нож. Как принесли, всех выгнала из горницы, только Орешнику и Иволге остаться позволила. Дверь изнутри заперла. Протянула девочке нож рукояткой вперед. Та взяла, наклонилась над зажженной свечкой и трижды ударила затупленным острием по пламени, сбивая его, со словами:
– Кто чужое украл, кто не свое взял, во сне ко мне приди, нож из руки забери, не то изрублю твою душу, как мясник рубит свиную тушу.
И как только последнее слово вымолвила – закатила глаза и повалилась на скамью.
Орешник мигом вскочил, бросился к ней, подхватил, стал звать. Поплескал водой на лицо, но толку не вышло – лежала Иволга без чувств, откинув голову, почти не дыша, и сердце ее едва-едва билось.
– Что смотришь! На помощь зови! – гневно крикнул Орешник сидящей у самых дверей Медовице. Та даже рук, сложенных на поясе, не расцепила, и ни волосок не шелохнулся в перекинутой через плечо каштановой косе.
– Все с ней в порядке. Так и должно быть, – сказала ровно, и тут – и впрямь, задышала Иволга громко, часто, загребла слабыми пальчиками Орешников рукав.
– Нож... – прохрипела, силясь подняться. – Нож...
Хватились – а нет ножа. Иволга, падая, выпустила его из руки, Орешник своими глазами видал, как упал тот на лавку, а с лавки на пол, и должен был теперь лежать под столом. А не было его – ровно бесы утащили. И дверь в горницу была заперта, и сторожила ее Орешникова жена.
– Теперь у кого нож, тот и вор, – сказала Медовица, вставая. – Ну, милая, говори, кто во сне привиделся.
Иволга сказала.
Никогда еще не видал Орешник у жены своей такого лица. На миг подумал, сейчас кинется она на девочку да душу из нее вытряхнет – и из Орешника заодно, если попробует помешать. Но если бы и впрямь кинулась, он, даже зная это, все равно помешал бы. И потому, когда стала Медовица, сцепив кулаки, подниматься, Орешник глянул на нее так, что она вдруг враз села обратно на лавку.
– Сама сказала: у кого нож, тот и вор, – сказал он ей сухо и отрывисто. – Иди теперь, проверяй. Чтоб не говорила потом, будто наговор.
Так и сделали. И сама Медовица, собственною рукой вытащила тот самый нож из-под подушки сына своего Желана. Там же, в его горнице, поискав, нашли и пропавший шелк, спрятанный меж нестираного тряпья.
Желан сперва отпирался, вины признавать не хотел.
– Она же ведьма! – кричал. – Ей все одно, куда этот нож проклятый закинуть, а как нож, так и шелк этот треклятый закинула, вместе с ключом!
– С каким это ключом, Желан? – спросил Орешник, пристально глядя на сына.
– А?..
– С каким, спрашиваю, ключом? Не нашел я у тебя никакого ключа. И никому не говорил, что украли его, всем сказал, будто замок на амбаре был взломан. Нарочно сказал, чтобы вора с толку сбить. Про какой же ключ ты толкуешь, сынок?
И вот даже так, пойманный на горячем, продолжал Желан упираться и врать в глаза. Только когда Медовица притащила, отловив за амбаром, прятавшегося там Злата да велела ему в глаза ей глядеть и правду говорить, и когда Злат разревелся и признался, что пособничал брату и стащил у отца ключ от амбара, пока тот был в бане, – тогда уж смыслу не стало отпираться.
– А что он денег мне совсем не дает? – брызжа слюной, кричал Желан. – Ни на свирель, ни на кушак, ни на новые сапоги! Я в старых почитай полгода хожу уже, все каблуки истоптал, меня девки на смех, гляди, вот-вот подымут!
– Рано тебе еще о девках думать, – сказал Орешник, и Желан скривил губы.
– Что? Рано, говоришь? А сам-то, небось, в мои лета уже бегал кругом бабской баньки, что на Золотом Пруду, в зазорины меж бревнышками-то заглядывался, на...
И умолк, вскрикнув. Орешнику враз глаза красной пеленой заволокло – так что не сразу понял, отчего. Как... да как он только... как узнал... и как посмел?!
Но гнев разом спал, лишь только Орешник понял, отчего умолк его дерзкий сын. Как увидел взгляд его, обращенный на мать, стоящую с приподнятой и горящей от оплеухи рукой, – так и понял.
– Злат, – сказала Медовица, не отводя от старшего сына глаз. – Сходи-ка во двор да принеси ивовых розог, какими слуг учат. И чтоб бегом.
Злат даже звука не издал, тихо, как мышка, шмыгнул за дверь. Желан таращился то на мать, впервые в жизни поднявшую на него руку, то на отца, стоящего с нею рядом. И дивно ему, должно быть, и дико было смотреть, как чуть не впервые на его памяти были они заодно.
Злат прибежал обратно, мелко дрожа, протянул Медовице розги. Та сказала:
– Вы оба украли у родных отца с матерью, укусили руки, вас взрастившие. Ты, Златко, сынок, вовремя повинился, потому тебя мы с отцом прощаем, а в знак того наказание тебе будет от любящей материнской руки.
Сказав так, она дважды хлестнула Злата по плечам хворостиной. Тот ойкнул, больше от неожиданности, чем от боли, и расплакался. Медовица отвернулась от него к разинувшему рот Желану.
– Ты, Желан, уши имеешь большие да язык длинный, и ни от одного, ни от другого не тянется к разуму твоему ни одной ниточки. И материнской щадящей руке делать с тобою нечего.
Повернулась к Орешнику и вложила сложенные хворостины ему в руку. Ничего не сказала. Посмотрела только, и почудилось ему – будто со стыдом, словно прощения попросить хотела и за беспутных сыновей, и за себя самое.
Потом Злата обняла за плечи и увела, и дверь в горницу прикрыла, а Орешник сделал то, что следовало сделать давным-давно.
* * *
Сказать, что пришли в дом Орешников покой, благодать да сыновнее послушание – значило бы сильно покривить против правды. Сказать, будто стали Медовица с Орешником ближе и ласковее друг к другу – значит покривить и того сильнее. Все осталось как было, только Желан научился держать при себе длинный язык да загребущие руки, Злат теперь осмотрительней подражал брату, научившись отделять безобидную похвальбу от злого поступка, а Медовица стала реже ласкать старших сыновей и чаще улыбаться меньшому, Иголке. Тот к тому времени довольно уже подрос, чтоб заглядываться на рослых и сильных старших братьев, да только теперь, когда они чуток присмирели, ему от этого заглядывания было уже поменьше вреда. И то хорошо.
Иволга теперь стала ворожить почти так же часто, как сама Медовица. Не раз заставал ее Орешник шепчущей над товаром, сложенным для погрузки и отправки на рынок, над молодой коровой, купленной на торгу, а то и над только что сшитой расписной сорочкой. И товар тогда разлетался в два дня по лучшей цене, корова была здоровенькой и по осени приносила теленка, а сорочка носилась, будто из железа сплавленная – не линяла и не рвалась. И невольно ловил себя Орешник на том, что всякий раз, когда удается Иволге нехитрое покамест колдовство, сердце его за нее радуется, гордится ею, как желало бы гордиться собственными детьми – да не срослось. И при мысли этой делалось Орешнику разом и радостно – за Иволгу, и горестно – за все, что в жизни его было неладно и что он исправить не умел. И мешались в нем эта радость с печалью, будто красная и черная нитки в Медовицыной вышивке.
Как-то раз проснулся он посреди ночи с чувством, будто не один. Стояло полнолуние, Медовица ушла в рощу искать траву кочедыжник, так что пустовала нынче его постель. Открыв глаза в темноте, Орешник замер, ловя в полумраке чужое дыхание. И услышал вдруг запах – такой знакомый, что разом его опрокинуло в давние годы, давно минувшие...
Пахло горячим воском, воском и клевером.
– Уйди, печаль, пропади, печаль. Сгинь, печаль, в тишь да марево, в омут озера водяным на дно, в даль далекую, за седьмой порог. Уходи, печаль, прочь от моего батюшки, отпусти его лоб и грудь, дай ему вздохнуть, улыбнуться дай. Пропади и сгинь, отпусти его, уступи его светлой радости. Слово мое крепко.
Так шептала маленькая Иволга, склонясь над постелью Орешника, а умолкнув, брызнула на него теплой водой и поцеловала в лоб. И ушла, тихо прикрыв за собою дверь, унося трепещущий на сквозняке огонек свечи.
А Орешник долго лежал еще, после того как стихли ее шаги, и смотрел на полную луну за высоким окном.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































